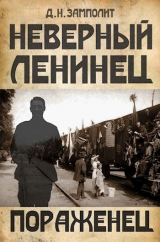
Текст книги "Пораженец (СИ)"
Автор книги: Д. Н. Замполит
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)
– Максимальная дискредитация судебных установлений?
– Друг мой Коля, не говори красиво! – поддел его Савинков.
Он тоже имел основания для гордости, именно его ребята добыли основные доказательства и опросили проблемных свидетелей. Ну как “опросили”… взяли за шкирку и крепко встряхнули, потом под запись, при понятых, подписи, все дела.
В дверь постучали, в приоткрытую щель заглянул один из Колиных доверенных сотрудников.
– К нам полиция, по делу Бейлиса.
– Продержать пять минут, – скомандовал Муравский.
Борис спокойно встал, попрощался и ушел через комнату отдыха, откуда вел секретный ход в подвал, а мы дождались служителей закона.
– Николай Петрович! Сколько лет, сколько зим, куда же вы запропали? – чтобы не заржать, я сразу полез обниматься к изрядно поседевшему Кожину, прибывшему в сопровождении полицейского. – У нас с вами редкая способность встречаться на обысках и арестах, мне вас очень не хватало!
Коля тихо давился смехом за столом, городовой стоял столбом в полном недоумении. Кожин с грехом пополам предъявил Муравскому уголовное обвинение по статьям 279 и 280 Уложения о наказаниях за оскорбления в адрес представителей власти и Киевской судебной палаты и совсем собрался его арестовать…
– Вы разрешите, я это сфотографирую? – я ухватил с полки Колин “Кодак”. – Не каждый день у тебя на глазах арестовывают члена Государственной думы! Вы прославитесь на всю Россию, Николай Петрович!
Теперь оторопел и Кожин, я видел, что ему стремно столь явно нарушать депутатскую неприкосновенность. После пяти минут раздумий он со вздохом согласился принять от Муравского обязательство оставаться в городе до судебного решения.
А пока Коля писал протест, Николай Петрович поведал, что после пожара в полицейской канцелярии его турнули в Екатеринбург и вот только сейчас он сумел добиться обратного перевода в Москву, хоть и с потерей в должности. И на тебе – сразу такая закавыка, которая может окончательно порушить его карьеру! Шесть лет изгнания сильно его изменили, вместо вальяжного и уверенного в себе пристава, которого я увидел в 1897 году, сейчас передо мной стоял сильно побитый жизнью человек. Хотя казалось бы – не ссылка, не тюрьма, не каторга, а вот поди ж ты… Да и вся сцена несостоявшегося ареста выглядела лишь слабой тенью прежних.
Минут через пять после ухода полиции в кабинет ввалился сотрудник с очередной телеграммой:
– В Киеве утвержден обвинительный акт, процесс через месяц.
Суета в конторе затихла как по команде. На мое недоумение Муравский пояснил, что начала процесса все ожидали уже через десять дней, а так будут лишних три недели все сделать как следует. И вместо Коли подготовить и послать туда адвоката Керенского, в первую очередь потому, что его тоже вот-вот изберут в думу, голосование как раз в этот месяц.
Вообще, проглядывая изредка бумаги в штаб-квартире “Правозащиты”, я постоянно натыкался на знакомые фамилии сотрудников – Крестинский, Венгеров, Андронников, Осоргин, Вышинский… Может, и однофамильцы, но мне кажется, что нет. Адвокатов-то на сотню губерний и областей России то ли пятнадцать, то ли шестнадцать тысяч всего. И добрая треть из них так или иначе связана с “Правозащитой”. Коля привлекал и такие фигуры, как Дмитрий Васильевич Стасов или совсем не левый Плевако, очень ловко играя на их приверженности строгому соблюдению законов.
А Керенский точно тот самый – и адвокат, и депутат и даже Александр Федорович. Ну и хорошо, что он в надежных руках Муравского.
***
Лебедев в последнее время был крайне деятелен и воодушевлен – еще бы, кандидат на Нобелевку и, по всем раскладам, он ее получит, – так что отбояриться от его настойчивых зазываний мне шанса не выпало.
Честно говоря, изначально читать лекцию перед научным бомондом пригласили Эйнштейна, как автора теории относительности. Не срослось, заболел двухлетний Эдуард Альбертович и поездку в последний момент отменили, но Лебедев набрал такой разгон, что я и не заметил, как согласился выступить перед студентами. На мой недоуменный вопрос, а что, собственно, инженер-расчетчик может рассказать вместо ученого-физика, Петр Николаевич без малейших сомнений назвал темой будущее развитие науки и техники.
Тут и сел старик.
А Лебедев взялся всерьез и припомнил мне и политические прогнозы, и аргон, и радио и вообще все наши с ним разговоры на эту тему и завершил пассажем, что мои воззрения, даже если и ошибочны, всегда крайне интересны и позволяют взглянуть на проблему с другой стороны.
Императорское техническое училище стояло на своем законном месте на берегу Яузы, фасадом на улицу Коровий Брод. Поменять бы эдакое непрезентабельное название, да только Коля Бауман прекрасным образом пережил первую революцию и стал одним из ценнейших сотрудников Красина, так что шансы на переименование улицы и училища в Бауманские пока иллюзорны.
В ИТУ я выступал не в первый раз, там меня давно уже считали за своего, а пять лет назад педагогический совет даже удостоил диплома на звание инженера-технолога, как лицо, “приобретшее известность своей полезной деятельностью на техническом поприще и сделавшее многочисленные замечательные усовершенствования в техническом деле”. Так сказать, инженер honoris causa.
Собралось около пятидесяти студентов и поначалу я хотел отбояриться развлекалкой в стиле эйнемовских открыток “Москва через сто лет”, но стоило мне после первых фраз глянуть в зал…
Они смотрели на меня. Все.
И глаза эти, глаза русских студентов, младших меня втрое, заставили поменять план и рассказывать серьезно. В конце концов, революционерам я про будущее вещаю, неужто российской науке и технике не порадею, не подскажу где магистральный путь?
– Некоторые тенденции вы способны уловить сами, например, уже сейчас понятно, что идет на смену углю и пару. Вот вы, например, как считаете? – обратился я к лобастому широконосому парню на первом ряду.
– Нефть и электричество! – уверенно ответил он.
– Да, весь 20 век будет веком нефти и электричества. Нефть – это автомобили, дизельные локомотивы, это авиация, которая способна не только поднять нас в воздух, но и забросить за пределы земного притяжения!
– Там же нет атмосферы! – возразили мне из задних рядов на фоне удивленного гомона.
– Реактивное движение! – бросили скептику из другого угла.
– Да! – поддержал я. – Уже состоялось первое военное применение аэропланов, а война, как вы знаете – колоссальный катализатор развития техники. Так что лет через сорок ракеты будут способны пересекать тысячи верст за несколько часов и выведут человека в безвоздушное пространство…
И еще два часа я рассказывал про радио и телевидение, развитие химии, синтез новых материалов, лекарств, удобрений. Про элементную базу и развитие на ее основе вычислителей и всемирной системы обмена информацией. Про новые виды энергии – про радиоактивность все знают, пусть знают и про то, какие силы таятся в атоме.
– Но для чего нужны все прорывы в науке и высоты техники? Только ли для удовлетворения нашего любопытства? Нет, коллеги! Вся наша деятельность должна служить улучшению качества жизни наибольшего числа людей. Нужно помнить, что новая техника влияет на структуру общества – например, управлять аппаратами, не требующими грубой силы, уже сейчас могут женщины. А в будущем, при сохранении этой тенденции, они составят до половины числа работающих!
А вот тут, похоже, на студентов накатил ступор больше, чем с ядерной энергией. Нет, что женщина тоже человек, лучшие умы уже догадались, просто общество полного равноправия представить пока трудно. Ничего, сделаем революцию – подправим.
К концу я прямо-таки упарился. Еще бы, попробуйте внятно описать смартфон людям, не видевшим даже уоки-токи.
Наибольшее впечатление на них произвели радиоуправляемые устройства. Даже помечтали немного, в духе “человека заменит робот”, а я накидал идеек про бытовую технику.
Но что меня порадовало больше всего – вопрос в самом конце:
– А что прямо сейчас можем сделать мы?
– Учиться, учиться и еще раз учиться! – ответил я известной цитатой.
– Мы хотим не просто учиться, мы хотим приложить свои молодые силы к нужному делу! – снова встал широколобый. – А кроме танцулек и в лучшем случае студенческих кооперативов и нет ничего.
Я задумался. И придумал – эх, простите меня, Владимир Модестович Брадис!
– Есть такое нужное дело. Логарифмические линейки с собой?
Несколько человек подняли руки.
– Назовите мне куб семнадцати и трехсот восьмидесяти девяти тысячных, натуральный логарифм от полученного числа и, например, тангенс угла в сорок шесть градусов и семь минут.
Заелозили студенты на скамейках, задвигали полозки линеек.
– Можете не считать, я знаю, что вы справитесь. Но вот скажите, удобно ли будет иметь книжечку с таблицами уже готовых таких вычислений, скажем, до четвертого знака?
Зал радостно загудел.
– Вот вам и дело. Составить таблицы квадратов и кубов чисел, квадратных и кубических корней, логарифмов натуральных и десятичных, прямых и обратных тригонометрических функций.
– Громадная работа!
– Конечно. Вот и сделайте ее большим коллективом, всем училищем! Выберите старших, составьте план, распределите задачи, организуйте проверку. Со своей стороны я обещаю издать таблицы с указанием фамилий всех, принявших участие в деле.
Глава 12
Осень-зима 1912
Уже которую версту за окнами вагона тянулись сплошные поля кукурузы, обломанной и пожелтевшей, с редкими полосками хмеля. Благодатная Румыния после осенней Москвы дарила последнее тепло и солнце, а Митя ехал на войну.
Получилось все довольно внезапно.
***
Телеграмма Морозова о том, что выкуп лаборатории пластических масс перенесен на весну, застала Митю в Сокольниках. Он закончил отчет о поездке в Никольское и спустился вниз, в гостинную, где отец уже час сидел с Болдыревым, прибывшим в Москву проездом на Балканы.
– Никто не представляет масштаба, – с горечью рассказывал генерал, – считают, что максимум будет несколько очагов, подобных мукденскому.
– Генералы всегда готовятся к прошедшей войне, да.
– Вы не представляете, до какой степени! – воскликнул в сердцах Болдырев. – Они даже намерены отказаться от дальнейших закупок коксовой смолы!
– Простите? – переспросил Михаил Дмитриевич.
Митя навострил уши, услышав знакомый термин.
– Она идет на производство взрывчатых веществ. А комитет считает, что накопленные запасы избыточны! Избыточны, понимаете? А там запаса чуть больше, чем потребовалось в Маньчжурии!
– И что, никаких способов повлиять на решение?
Болдырев вскочил и крутанулся на каблуках, звякнули награды.
– Я уже счет потерял, сколько рапортов и докладных подал! – зло выплюнул Лавр Максимович, стукнул кулаком по оконной раме и уже спокойнее продолжил. – Весной закупку прекратят. Экономия, мать ее.
– Не переживайте так, ну возобновят потом.
– Да промышленники вообще свернут производство! Им невыгодно!
– Краски, – неожиданно для себя самого влез Митя. – Красная, синяя и розовая.
– Что? – обернулись к нему старшие.
– Морозов. Коксовая смола нужна для красителей. И для бакелита тоже. Савве Тимофеевичу это может быть интересно.
По взмаху отца все трое уселись в широкие кожаные кресла.
– Так, Лавр Максимович. Если Митя прав, то есть шанс сохранить производство. Когда будет объявлено о прекращении закупок, Морозов сможет выкупить объемы по минимальной цене. Кто знает о решении?
– Пока никто, это в рамках комитета. Промышленникам не сообщают, чтобы они не успели стакнуться.
– Тогда держите в курсе.
Болдырев кивнул, помедлил и с досадой хлопнул себя по колену.
– Черт-те что! Социалисты больше радеют о военном производстве в империи, чем собственные генералы.
– Так за чем дело стало? Давайте к нам, в трудовики, – широко улыбнулся отец.
Болдырев с усмешкой отмахнулся:
– Нет, шалишь, пока нет.
Но Мите показалось, что на самом деле генерал серьезен и прозвучавшее “пока” совсем не оговорка.
– Кстати, а ты чем сейчас занят, молодец? – вдруг обратился к нему Лавр Максимович.
– До апреля ничем, – поведал свое огорчение Митя.
– Хм, – оглядел его Лавр Максимович.
Переглянулся с отцом и, прищурившись, вроде бы в шутку предложил:
– А давайте я его заберу с собой, вольнопером?
***
Поезд замедлил ход, заскрипел колесами по рельсам, окутался паром и, лязгнув наконец буферами, встал напротив вокзала с вывеской “Фокшаны”.
– Ну что, Дмитрий Михайлович, не екает русское сердце?
Митя удивленно обернулся к вышедшему из купе полковнику Лебедеву.
– Плохо, господин вольноопределяющийся, военную историю знаете, плохо! Ну, вспоминайте, селение Фокшаны, а чуть в стороне река Рымник.
Митя хлопнул себя по лбу:
– Ну конечно, граф Суворов-Рымникский!
На перроне и вокруг вокзала, за границами первого и второго класса, кипела жизнь. В двери вагонов пробивались женщины с младенцами на руках, ногами проталкивая вперед прочую поклажу. Выжженные солнцем до черноты крестьяне, придавленные к земле кулями и мешками. Цыгане в вышитых жилетах и невоообразимых штанах из бархата… Крики, гвалт, смесь болгарских, румынских, венгерских слов… Невероятно важный начальник станции у колокола… Местный бомонд чинно фланировал по перрону… Да, встреча международного экспресса в провинции – значимое светское мероприятие… Офицеры гарнизона в голубоватой форме и каскетках подчеркнуто официально козыряли своим русским союзникам…
– Ну что же, пойдемте заниматься дальше, – вернул Митю из созерцания Лебедев.
Проторенная Медведником тропинка пригодилась еще раз, уже набивший руку Пал Палыч готовил второго кандидата к экзамену на офицерское звание. Занимались они всю дорогу и даже в Бухаресте, где группу офицеров Главного штаба задергали местные коллеги. За два дня остановки румыны устроили, кажется, три или четыре банкета, вино, будто мало его выпили за столом, слали и слали в вагон корзинами. В глазах мелькали аксельбанты, яркое шитье, золотые и серебряные нашивки вместо звездочек у лейтенантов и майоров, так что когда пришла телеграмма о дальнейшем маршруте, все вздохнули с облегчением.
Шестая балканская “держава”, Румыния участвовала в войне исключительно в качестве моральной поддержки, но пыжилась куда больше остальных, затмевая блеском загула военные успехи союзников. Митя вспомнил богато разодетую даму на вокзале, вокруг которой вились офицеры. Это оказалась любовница одного из королевских министров, получал он весьма скромное содержание, но имел доступ к государственному бюджету. И туалет дамы, ее роскошная парижская шляпа, кольца, бриллиантовые серьги и пять оборотов жемчуга вокруг точеной шеи со всей несомненностью это подтверждали.
Болгарскую границу пересекли на дунайском пароме из Журжево в Русе, где группу ожидал другой вагон, на этот раз до Софии. Собирались-то ехать напрямую, через Тырново на Стару Загору, но в горах у Айханли что-то случилось с полупостроенными путями и пришлось делать крюк через столицу. Время коротали в разговорах.
– Коалиционная война нескольких союзников без предварительного договора! Даже без попытки предусмотреть и прописать результаты хоть минимально точно! Это настоящее безумие! – в очередной раз кипятился Лебедев.
– Да, икнется болгарам после окончания, – меланхолично поддержал его Болдырев.
– Почему? – удивился Митя.
– Сейчас у всех союзников один враг – Турция. Стоит ее побить, начнется раздел завоеванной территории, без драки не обойдется.
– Это я понимаю, почему именно болгарам икнется?
– Видишь ли, Митя, у всей Балканской лиги, кроме Черногории, есть что делить с Болгарией. Грекам хочется Фракию, сербам Македонию, даже румынам Добруджу.
– Да, Румыния ощущает большую потребность в присвоении того, что плохо лежит, – иронично заметил Медведник.
– Бисмарк вообще считал, что румын – это профессия, – кивнул Лебедев.
– А вы знаете, господа, как начинается каждый рецепт в румынской поваренной книге? – неожиданно всунул голову в купе еще один офицер миссии и торжествующе закончил: – Украдите кастрюлю!
После шуточек о румынах Митя упрямо свернул разговор обратно:
– Но ведь такое поведение союзников нечестно! Болгария – хребет коалиции, она несет главные потери…
– И будет в наибольшей степени ослаблена. Вот и накинутся как псы, и Турция влезет, не удержится.
– Псам хоть можно кость кинуть, а тут…
– Кость? Кость… Хм. А пойдемте-ка, Пал Палыч, посекретничаем, – и Болдырев оставил Митяя вдвоем с Егором.
– Война, Митя, вообще нечестная штука. Вся стратегия суть учение о том, как скопом бить слабого.
– Ну и зачем?
– А ты у отца спроси, зачем он меня в Главный штаб после Сахалина определил.
***
В Софии все прошло на удивление быстро, наверное, оттого, что в стране не сложилась аристократия. После освобождения от турок место элиты заняли не боярские потомки, как в Румынии, а люди “с земли”, не успевшие еще обрасти амбициями.
Лебедев нырнул в военное министерство, а Митю оставил ждать рядом, в скверике. Буквально через пять минут к нему подошел хорошо одетый господин, отрекомендовался военным корреспондентом газеты “Киевская мысль” и начал расспрашивать, упирая на русское влияние в Болгарии. Митя отнекивался и репортер отстал, успев всучить свою карточку с фамилией Бронштейн и просьбой написать ему с фронта, как он выразился, “подать мнение образованного человека”.
Покрутив визитку в руках, Митя вдруг сообразил, что он видел этого человека раньше, в Швейцарии и что Вельяминов называл его Троцким.
– Вольноопределяющийся! – внезапно начальственно проревели сзади.
Митя чуть не выронил карточку, развернулся и встал во фрунт перед незнакомым интендантским подполковником, который даром что не топал ногами. Видимо, увлекшись воспоминаниями, Скамов-младший пропустил появление старшего по званию, чем вызвал его гнев. Впрочем, увидев на боку у Мити кобуру, пуще прежнего интендант вздурился и принялся орать, что вольноперам револьверы не положены. Митя спокойно рассматривал его, как биолог редкий экземпляр козявки и от этого взгляда, без тени испуга или почтения, подполковник сатанел еще больше.
Лебедев появился из дверей министерства очень вовремя и спас положение. Он буквально двумя словами угомонил раскипятившегося вояку, клятвенно пообещал, что револьвер изымут, подхватил Митю и скрылся с ним в ближайшей улочке.
***
Миссия Болдырева двигалась вместе с колонной болгарских войск под дождем, вернее, в холодной липкой мороси, которую изредка разгонял ветер.
Муравейник из людей и телег, растягиваясь и сжимаясь, медленно выползал из густого тумана и обратно пропадал в его вате без шума, криков, ржания лошадей, даже телеги обоза, казалось, двигались беззвучно. Только время от времени с востока долетали редкие пушечные выстрелы, но тоже так тихо и глухо, будто рвется истлевшая ткань.
Но вот вдоль бредущих людей и повозок пролетела команда и все мигом изменилось – фигуры в шинелях разбрелись по сторонам дороги, кто прилег на траву, успев подложить ранец под голову, кто потащил хворост из кустов. Еще пара минут – и от головы до хвоста колонны разожгли несчетные костры; струи молочного дыма потекли вверх, смешиваясь с туманом. На дороге остались только редкие посыльные, все больше верхом, но проехал и бедолага на велосипеде, увязая в разбитой сапогами грязи.
Из мглы вынырнула большая группа всадников, видимо, из шедшей правее кавалерийской колонны. Сверкнули золотые погоны и полковник Лебедев, вглядевшись, негромко сказал:
– Господа, это начальник дивизии генерал Сираков.
Все, от Болдырева до последнего денщика, поднялись и встали в подобие строя – офицеры спереди, нижние чины позади.
Один из болгар развернул коня в их сторону и уже издалека громко спросил:
– Къде е бригадният командир?
Митя понял, что тот обознался, форма-то почти одна и та же, разве что болгары свои сабли носят на таком низком подвесе, что они волочатся по земле.
Недоразумение сразу же развеялось, стоило порученцу подъехать поближе и вот уже вслед за ним придвинулись офицеры штаба и Лавр Максимович приветствовал начдива. Среди его свиты Митя заметил и напыщенного интенданта, тот оглядел вольнопера, убедился в отсутствии револьвера, грозно хмыкнул, будто он тут самый главный, и пять минут спустя ускакал вслед за остальными.
Через полчаса на дороге зазвучали команды “Стани! Стани!”, войники с обочин собрались в подобие строя. И снова зашагали в промозглой сетке осеннего дождичка согнутые под ранцами фигуры, скользя сапогами и постолами-цервулями по грязи. Прежнего порядка уже не было, роты перемешались, несмотря на старания поручиков и подофицеров. “Трета рота!”, отчаянно кричали из тьмы, “Трета рота!” и ему отзывались “Там, по-далеч трета!”, и так вдоль всей колонны потерявшиеся в тумане искали своих.
Наутро бригада входила в населенный болгарами фракийский городок. При виде войск во всех церквях зазвонили колокола, полковые оркестры играли марш за маршем и вскоре вся эта плотная масса, грозная и веселая, щетиня примкнутые ножи, как их зовут болгары, вступила на неожиданно пустынные улицы.
Но по мере приближения к городской площади стал слышен громкий и беспорядочный гомон и вот уже начало колонны утонуло в людском море, видны остались только сверкающие на солнце штыки. Крики, приветствия, даже аплодисменты, общий подъем в такт военной музыке – солдаты шли радостно и так геройски топали ногами по булыжникам мостовой, что сами дивились своему молодечеству.
Жители забрасывали их цветами, досталось и Мите – стоило кому-то воскликнуть “Руснаки! Руснаки!”, как на повозки с русскими офицерами пролился целый красочный водопад. Совсем молоденькая девушка, с черными глазами и косами, бросилась прямо на Митю, протянула ему большой белый цветок, засмущалась и нырнула обратно в толпу.
Но город и обед позади, и снова войска месили густую и скользкую балканскую грязь, в которую ежеминутно падал то один, то другой солдат.
На византийском мостике, который не чинили, наверное, с постройки, треснули доски настила и артиллерийская повозка завалилась на бок. Тут же роем ее облепили солдаты, возница нахлестывал упавшую на колени лошадь, но железо перетянуло и упряжка сорвалась вниз, увлекая за собой трех или четырех человек.
– Дявол да го вземе! – ругнулся командир батареи, снял фуражку и торопливо перекрестился.
– Хороший фейерверкер… был, – объяснил он Лебедеву, перейдя на русский.
В деревню перед позициями у Одрина они вошли уже в темноте, оставив за спиной еще один холмик с деревянным крестом и белым цветком.
Там, впереди, за линией окопов горела другая деревня – без пламени, без искр, только в черной тьме южной ночи ослепительно сияли окна, как будто за ними давали бал.
Митя опустился на землю и вспомнил отцовскую присказку про балы, красавиц, лакеев, юнкеров… Иногда Михаил Дмитриевич говорил ее весело, иногда с презрением, но Митя терял ее смысл в несуразностях. Почему вальсы Шуберта, когда обычно играют Штрауса? И при чем там обычнейшая полусдобная булка, семь копеек за фунт? Впрочем, он быстро выбросил эти мысли из головы, важнее устроить ночлег.
Второй день атак на укрепления Одрина или Эдирне, как его зовут турки, принес небольшое продвижение вперед. Лебедев с Митей торчали на пригорке, невдалеке от штаба полка, укрываясь за огромным дубом. В крону изредка залетала шальная пуля, срезала листок, ветку или кусок коры и уносилась дальше, в тыл.
Впереди, метрах в ста залегли войники со смешными клетчатыми мешками вместо ранцев, их фуражки торчали над бруствером странной ломаной линией. Вот на поле рванули первые снаряды, вот затрещали пулеметы, за каждым пригорком коротко засверкали красным залпы невидимых батарей, сливаясь до неразличения в общем адском грохоте.
Веток и листьев падало все больше, но канонада, щелчки винтовочных выстрелов и даже гудение высоко в небе аэроплана не смогли поколебать спокойствия полковника Лебедева. Не боялся и Митя, напротив, в нем росло странное веселье, совсем как писал граф Толстой “Вот оно, началось! Страшно и весело!”
Утренний туман тем временем рассеялся, и турецкий форт больно огрызнулся огнем, взвились столбы разрывов, потом еще, еще и болгарские пулеметы подозрительно затихли.
– Давай-ка, братец, то есть Дмитрий Михайлович, – оторвался от бинокля Лебедев, – дуй в пулеметную команду, посмотри, что там наш сахалинский герой делает. Что-то не нравится мне эта заминка.
Митя рванул к пулеметчикам, бегом, не прямо, а позади пригорков. За ними в беспорядке грудились телеги бригадного обоза, чуть вдали белели палатки пехоты, в оврагах коноводы держали храпящих лошадей. Среди этого бедлама повозка, трюхавшая в тыл, сцепилась оглоблями и постромками с коляской, ехавшей навстречу. И теперь возчики, под крики того самого надутого интенданта, пытались разобрать эту головоломку.
Подполковник мазнул по Мите взглядом и снова принялся орать, но довольно быстро заткнулся и даже живо соскочил с коляски, как только со стороны громыхнул залп. Митя оторвался от зрелища, скакнул за повозку и повернул голову туда, откуда стреляли.
Из-за дальнего холма на тылы бригады накатывались цепи турецкой пехоты.
– Где ваш револьвер, вольноопределяющийся?
– Сдал по вашему приказанию, господин подполковник! – ответил Митя, имея вид лихой и придурковатый, насколько это возможно в скрюченном положении за телегой, а сам тем временем лихорадочно думал, что же делать.
Бежать к пулеметчикам? А если следом выскочит турецкая кавалерия? Или аскеры развернутся и ударят в спину передовым цепям войников?
Их надо задержать, хотя бы на несколько минут, пока болгары сообразят, вон, в лагере горнисты уже заиграли сбор, сейчас, сейчас…
Пистолет у него в кармане, конечно, лежал, но идти против винтовок с привычным браунингом это чистое самоубийство. Только пехотная цепь…
– Тук! Тук! На мен! – заорал он выученные болгарские команды, вскакивая за повозками.
Первыми к нему подошли возчики, успевшие достать свое оружие и даже примкнуть штыки, затем два коновода, еще возчики, обозные и прочий тыловой люд, но все с винтовками.
– На нож! – встал Митя в полный рост с браунингом.
– Вы сошли с ума! Немедленно отходить! – заверещал из-под повозки интендант.
В боевом кураже Митя сунул ему под нос пистолет:
– Я тебя сейчас пристрелю, суку! – разогнулся и снова закричал, – На нож! На нож!
Нестройная толпа двинулась навстречу туркам, стреляя на ходу
– Напред! Напред! – кричал Митя, не давая им остановится.
Слева упал возчик, Митя подхватил его винтовку и перешел на бег. Он пытался вспомнить штыковые приемы, которым учили его Муравский и Вельяминов, но почти мгновенно осознал, что это бесполезно, думать сейчас нельзя.
Болгары проломились через кусты, хрустя сухими ветками под ногами и с ревом понеслись навстречу аскерам. И когда до сшибки оставалось всего метров пятьдесят, сбоку проснулись пулеметы.
Из-за соседних пригорков следом за махавшими саблями офицерами повалили войники, турки развернулись и побежали.
– На нож! На нож!
***
От кляузы интенданта Митю спасла, если так можно выразится, холера.
Подцепил он ее, скорее всего, хлебнув сырой воды после удачной контратаки и уже через день его с другими страдальцами погрузили на лазаретную телегу и увезли в тыл. По счастливому случаю они успели как раз к отправке вагона с холерными больными в пловдивский госпиталь, так что ночевал он в палате с высокими окнами и на чистых простынях. Молодой организм переносил заразу лучше многих, кипяченой воды давали сколько хочешь, болгарские врачи и сестры относились к руснаку с подчеркнутым вниманием и вскоре перевели в офицерскую палату выздоравливающих.
Майор, капитан и два поручика поначалу отнеслись к появлению в их среде вольноопределяющегося свысока и с предубеждением. Но как только выяснилось, что Митя доктор химии и что в опасную минуту он увлек обозников в штыковую атаку, приняли в свой круг. Да и фамилия сыграла – “Димитр Михайлов Скамов? Звучи доста българско!”
– Два корпуса из Одессы на черноморское побережье Турции, под Константинополь, и Балканский полуостров будет очищен от турецкого владычества, – в очередной раз излагал свои стратегические соображения майор.
Бои во Фракии затихли на зиму, новостей для обсуждения приходило все меньше. Вот и спорили о перспективах по которому разу, вспоминали и прошлое. Болгаро-сербская война, многовековые обиды на других соседей, македонский котел, в котором уже лет двадцать шла непрерывная движуха с пальбой и взрывами – недаром ручные бомбы во всей Европе именовались “македонками”.
Под эти разговоры Митя печально думал, что даже в просвещенном ХХ веке, на пути неудержимого прогресса, когда человек обуздал электричество, синтезировал новые вещества, поднялся в воздух – даже в такое время, в благодатнейших балканских краях, никак не получается найти другой способ совместного существования нескольких народов, кроме массовой взаимной резни.








