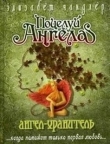Текст книги "Тристан из рода л'Эрмитов (СИ)"
Автор книги: A-Neo
Жанры:
Фанфик
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
Шесть лошадей медленно везли по мостовой повозку. Туловища их были полностью покрыты ниспадающими до самой земли попонами из чёрного бархата с прорезями для глаз и ушей, делающими животных похожими на призраков. Из того же материала, что и попоны, изготовлены были и их сбруи. В повозке, покрытой всё тем же траурным бархатом с белыми крестами по бокам, спереди и сзади; под золотым балдахином лежало набальзамированное тело того, кто совсем недавно управлял страной, вершил человеческие судьбы, плёл нити заговоров под сенью Плесси-ле-Тур. Побледнев, плотно сжав губы, Эсмеральда впилась взглядом в обращённое ней в профиль осунувшееся, остроносое восковое лицо. Она перенеслась памятью в ту страшную ночь, когда волосок, на котором висела её жизнь, множество раз грозил оборваться. Это он, тот, что лежал, окоченевший, под золотым покровом, приказал повесить её, науськал на неё свирепейшего из своих слуг. Это из-за него она стала пленницей Великого прево. Лошади увозили мёртвого короля всё дальше, следовавшие за ним слуги королевского дома, пажи и горожане совсем скрыли его от взора Эсмеральды, и только балдахин, поддерживаемый на восьми копьях, плыл над толпой. Девушка вздрогнула: она заметила Тристана. Великий прево, понурив голову, ехал шагом, чёрная попона, покрывающая круп его коня, мела камни мостовой. На его лице застыла угрюмая маска, серые глаза были мрачны, как холодная осенняя полночь.
Подчиняясь внезапно нахлынувшему порыву, заворожённая Эсмеральда сделала шаг вперёд, чтобы смешаться с процессией и следовать за ней среди горожан, несущих колокольчики и факелы. Проворный Жак, ни на миг не упускавший хозяйку из виду, с силой схватил её за руку и дёрнул обратно.
– Идёмте домой! – сказал он ей на ухо. – К чему вам это видеть?
Покорная, будто кукла на шарнирах, она позволила увести себя. Вернувшись на улицу Брисонне, в дом с крюками и канатами, она вошла в свою комнату, обняла козочку, зашептала ей, глядя в пустоту:
– Я спасена, Чалан! Спасена!
Но всё же ещё она не была свободна и вольна в своих поступках, по-прежнему судьба её зависела от прихоти Тристана л’Эрмита.
Тристан лишился господина – это происходило не в первый раз на его веку: когда-то он сопровождал в последнюю дорогу Карла Седьмого; но он всё ещё оставался при должности прево, которую покамест никто с него не снимал. Он покорился правящей руке нового короля – робкого, нерешительного, почти мальчишки, действующего от имени регента. Великий прево осознавал, насколько нежелательно сейчас его присутствие при дворе: он служил живым напоминанием об окончившемся царствовании, ненужным наследием Людовика. Он являлся одним из таких приближённых, от которых преемник предпочитает избавляться, чтобы завоевать признательность подданных. И всё-таки первым опале подвергся не он. Не прошло и суток после смерти Людовика, и лежал ещё усопший на пуховых подушках в своей комнате, когда Карл Восьмой призвал Тристана Отшельника и обратился к нему так, чтобы слышали все:
– Арестовать мэтра ле Дэна!
Тристан, привыкший к отрывистому, зловещему: «Возьми его, куманёк! Он твой!», на миг замешкался. Карл копировал интонации Людовика, осознанно подражал ему, но всё-таки в его повадках и в помине не сквозило того властного металла, приводящего Великого прево в благоговейный трепет. Новый господин натравливал его на очередную жертву, как прежний хозяин, и склонившийся в поклоне Тристан должен был подчиниться. Тем паче воля молодого короля совпадала с его желанием. Он, неумолимый как рок, подошёл к Оливье Дьяволу в последний день августа, громогласно объявил, не скрывая злорадства:
– Мэтр Оливье ле Дэн, граф Мёланский, именем короля я объявляю вас арестованным!
Оливье посерел от страха, накрепко стиснул челюсти, подавляя вскрик, по его надменному лицу прошла судорога. Он, люто ненавидимый и при дворе, и в народе, наживший множество врагов, втуне готовился к подобному исходу. Множество раз готовивший ловушки другим, изживавший неугодных, мессир ле Дэн очутился между жерновами, перемалывающими в труху и кости, и самую память о человеке. Дьявол, допущенный к управлению королевством, сверзился со своего пьедестала, и каждый считал своим долгом задеть его, безнаказанно выразить ему презрение. С отрядом гвардейцев развенчанный любимец Людовика был препровождён в Париж, за толстые стены Консьержери, в камеру с привинченной к полу койкой. Он не увидел похорон венценосного покровителя.
А Тристан л’Эрмит проводил господина до вечного пристанища, ехал за ним до самого Клери, где в базилике Нотр-Дам Людовик давно избрал место для погребения и всё необходимое подготовил заранее. По всему пути вслед кортежу раздавался звон: во всех храмах служили панихиды. Шесть лошадей в бархатных попонах довезли свою набальзамированную лёгкую ношу до базилики, залитой огнями бесчисленных свечей, с затянутыми траурным крепом хорами. И тогда, когда тело усопшего в свинцовом гробу, вложенном в деревянный, под заупокойную молитву опустили в усыпальницу, Тристан л’Эрмит среди других сеньоров, расстававшихся со знаками власти, бросил в разверстую могилу жезл прево. Он добровольно отрекался от своей должности: Людовик дал ему её, он же её и забирал.
Колокола Клери гудели, нищие, получившие щедрую милостыню, славили Господа. Тристан, вздёрнув губу, посмотрел в чистое, не затянутое ещё осенними хмурыми тучами небо. Ему, никогда не отличавшемуся сентиментальностью, сделалось вдруг легко и светло на душе. Он освободился от сомнений и подозрений, грызших его много месяцев. Он не плакал, как другие. Старый, изрубцованный в схватках волк не умел плакать – единственная пролитая слеза перевернула всю его жизнь. Он был теперь готов к тому, что ему предстояло сделать. В последние тёплые дни середины сентября Тристан вернулся в дом на улице Брисонне.
– Следуй за мной! – коротко повелел он Эсмеральде, выбежавшей ему навстречу.
Ничего не понимая, цыганка позволила увлечь себя во двор, где резвилась у колодца белая козочка. Во дворе конюх держал в поводу осёдланного коня. Тристан приказал ему посадить козочку в мешок и приторочить к седлу. Затем он сам прыгнул на коня и, ни слова не произнося, протянул руку Эсмеральде. Та, привыкшая к странным выходкам своего сурового стражника, воздержалась от расспросов. Между тем королевский куманёк, одной рукой сжимая поводья, другой придерживая девушку, держал путь сквозь улицы Тура, прошивая их, как челнок. В полном молчании Тристан и Эсмеральда миновали ворота Ла-Риш.
Сердце цыганки сжалось от предчувствия неведомого: она знала эту дорогу. Сколько раз проходила она здесь вместе с Готье, торопясь в табор! Сколько раз, воровски оглядываясь, будто совершила преступление, возвращалась в город! Но и сейчас, бросив короткий взгляд на окаменевшее лицо фламандца, Эсмеральда смолчала, хотя дух её заходился, трепеща, точно пойманная в кулак пичужка.
Тристан остановил коня в зарослях на берегу Шера. Отсюда не видна была цыганская стоянка, но слышались неразборчивые голоса, собачий лай, ветер доносил едкий запах костров. Эсмеральда бегучей гибкой ящеркой соскользнула в пожухлую траву, замерла в ожидании. Тристан остановился перед ней, тяжёлым взглядом исподлобья оглядел её – от макушки до крохотных ступней, запоминая. Он протянул руку, осторожно коснувшись плоского живота своей цыганской подруги, вырванной им когда-то из когтей смерти. Тристан подумал: это к лучшему, что ни та их предрассветная ночь, и ни одна другая из их встреч не оставили последствий. Его волчата выросли, а других он не желал. Эсмеральда, свесив руки вдоль тела, покорно ждала. И тогда наконец бывший прево, гроза Франции, верная тень христианнейшего короля глухо произнёс то, что долго не отваживался сказать:
– Он умер, и приказ его тоже. Иди. Я отпускаю тебя.
Эсмеральда ахнула, не веря ушам, пошатнулась. Казалось, ноги её вот-вот подломятся, она упадёт на землю, лишившись чувств. Давно, давно ждала она этих слов, громом прозвучавших над её головой, и не верила им. Как посаженная в клетку птица привыкает к неволе и начинает клевать насыпанное рукой ловца просо, так и цыганка смирилась с участью пленницы. Много месяцев она не заботилась ни о пище, ни о заработке, ни о поисках крова, она перестала танцевать, забыла прежнюю жизнь. И вот Тристан Отшельник возвращал ей то, что отнял священник, о чём она на коленях умоляла Великого прево. Но зачем свобода, когда она уже не нужна?
– Я не ослышалась? Вы отпускаете меня, мессир? Я вольна идти, куда захочу, и никто не тронет меня? – еле вымолвила Эсмеральда, сжавшись под горевшим жадным огнём взором Тристана.
– Иди, – повторил он, отвернувшись. – Иди к своему народу.
Цыганка всё-таки не двигалась с места. Слишком долго прожила она в доме, украшенном крюками и каменными верёвками, чтобы сбежать без оглядки, ни с кем не простившись. Она не жалела о нарядах, оставшихся там, но расставание с его обитателями всё же удручало её. Тристан л’Эрмит, скривившись в вымученной улыбке, выпустил из мешка козочку, тут же с тонким блеянием закружившуюся возле хозяйки. Очнувшись от оцепенения, Эсмеральда бросилась к мужчине, овладевшему её телом, но не душой, обвила руками его крепкую шею, на миг прижалась губами к щеке. Королевский кум вытерпел эту внезапную ласку без ропота, без злобы, без ответного порыва. А цыганка сняла ладанку с зелёной бусиной, неизменно хранимую на груди, и Тристан, угадав её намерения, склонил голову, позволив девушке накинуть на шею цепь из лавровых зёрен.
– Это мой хранитель, – торжественно произнесла Эсмеральда, так и не отринувшая до конца языческие поверья, – он оберегал меня. Пусть он отныне помогает вам, мессир!
Тристан не верил в талисманы. Единственным оберегом от беды он считал острый меч, да, быть может, лисью хитрость, но всё же он сжал в ладони зелёную ладанку – прощальный подарок девушки с именем драгоценного камня. Он повернулся спиной, чтобы не видеть, не знать, как освобождённая пленница исчезает среди зарослей, торопясь в табор. Там её ждал другой – Тристан чуял безошибочно. В минувшие времена он растерзал бы соперника безо всякой жалости, но теперь он не был прежним Тристаном Отшельником. Он смирился. Он не мог оставить себе Эсмеральду – с ним она, привыкшая к вечным скитаниям, увянет и в конце концов погибнет. Другой, близкий ей по крови, выходец из её народа, смуглый и белозубый, станет отныне опекать её. Тристан спешил в Плесси-ле-Тур. Ему хотелось выговориться перед старцем Франциском.
========== Глава 21. Сеньор де Мондион ==========
Маленький замок Мондион, украшенный шестиугольной башней, прозябал в запустении, одинокий среди приволий Пуату. А между тем его светлые каменные стены, которым сравнялся век, знавали лучшие времена и помнили ещё скромную свадьбу: Жеан де Мондион, сеньор этих мест, выдал дочь Гильеметту за молодого фламандца по имени Луи Тристан л’Эрмит. Жених, не могущий похвастаться ни богатством, ни чередой знатных предков, служил оруженосцем у находившегося тогда в опале коннетабля. На изрытых конскими копытами дорогах войны Артур де Ришмон, сын бретонского герцога, встретил Тристана и привёз с собой из Бургундии во Францию. Может быть, Гильеметта засиделась в невестах. Может быть, сеньор де Мондион предвидел грядущее падение всесильного шамбеллана Ла Тремуйля, позволившее коннетаблю, а с ним и оруженосцу, с триумфом вернуться ко двору, возможно, разглядел блестящие задатки будущего зятя – уже доподлинно неизвестно. Худощавый приходский священник совершил над парой обряд венчания. Гильеметта с затаённой робостью поглядывала на того, кто только что стал её мужем. Его волевое лицо, преисполненное жестокости и отваги, его мощное, приземистое, ловкое, как у хищника, тело, с лёгкостью несущее панцирь доспехов, внушали ей и страсть, и страх.
Тот год, как и многие другие годы, выдался тяжёл, стремителен и голоден. Он не терпел долгих проволочек, и зов битвы призвал нового хозяина Мондиона покинуть земли Пуату, чтобы присоединиться к королевской армии. Гильеметте, как всякой жене воина, оставалось довольствоваться краткими встречами, гадать, выйдет ли супруг живым из очередного сражения, считать его новые шрамы. Она давала жизнь сыновьям, таким же сероглазым и крепким, как их отец. А Тристан после непродолжительных встреч снова покидал дом – его жизнь летела вперёд с беспощадной стремительностью выпущенной английским луком стрелы. Он был среди заговорщиков, подстерегших Ла Тремуйля возле замка Шинон, на его глазах меч убийцы вошёл в тучный живот шамбеллана. Чуть живой Ла Тремуйль ревел пронзительным голосом, вцепившись скрюченными пальцами во вспоротое чрево. Тристан смотрел на корчащуюся жертву, ноздри его раздувались, чуя кровь. Свержение Ла Тремуйля означало победу коннетабля, а, значит, и победу его преданного оруженосца.
Чем выше поднимался Тристан л’Эрмит по скользкой карьерной лестнице, тем меньше интересовал его маленький замок и лепившаяся к нему деревня. Он выстроил для каждого из своих сыновей по новому замку, а прежний дом остался покинутым, погружённым в безучастную дрёму. Хозяева почти совсем не навещали его.
Поздней осенью тысяча четыреста восемьдесят третьего года Мондион ожил, разбуженный известием о возвращении сеньора. Немногочисленные слуги, поддерживающие порядок в замке, с внутренним трепетом, прорывавшимся наружу, кланялись господину Тристану. Он, облачённый громкой и мрачной славой, казался им видением, снизошедшим до их Богом забытых мест. На самом же деле пришествие хозяина Мондиона мало походило на величественное вторжение господина, вспомнившего вдруг, что он давно не посещал свои владения. Это было тихое бегство от прежней жизни. Луи Тристан л’Эрмит, расставшись с приятно тяготившим руку жезлом прево, не тешился пустыми надеждами на то, что новый король оставит его при себе. Карл Восьмой не нуждался во фламандце, служившем его отцу и деду, и удалил его прочь от двора. Тристан смиренно принял изгнание, замаскированное под отставку. Его звезда покатилась с сияющего небосклона, уступив место новым придворным светилам. Так происходило со многими его предшественниками и так будет происходить из века в век.
Тристан оказался одинок, как потерпевший кораблекрушение моряк, выплывший на чужой каменистый берег. Он продал дом в Туре, поскольку больше не хотел оставаться там, где всё напоминало о прошлом, и уехал в Мондион. Старый волк скрылся в полузабытом логове, зализывая раны. Он был меж тем ещё крепок, этот закалённый муштрой воин, его взгляд оставался по-прежнему зорким, а походка – пружинистой. Ему претила новая роль, он с трудом привыкал к ней. Имя Тристана Отшельника продолжало наводить трепет как на мирных людей, так и на разбойников, но сам Тристан, лишённый службы, никому уже не мог, да и не желал причинить зла. Брошенный в Консьержери Оливье ле Дэн стал его последней жертвой. Страх перед неотвратимым, появившийся впервые в памятную ночь на Гревской площади, подкреплённый беседой со старцем, заставлял Тристана искать покаяния. Он пресытился смертями и кровью, которой пролил достаточно. Он, лишённый всего, что было ему дорого, жаждал покоя и одиночества.
По примеру августейшего господина, Тристан озаботился местом грядущего упокоения. Его выбор пал на город Шательро на берегу Вьенны, издавна славившийся мастерами оружейного дела. Там, в монастыре кордельеров, он заложил часовню и наведывался туда, чтобы следить за стройкой. На монастырской земле королевскому куму дышалось легко и спокойно, и он взял за правило посещать службы, чего не делал прежде почти никогда в противовес набожному господину. Его дни стали однообразными и скучными, он, отвыкнув от праздности, не знал, чем себя занять. Тристан не докучал сыновьям своим обществом: Пьер и Жеан, прочно вставшие на ноги, занятые собственными заботами, больше не нуждались в отце. А меж тем ему не следовало замыкаться в одиночестве – так поучал прозорливый Франциск Паолийский, когда Тристан пришёл к нему излить душу и спросить совета.
Иногда, глядя на ладанку с зелёной бусиной, Тристан задумывался: где-то теперь дочь затворницы Гудулы, по каким дорогам скитается её табор? Бусина, отдалённо напоминающая благородный изумруд, таинственно мерцала, точно кошачий глаз. Тристан знал, что цыган уже нет в Турени, они стронулись с насиженного места через несколько дней после того, как Эсмеральда и Чалан скрылись в прибрежных зарослях. Быть может, Гожо опасался преследований Великого прево, либо просто искал для своих людей лучшей доли. Цыгане залили костры водой, запрягли лошадей в повозки с нехитрым скарбом, и тронулись в путь по старой римской дороге, оставляя позади плодородные, но негостеприимные окрестности Плесси.
Эсмеральда, сменив богатое платье на обноски, прикрыв плечи шалью, брела пешком, и всё никак не могла насмотреться и надышаться. В эйфории от свободы, от путешествия, от движения она не замечала Ферка, его страстных взоров, пропускала мимо ушей его слова. А меж тем молодой цыган ни на шаг не отходил от неё, садился рядом, когда путешественники хлебали варево из общего котла, отдавал ей лучшие куски, защищал от излишнего внимания собратьев. Бедолага никак не мог взять в толк, почему им пренебрегают, не заговаривают с ним, не замечают мольбы во взгляде. Разве прежде он не добился благосклонности красавицы Эсмеральды? И разве теперь её таинственный покровитель не властен над ней? Два дня прошло в мучительных сомнениях и наконец на третью ночь Ферка решился. Он прокрался к повозке, которую вожак уступил Эсмеральде, откинул полог, прислушавшись к мерному дыханию спящей, и, вспрыгнув гибким зверем, скользнул внутрь. Заблеяла потревоженная козочка. Цыганка спала, завернувшись в старое, прожжённое искрами костров одеяло. Ферка не мог видеть в темноте её лица, но интуитивно почувствовал, как играет на её губах блаженная улыбка. Склонившись, он стал гладить плечи Эсмеральды, затем, осмелев, принялся покрывать быстрыми поцелуями её лицо. Девушка рывком пробудилась, рванулась, испуганно дыша.
– Кто здесь?!
– Это я, Ферка. Не бойся меня, – прозвучал ответ.
– Прошу тебя, уходи, Ферка! – потребовала цыганка, кутаясь в одеяло. Память перенесла её на много месяцев назад, в келью собора Богоматери, где обезумевший от страсти священник так же добивался её ласк. Цыган не пугал Эсмеральду и не вызывал отвращения, но его непрошенное вторжение рассердило её. Однако ночной гость, хоть и отстранился от неё, ретироваться всё же не спешил.
– Зачем ты так жестока со мной? – обиженно проговорил он. – Ты забыла тот день, который мы провели вместе под ивой? Почему ты теперь отталкиваешь меня?
– Жестока? Я жестока? – низким от удивления и волнения голосом спросила Эсмеральда. – Я ничего не забыла, ты мне не противен, но сейчас уйди. Я не жена тебе, Ферка, и тебе нечего делать в моей повозке.
Обманутый в лучших ожиданиях юноша вскочил на ноги, тряхнул упрямой головой в буйных колечках смоляных кудрей.
– В твоей повозке?! Не жена? Ты станешь ею завтра же, Альдебаран тому свидетель! Никто другой не посмеет встать между нами, даже твой синдик, которого так боитесь ты и наш герцог. Ты только моя, Эсмеральда, – горячо зашептал он, снова склоняясь над ней, но не решаясь больше притронуться, – моя, моя, только моя…
Счастливая мысль пришла ему в голову. Он не мог, не смел преодолеть запрет возлюбленной, но понял, как завоевать её доверие, подкрепить провозглашённую клятву. Ферка вытащил кинжал из потёртых ножен, крепившихся на поясе:
– Вот, возьми, пусть он станет залогом моих слов.
Оставив своё подношение на полу кибитки, Ферка так же бесшумно исчез. Протянув руку, Эсмеральда нащупала кинжал и, обрадовавшись, схватила резную рукоять. Теперь она была защищена, а наряду с ощущением покоя в ней росла благодарность к своевольному, но благородному юноше. До самого рассвета Эсмеральда больше не смыкала глаз, думая о Ферка, и сердце её сжималось от тревожных предчувствий. Ночной разговор, подслушанный лишь белой козочкой, не разумевшей человеческую речь, растревожил её пылкое воображение. Она более не была прежней Эсмеральдой, ревностно охраняющей целомудрие, перестала ею быть после того, как сама пришла к Тристану, да и обет над амулетом давно утратил значение. Над округой раскинулась звёздная россыпь на чёрном куполе неба, с полей веяло холодом, землю затягивал предутренний туман. Бедная цыганка, свернувшаяся в повозке, казалась самой себе ничтожно маленькой, брошенной на милость судьбы. Эсмеральда осталась одна – Феб и Тристан, обладавшие один её душой, другой её телом, ушли, став частью прошлого. Один предал её, другой сам отпустил. А она сейчас нуждалась в любви и защите от посягательств других мужчин чужого табора, готовых драться за неё до крови. Эсмеральда решилась.
Назавтра хмурый Гожо повенчал её с Ферка почти тем же обрядом, которым цыганский герцог соединил её с Гренгуаром во Дворе чудес. Молодые люди опустились на колени перед вожаком, а он вылил на их склонённые головы по несколько капель вина из глиняной кружки. Выпив мерными глотками остальное, Гожо швырнул посудину о камень. Наклонившись, сосчитал черепки.
– Пять! – важно произнёс вожак, возложив руки на головы молодых. – На пять лет ты, Эсмеральда, принадлежишь Ферка.
Вот и всё таинство. Пять лет – не такой уж и великий срок! Однако дети, ссоры и примирения, болезни, сердечная привязанность, и многое другое прекрасно в нём умещаются, даже если брак – только видимость брака. Отрешённая Эсмеральда почувствовала, как её сомкнутых губ коснулись жаркие уста новоиспечённого мужа. Она не противилась. Табор праздновал причудливую свадьбу, а Эсмеральда сидела возле костра рядом с Ферка, плечом к плечу. Общее веселье не захватило её, а жалобный тонкий зов флейты надрывал ей сердце. Дитя, украденное у матери, ни француженка, ни дочь Египта, соломинка, подхваченная ураганом, заброшенная в чужой, незнакомый край, она невольно льнула к Ферка, видя в нём последнее пристанище. Она подумала о предстоящей ночи, когда молодой цыган, пользуясь данным ему правом, сделает её своей, но не испытала смятения. Только на краткий миг совесть возмутилась в ней, когда она вспомнила Тристана.
– Ты сам отпустил меня! – мысленно сказала она, будто оправдываясь перед Великим прево. – Я не предавала тебя!
Табор шёл всё дальше и дальше в осень, навстречу башням Пуатье, вздымавшимся над равниной, омываемой водами Клэна с востока и севера и Буавра с запада. Спустя пять дней после начала странствий пёстрая шеренга, сопровождаемая тощими псами с репьями в хвостах, под недовольные взгляды стражи втянулась в ворота Пуатье, растянулась по улицам. Эсмеральда, следуя вместе со всеми, не знала, что сама судьба направит Тристана Отшельника по её следам, что в то время, когда табор, взяв приступом город, прочно осядет в бедняцких кварталах, её грозный покровитель тоже покинет Турень и поселится совсем недалеко от Пуатье. Не мог знать и Тристан, что проделанный им путь по Аквитанской дороге повторяет путешествие Эсмеральды. Он жил затворником в Мондионе, примеряя образ провинциального сеньора, надзирающего за крестьянами. А к югу от его скромного пристанища нашла приют цыганка. Они не знали ничего друг о друге, довольствуясь тоской и воспоминаниями, но расстояние, разделявшее их, было слишком мало, чтобы препятствовать случайной встрече. Ведь даже неодушевлённые камни, сдвинутые с исконного места человеческой рукой, соединяются в основании стены. Что же говорить о людях, обладающих волей и разумом!
========== Глава 22. Призраки прошлого ==========
Репутация нахлебницы накрепко прицепилась к Эсмеральде и тянулась за ней, как колючка, застрявшая в овечьем руне. Цыгане и бродяги Пуатье не преклонялись перед её красотой. Здесь и в помине не было прежнего суеверного восхищения, побудившего некогда цыганок похитить ребёнка из лачуги на улице Великой Скорби. Девушки бросали на новую товарку косые завистливые взгляды, ревнуя её к Ферка, мужчины смотрели на неё с неприкрытым вожделением. Так никто не глядел на Эсмеральду даже во Дворе чудес, в этой клоаке отверженных, где собрались всевозможные пороки: даже там красавицу почитали чем-то вроде божества, стоящего на порядок выше обычных бродяг. Ореол таинственности, окружавший девушку в дни посещений табора на речном берегу, постепенно рассеялся. К Эсмеральде привыкли, стали считать её обузой, взбалмошной неумехой, невесть зачем увязавшейся за свободным народом.
Она не могла зарабатывать себе на хлеб, как прочие женщины. Гаданием Эсмеральда не промышляла и в прежние беззаботные времена; рисунок, начертанный природой на человеческой ладони, не значил для неё ровно ничего, а лгать, обещая доверчивому обывателю всяческие блага в грядущем, она не умела и стыдилась. Иного же ремесла она не знала никакого, её руки никогда не держали ни веретена, ни метлы, ни серпа. Пленница Великого прево соскучилась по танцам, но вернуться к прежнему занятию оказалось свыше её сил. То ли тело без долгой практики утратило гибкость, то ли страх сковывал движения плясуньи, но с уличными выступлениями пришлось распрощаться. В первый раз Эсмеральда рискнула попытать счастья в начале зимы, в день святой Варвары – праздник ремесленников. Тогда она и Ферка оказались под вечер на площади Нотр-Дам-ля-Гранд, где полыхал костёр, с треском пожирая вязанки хвороста, согревая столпившихся вокруг огня горожан.
– Вот прекрасная возможность опустошить карманы этих бездельников! – подмигнул Ферка.
Молодой бродяга поднёс к губам флейту, которую всегда таскал за пазухой, и заиграл, привлекая внимание толпы. Эсмеральда задрожала. Она узнала мелодию. Сколько раз на её памяти звучал этот мотив и в замках сеньоров, и на городских праздниках, и на сельских торжествах! Она сама плясала под него когда-то. Давно-давно, быть может, в Париже, или где-то ещё – мало ли городов на свете. Сотни импульсов пронизали тело Эсмеральды, щекоча нервы, горяча кровь. Ферка надеялся, что жена подхватит его почин и пустится в пляс: для этого и старался он, для этого шли они сюда через весь город. Эсмеральда понимала, чего от неё ждут супруг и зеваки, отвернувшиеся от пламени и обратившие заинтересованные взоры на парочку оборванцев. Всё её существо жаждало веселья, танца – того, чего она так долго была лишена. Но она не решалась сделать хоть один шаг.
– Что же ты? – шепнул Ферка, видя её колебания.
И Эсмеральда уступила зову музыки. Она позабыла о смущении, о толпе, о горестях, кружась в такт мелодии. Казалось, не девушка в пёстрых лохмотьях извивается в отсветах костра перед примолкшими людьми, а оживший язычок пламени, жгучий и дерзкий. Не нищенка, не бродяжка, а вакханка, лесная фея, обращающая разрумянившееся лицо к небесам, едва касающаяся ступнями земли. Молодость и свет, бунт и жизнь. Восхищённая толпа не произносила ни слова. Цыганка плясала. И вдруг, заглушив флейту, ударили колокола Нотр-Дам-ля-Гранд, возвещая начало вечерней службы. Их призыву, перекликаясь, вторили аббатство Монтьернёф, собор святого Петра, церкви святого Илария и святой Радегунды. Очарование рухнуло, неистовая вакханка исчезла. Осталась цыганка, ничтожная перед громадой старого собора, и статуи святых, казалось, глядели на неё с укоризной. То, что она сейчас делала, показалось ей вдруг опасным. Гадкий человек в чёрном плаще вот-вот пролает ей поверх людских голов: «Святотатство! Колдунья! Убирайся прочь!» Эсмеральда оборвала танец, плечи её поникли. Толпа заколыхалась, разочарованно вздыхая. Ферка, недоумевая, смотрел на оробевшую подругу. Колокола гремели.
Эсмеральда, пожалуй, не смогла бы внятно объяснить, что её испугало. Не мысль о кощунстве, совершённом перед соборной папертью, хоть христианские догмы и оставили свой след в душе язычницы. Её охватил ужас перед былым, грозящим повториться здесь, за много лье от Парижа, в первые дни зимы, мягкой, как и полагается южной зиме. Пусть обезумевший священник давно лежал в земле. Его голос, его слова продолжали существовать в памяти цыганки. Низвергнутый в небытие, он всё же преследовал несчастную и сквозь годы, как грозился у подножия виселицы на Гревской площади.
– Я боюсь, Ферка! – хрипло промолвила Эсмеральда, словно слова царапали ей горло. – Зря мы пришли сюда!
И, хоть настало самое время взимать дань с благодарных зрителей, цыганка бросилась бежать по Гран Рю. Какой-то школяр, попавшийся навстречу, окликнул беглянку и, не добившись внимания, пронзительно засвистал вослед. Оторопевший Ферка, поколебавшись, поплёлся следом, махнув рукой на причитающуюся плату и предвкушая недовольство вожака.
С той поры дверь в беззаботное прошлое окончательно захлопнулась перед несчастной цыганкой. Она пыталась снова танцевать на улицах Пуатье, но уже никак не могла преодолеть скованность: страх вновь оказаться в силках слуг Дворца Правосудия вонзился в неё изогнутыми своими когтями. Только песни да представления козочки Чалан ещё приносили кое-какие гроши, но и эти выступления случались всё реже и реже. Умения Чалан не дотягивали до талантов Джали, да и хозяйка опасалась привлекать излишнее внимание к себе и своей любимице. Она осознавала теперь в полной мере, какими неприятностями чреваты её занятия и поражалась прежней беспечности. Так, верно, рискует человек, переходящий пропасть по шаткой дощечке, и так холодеет он, узрев бездонный провал.
Оказавшись в отчуждении, Эсмеральда принялась мечтать о ребёнке: совсем как её матери когда-то, ей хотелось искренней любви, какую могло дать только дитя. Лёжа ночами рядом с Ферка, она украдкой гладила ладонями живот, жалея, что небеса до сих пор не смилостивились над ней, не понимая, насколько судьба была милостива к ней до сих пор. Она всё чаще представляла себя матерью славного мальчика, который станет солдатом, когда вырастет. Замечтавшись, Эсмеральда забывала о здравом смысле, не думая, чем станет кормить ребёнка и останется ли с ней Ферка, когда истечёт срок замужества. Молодой супруг, когда она заговаривала с ним о детях, всегда усмехался и переводил беседу в другое русло.
Если бы не пылкая любовь и поддержка Ферка, единственного, кто не отвернулся от неё, Эсмеральда совсем отчаялась бы. Она разучилась быть бродягой. Она не могла найти общий язык с собратьями. Со временем, надо полагать, утраченные непосредственность и живость характера возродились бы в привычных цыганке условиях. Но обитатели Двора чудес не давали ей никакого срока. Братство нищих в Пуатье количеством многократно уступало Парижу с его дюжиной Дворов чудес, но всё-таки оно имело власть и с ним приходилось считаться.