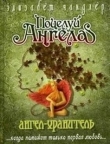Текст книги "Тристан из рода л'Эрмитов (СИ)"
Автор книги: A-Neo
Жанры:
Фанфик
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 11 страниц)
– Loop naar de hel! **
Кричала цыганка. Этот крик был последним звуком, который услышал владыка королевства Тюн.
Эсмеральда, как была, в одной камизе, босиком, выскочила на улицу, невзирая на запрет Тристана. Никто из слуг не преградил ей дорогу – да никто, пожалуй, и не смог бы в ту минуту удержать её. Холодная мостовая колола её крохотные ступни, рядом ещё дотлевал ночной бой, но цыганка не замечала ни бродяг, пустившихся наутёк, ни боли. Она позабыла даже о мести. Владыка арготинцев угрожал её другу, а она не могла в очередной раз потерять того, кто любил её, кто вынужден был страдать из-за неё. Цыганка знала, как свирепо и беспощадно бьются бандиты во Дворе чудес за обладание вожделенной добычей. А у неё в руках, как назло, не оказалось ни кинжала, ни хотя бы палки, чтобы огреть Себастьяна и тем помочь Тристану. Ей оставалось следить за схваткой, судорожно пытаясь определить, кто одерживает верх. Взвинченные нервы не выдержали. Из горла цыганки вырвался пронзительный крик, взвивающийся прямо к звёздам, достигающий в своём отчаянии самых необозримых высот. В ту же минуту другой голос, бодрый и радостный, возвестил об окончательной победе армии Гран Рю.
– Стража! Стража! – вопил кто-то, очевидно, обладавший лужёной глоткой и мощными лёгкими. И точно: всё усиливающийся топот ног и бряцание оружия свидетельствовали о приближении долгожданной подмоги, прибывшей тогда, когда надобность в ней почти уже отпала. Всё было окончено. Мэтр Фурнье, поспешавший за караульными, шумно отдуваясь, как кузнечные мехи, мог убедиться в том, что гостиница уцелела: нападавшие не нанесли ни ей, ни её обитателям никаких повреждений.
– Слава Всевышнему! Хвала Деве Марии! – приговаривал добрый трактирщик, приближаясь к Эсмеральде сквозь собирающуюся толпу. – Ты цела, бедная девушка! Они тебя не тронули, эти проходимцы… А мессир Тристан? Где он?
Эсмеральда не отвечала мэтру Фурнье. Кусая губы, жалобно постанывая, она не могла оторвать взгляда от двух неподвижных, сцепившихся на земле тел, она не решалась тронуть их. Охнув, несчастный хозяин «Храброй лисицы», сам близкий к обмороку, схватил цыганку за плечи, как бы пытаясь уберечь её от падения. Ему почудилось во внезапно наступившей тишине странное сипение, прерываемое хрипами, словно кто-то задыхался, мучительно ловя ртом воздух.
– Мессир Тристан! – позвала цыганка, готовая зарыдать.
В ответ на её зов один из соперников зашевелился, отпихнув от себя обмякшее туловище врага, поднялся во весь рост, широко расставив ноги, встряхнулся, как большой пёс, мрачно уставился на примолкшую толпу.
– Goddorie! Явились наконец… бездельники! – прерывисто дыша, пошатнувшись, проворчал он, обращаясь к оторопевшим стражам, а, может, и ко всем зрителям и участникам схватки. – Вам черепах стеречь, а не… городские ворота! С какой… стати я должен исполнять чужую работу?
Он сплюнул для пущей убедительности и растёр плевок подошвой. Гневная тирада далась ему нелегко. Превозмогая слабость в избитом, израненном теле он держался прямо – так требовала гордость истинного фламандца. И триумф, и позор положено принимать стоя. Довольно и того, что он позволил грязному оборванцу сбить себя с ног и вывалять в пыли.
– Мессир Тристан! – звонко воскликнула Эсмеральда.
Это был он, её строгий друг, усерднейший из сторожей, из тех, что преданы великим – Луи Тристан л’Эрмит, Великий прево, недрёманное око Людовика. Цыганка совсем упустила из виду, что стоит перед людьми в одной сорочке, босая, с распущенными волосами. Сбросив руки удерживавшего её трактирщика, она устремилась к Тристану и, поднявшись на цыпочки, обняла за шею, прижалась к его щеке губами.
– Вот ещё… телячьи нежности! Где я велел тебе оставаться? – снова буркнул Тристан, но на сей раз в его грубом голосе прозвучали знакомые цыганке ласковые интонации, а колючий взор химеры озарился радостью. – Я сделал то, что ты… хотела. Слышишь меня? Эй, кто-нибудь… Поднесите поближе огонь!
Слуга, державший факел, приблизился, наклонился, осветив того, другого, который так и не встал с земли и уже не булькал вспоротым горлом. Чёрная, блестящая в свете пламени лужа растеклась под ним. Рядом с мертвецом лежал кинжал цыгана Ферка. На лезвии застыли сгустки крови. Девушка, бросив быстрый, точно молния, взгляд, поспешила отвернуться, спрятав лицо на груди Тристана. Люди, возбуждённо переговариваясь, окружили труп: нужно было оттащить его ко Дворцу правосудия и доложить о происшествии прево, а то и самому Ивону дю Фу, сенешалю Пуату.
– Кинжал отведал крови убийцы, – тихо сказал королевский кум приникшей к нему Эсмеральде. – Не смотри туда больше! – он обнял её, согревая подрагивающее девичье тело. – Пусть они делают своё дело.
Он вновь стал убийцей, нарушил зарок не проливать больше кровь – ради девицы, что представлялась в его сознании самою добродетелью. Он не винил цыганку, не осмелившуюся посмотреть на плоды своих желаний. Он сам отвернулся от поверженного врага, чувствуя себя прескверно. Нож кривого Себастьяна, едва задев шею Тристана, перерубил цепочку из зёрен лавра, на которой крепилась зелёная ладанка. Может быть, именно эта цепочка стала причиной того, что стальное лезвие соскользнуло, слегка оцарапав кожу, но, скорее всего, так только показалось Тристану, думавшему, что ладанка спасла ему жизнь.
* Ныне площадь маршала Леклерка
** – Отправляйся в ад! (флам.)
========== Глава 29. Осень в Пуату ==========
По верхушкам подсвеченных солнцем вековых дубов взметнулось золотое пламя. Каштаны, окружавшие замок Мондион, шумели разлапистыми листьями, роняя на землю колючие созревшие плоды. Ветер трепал ветви ив, полоскал их в воде заросших осокой каналов. В край извилистых ручьёв, дольменов, болот и лесов, где, по преданию, граф Раймондин повстречал Мелюзину, пришла осень.
Эсмеральда, сызмальства привыкшая к бесконечным дорогам, к палящему солнцу Каталонии, к постоянно сменяющимся картинам дальних стран, одни названия которых показались бы жителям Пуату словами магических заклинаний, всем сердцем полюбила этот спокойный край. Ей казались давно знакомыми болота, сплошь покрытые ряской, поросшие ирисом и плакун-травой, облюбованные куликами камышовые заросли, каштановые рощи, каналы, над которыми деревья переплетали ветви, образовывая живой купол. Зимой ветви использовались как топливо – загодя заготовленные сухие сучья грудами складывались возле стен хижин.
Пуату ещё помнил опустошительное нашествие англичан. Здесь женщины, выходя на полевые работы, покрывали головы причудливыми уборами, называемыми капорами, призванными когда-то отпугивать чужеземных ухажёров. На лодках здесь передвигались не реже, чем пешком. Мужчины осушали болота, отвоёвывая у древней трясины почву для земледелия, обозначая изгородями свои законные владения. Эсмеральда знала по рассказам Тристана, что дальше, там, за топями, простираются солончаки, а ещё дальше – изрезанное скалами побережье Бискайского залива.
Здесь изобиловала успокаивающая взор зелень растений, здесь повсюду – в воде, в прибрежных зарослях, в кронах деревьев – кипела неприметная, неведомая ей жизнь. Здесь во множестве водились лягушки, оглушительно квакающие по вечерам, и проворные ужи, поначалу пугавшие цыганку змеиным своим обличием.
– Там, где солнце ярче, деревья зеленее и небо синее.
Кто говорил ей так? Когда? Каталония, Ахайя, Морея*, Далмация, Венгрия – разве всё это было с ней? Осталась только неясная тоска о чём-то, чего не вернуть никогда. Она знала, что подобную тоску испытывает сейчас, с приходом осени, Тристан. Он ни разу больше после той ночи в «Храброй лисице» не заговаривал с ней о том, что его тревожит, но становился, подчас, задумчив, подолгу глядя на север. Что он вспоминал? Башни Плесси-ле-Тур и долину Луары? Рокот колоколов над Нотр-Дам де Клери? Или же нечто другое, далёкое, чуждое кроткой цыганке?
А жизнь неостановимо летела своим чередом, залечивая старые раны, сглаживая страхи. Эсмеральда больше не чуралась людей, не ожидала враждебных действий от каждого встречного. Когда она, как прежде в Турени, гуляла с Чалан по округе, вилланы почтительно приветствовали её, с потаённым удивлением глядели ей вслед. С тех пор, как их угрюмый сеньор из поездки в Пуатье привёз в замок бедно одетую девицу, они не переставали гадать, что нашёл мессир л’Эрмит в этой прекрасной, но всё-таки простолюдинке, почему выбрал её и сделал негласной хозяйкой Мондиона, и что держит девушку рядом с человеком, одно имя которого внушает страх. В её облике и одежде к той поре не было уже ничего от вольного народа. От цыганского прошлого у неё остался лишь кинжал Ферка и бережно сохранённая Тристаном ладанка с перерезанной цепочкой. Нанизанные на шнурок лавровые зёрна почти все рассыпались, но зелёная бусина блестела как прежде. Да и Эсмеральдой свою подругу звал теперь лишь Тристан. Она носила имя Агнеса, данное ей при крещении в купели Реймского собора, и прозывалась Шантфлери в память о матери.
Она не забросила мечты о ребёнке, хоть и не чувствовала себя уже одиноким запуганным зверьком, которому необходимо самому заботиться о более слабом существе, дабы укрепиться в собственных силах. Напротив, она с прежним пылом продолжала желать появления младенца – пусть бы даже отцом его стал сам Тристан Отшельник. Видимо, настойчивое желание прочно укоренилось в ней, а, может, сказывался возраст. Она помнила, что её ровесницы в таборе давным-давно обзаводились мужьями и потомством, и таскали за спиной в люльке из одеял не умевших ходить отпрысков, укачивали их на привалах, протяжно напевая колыбельные. Когда-то Эсмеральда смотрела на такие картины равнодушно, теперь же вспоминала их едва ли не с завистью. Первое время, когда она только осваивалась в Мондионе, цыганка не смела заводить с Тристаном те же разговоры, что с Ферка. Тристан со свойственной ему грубой прямотой мог бросить в ответ:
– А вдруг в тебе уже есть семя того цыгана?
Она сгорела бы со стыда от таких слов. Довольно было и того, что Тристан допускал подобную мысль – а он имел вполне весомые основания допускать её. Впрочем, Эсмеральда опасалась напрасно: Тристан не попрекал её, словно не существовало никогда брака на старой римской дороге, словно они оба начали жизнь заново после того, как покинули Пуатье. Однако поначалу не заявлял о своих правах, отказывался делить с нею ложе, хоть взор его и загорался жадным огнём, понятным всякой женщине, умеющей читать желания по мужским глазам. Ограничиваясь поцелуями, он отстранялся, уходил прочь, опасаясь не сдержаться. Это пугало и озадачивало цыганку. Она помнила, что строгий её друг поступал с нею точно так же до побега из дома в Париже, но ныне вместо облегчения ощущала разочарование. Когда ей стало ясно, что бедный Ферка ушёл в небытие, не оставив после себя следа, она сама предприняла шаг навстречу. Ночью она выскользнула из своей постели и, содрогаясь, будто в ознобе, пришла к Тристану. Он не оттолкнул и не прогнал её. Он спросил потом, когда они лежали в темноте:
– Ты хочешь… от меня волчонка?
Эсмеральда ощутила, как он напружинился всем телом, и приподнялась, ошеломлённая, пытаясь разглядеть во мраке комнаты его лицо.
– Вы знали, мессир?! Откуда? Ведь я… И я не поэтому пришла к вам!
Вздохнув, он прижал её к себе, зарылся лицом в её волосы.
– Хотела, да боялась сказать, так? – и пробормотал что-то ещё на языке, которого она не знала.
Тогда была весна, заливались соловьи в роще, плескалось в вышине звёздное море. С тех пор прошли месяцы. Эсмеральда окончательно оттаяла. Но не пела в полный голос вплоть до этого осеннего дня.
– Спой мне! – попросил её Тристан, когда они сидели, привалившись спинами к стволу каштана, росшего возле южной стены замка. – Ведь недаром тебя зовут Шантфлери.
Она вздрогнула, словно заметила змею, подползавшую к ней в траве, и поспешно выпрямилась.
– Мессир Тристан?!
– Я ведь знаю, ты поёшь, когда думаешь, что тебя никто не видит, – настаивал он в ответ на её растерянный взгляд. – Однажды ты напевала у себя в комнате, а я слушал, не решаясь войти, чтобы не спугнуть тебя.
Застигнутая врасплох, Эсмеральда затрепетала, словно пойманная в силок птица. Какая-то часть её существа сопротивлялась, смыкала ей горло, чтобы не выпустить наружу ни звука. В последний раз она пела на публику на улицах Пуату, но то был вызов, брошенный невесть кому. Сейчас её просили петь: интуитивно она почувствовала важность этой просьбы. Тайна, которую она носила в себе вот уже два месяца, побуждала её уступить. Эсмеральда задышала глубоко, успокаиваясь. И вдруг, запрокинув голову, сначала тихо, неуверенно, начала:
– Don Rodrigo rey de Espana
Por la su corona honrar
Un torneo en Toledo
Ha mandado pregonar…**
Язык не был знаком ни слушателю, ни певице. Понимала его, возможно, цыганка, убаюкивавшая дитя балладой о короле Родерихе, вовлекшем страну в пучину бед из-за страсти к прекрасной Ла Каве. Однако набиравший силу голос Эсмеральды, выражение безмерного счастья, вкладываемое ею в пение, бередили мысли и души, заставляя забыть обо всём на свете.
– Sesenta mil caballeros
En el se han ido a juntar.
Bastecido el gran torneo
Queriendole comencar.
Тристан поднялся и внимал, дрожащий, заворожённый. Он хорошо знал походные марши, романсы менестрелей на пирах, доводилось ему слушать и пение бродячих музыкантов под аккомпанемент ребека***. Но никогда прежде ни один голос так не тревожил его, не задевал потаённые струны, сокрытые в глубине его существа. Однажды он подслушал, как она напевает тайком, украдкой, и тогда тоже замер, чуть дыша, словно вор, опасаясь ненароком скрипнуть половицей. Теперь она не таилась его присутствия. Цыганка, точно вырвавшаяся на волю птица, пела самозабвенно, глаза её, устремлённые ввысь, блестели, как у безумной, щёки пылали.
– Vino gente de Toledo
Para avelle de suplicar…
И это совершенное создание он едва не уничтожил, как уничтожал других, не ведая жалости. Цыганка пела. Голос её то нарастал, то обрывался, от него веяло чем-то неизбывным, древним, как сама жизнь, но вместе с тем целомудренным и звучным, пронизывающим осенний воздух. Окончив балладу, она быстро оглянулась по сторонам, будто кто-то мог нарушить их уединение. Оба прерывисто дышали, как после долгого бега.
– Мессир, – произнесла она, опустив очи долу. – Ребёнок… Ребёнок будет у меня, мессир.
* Ахайя (Ахея) – историческая область в Западной Греции, в южной части Балканского полуострова. Морея – средневековое название Пелопоннеса, южная часть Балканского полуострова.
** Повелитель дон Родриго,
Чтобы трон прославить свой,
Объявил турнир в Толедо.
Небывалый будет бой… (исп.)
И далее:
Ровно шесть десятков тысяч
Славных рыцарских знамен.
Но когда турнир великий
Открывать собрался он,
Появились горожане,
У его склонились ног…
(Перевод А.Ревича и Н.Горской.)
Родриго (Родерих) – король вестготов (709 – 711 гг.), в правление которого арабы захватили Пиренейский полуостров, герой многих баллад и легенд.
*** Ребек – музыкальный инструмент, прообраз скрипки.
========== Глава 30. Перемены ==========
– О, я теперь знаю наверняка! – сказала она, будто предупреждая его расспросы, и тут же, раскинув руки в стороны, снова обратила раскрасневшееся лицо к небу. – Сын, который станет солдатом, как я мечтала.
В этом её движении, этом неожиданном признании, в этой уверенности было нечто ребяческое, наивное, трогательное. Точно так же счастливо дитя, заполучившее долгожданную игрушку. Странная тяга к людям военным с детства гнездилась в сердце Эсмеральды вопреки многочисленным притеснениям, наносимым цыганам солдатами. Может быть, её отец был одним из стражников Реймса – из тех, что изредка вступались за жалкую уличную девицу Пакетту. Воплощением мечты Эсмеральды когда-то стал Феб. Но сейчас она не вспомнила о капитане – впрочем, она уже давно не думала о нём. Феб изгладился из её памяти и отошёл в былое, вытесненный другим человеком. Тристан, всё ещё околдованный, подался вперёд, обнял её, бережно прижал к себе, будто хрупкую вещь, способную сломаться от неосторожного движения.
– Вот оно как – и кем он станет ты тоже знаешь! – подивился он. – Что же, фламандская кровь в жилах – залог хорошего воина.
Нельзя сказать, чтобы Тристан был обрадован или изумлён известием о ребёнке. Он принял его как должное, как-то, что могло случиться давно. Потрясло его до глубины души совсем другое, да так, что он готов был преклонить перед цыганкой колени, точно перед королевой. Тристан увидел, какое кроткое и светлое выражение приобрели её черты. Эсмеральда доверчиво замерла в его объятиях и тогда строгий, презирающий любовное щебетание Тристан не выдержал. Он не был сродни мужчинам, которые легко расточают слова нежности, сами переставая в конце концов видеть в них всякий смысл. Тристан принадлежал к тем, кто клянётся в любви в лучшем случае единственный раз за всю жизнь, но в искренности их слов сомневаться не приходится. Нещадный, нагоняющий ужас одним лишь именем, он прошептал, полностью прирученный, покорный:
– Я люблю тебя, моя маленькая лисица. Я очень тебя люблю.
В первый миг цыганка не поверила собственным ушам. Мог ли, в самом деле, человек с очерствевшим сердцем, привыкший командовать, допрашивать и браниться, вдруг признаться в любви? Однако взгляд его, светившийся глубокой преданностью, красноречиво подтверждал только что сказанное. Простотой своей признание бывшего прево отличалось от вызубренных фраз капитана, долгих излияний обезумевшего священника, горячих клятв цыгана, но именно эта простота и подкупала, требовала ответного порыва. Эсмеральда, издав тихий вздох, промолвила:
– И я тоже люблю вас, мессир Тристан! Верно, уже давно, сама не знаю, как давно.
А ветер шумел, купаясь в порыжевших кронах каштанов. Возвышался над замком, как угрюмый страж, немой обомшелый донжон*. Ничей любопытный слух не выхватил потаённой беседы, ничей посторонний взор не узрел того, что воспоследовало за ней.
Тристан, в отличие от Эсмеральды, не испытывал столь непоколебимой уверенности в дальнейшей судьбе ещё не рождённого бастарда. Он сам по природе своей был солдатом, проведшим молодость в сражениях с чужестранцами, презрительно прозванными годонами**, но вот сыновья прево предпочли иную службу. Пьер, его первенец, исполнял при королевском дворе должность Великого хлебодара, покамест ещё не занятую прочно представителями семьи де Коссе. Правда, место это он получил некогда не за личные качества, а, скорее, из желания Людовика сделать приятное его знаменитому отцу. Действительно, старый король брюзжал о непомерном расточительстве и считал, что хлебодары, стольники и виночерпии не стоят и последнего лакея. Но правдой было и то, что трудолюбивый Пьер с прилежанием относился к возложенным на него обязанностям и сумел сохранить выгодное положение во времена перемен, пристигших королевский дом. Он поставлял свежий хлеб к столу Людовика Одиннадцатого и продолжал делать то же для Карла Восьмого. Младший, Жеан, примкнул к свите освобождённого из Шинона Рене Алансонского. Тристан видел здесь иронию судьбы: ведь он сам несколько лет тому назад препроводил в Шинон опального герцога, а ныне сын подвизался подле одной из прежних жертв отца. Луи умер совсем маленьким – Тристан задумывался иногда, каким вырос бы третий сын, унаследовавший, как и прочие его отпрыски, внешность и повадки отца. Эта оборвавшаяся жизнь подобна была ручейку, прошелестевшему после дождя и вскоре пересохшему. Другие же потомки Тристана, набравшись сил, уверенно торили собственные дороги.
Какая судьба ожидала крохотное существо, которое росло и барахталось в животе цыганки? Что он мог предложить ему во владение, кроме тесного старого замка Мондион да славы побочного отродья душегуба л’Эрмита?
Эсмеральда, больше не таясь, напевала баллады, вынесенные из странствий по дальним землям, куплеты, сложившиеся в её пылком воображении. Она ни в чём не нуждалась, она жила свободно и счастливо. Ей не приходилось дрожать у остывшего очага, сберегать каждый кусок пищи и каждый клочок ткани, как её матери когда-то. Она не подвергалась опасности насилия. Наконец, она владела сердцем страшнейшего из мужчин Франции и носила во чреве дитя, настойчиво заявлявшее о себе. Эсмеральда с любопытством, присущим неопытности, касалась всё заметнее с каждой неделей округлявшегося живота, ощущая, как ребёнок поталкивается внутри. Поначалу повторяющиеся шевеления пугали её, но быстро сделались привычными. Она инстинктивно ожидала их возобновления. Тристан подмечал, как в такие мгновения на губах цыганки появлялась мечтательная улыбка, взор делался задумчивым.
– Ишь, какая ты стала важная, словно вынашиваешь наследника престола! – заметил он как-то по зиме уже, вечером, наблюдая, как Эсмеральда расчёсывает волосы, готовясь ко сну. Данный ритуал неукоснительно соблюдался цыганкой ежевечерне и проделывался со всею тщательностью. Освобождённые от шпилек косы свободно падали на плечи, расплетались и разглаживались прядь за прядью. Тристан следил: его завораживало мелькание вырезанного из черепашьего панциря гребня в маленькой изящной руке. На этот раз поданная Тристаном реплика заставила Эсмеральду отвлечься.
– О нет, куда как важнее! – восторженно провозгласила она. Рука, державшая гребень, замерла. – Я ношу дитя от человека, чья доблесть не раз служила мне защитой. Мой сын, – Эсмеральда бросила на своего обомлевшего друга озорной взгляд из-под полуопущенных век, – станет таким же смелым и сильным, как отец.
Тристан склонил голову набок. Его некрасивое лицо, обычной невозмутимостью напоминавшее маску, приняло удивлённое и даже словно бы смущённое выражение.
– Смелым и сильным! Да исполнится по-твоему, он переймёт лучшее, что ты разглядела во мне. Ну, а коль скоро ты родишь дочь, то пусть она получит красоту и добродетель матери! Иди же ко мне! – позвал он.
Эсмеральда, положив гребень на каминную полку, с величавой степенностью, приобретённой с недавних пор, приблизилась к Тристану, села рядом с ним на краешек кровати. Он, как не раз делал прежде, принялся перебирать пальцами пряди её волос – подобное занятие привлекало его, принося неизъяснимое удовольствие.
– Ты ведь даже не предполагаешь ничего подобного, так ведь? – приговаривал он. – А я думаю о ней всё чаще. Да! Я знаю, что значит сын. А вот дочь…
– Я и вправду не думала о дочери. Ох! Он уже сейчас так ведёт себя, этот маленький разбойник, что у меня не возникает и тени сомнений. Разве могут девочки так бушевать? Смотрите, вот опять!
Жёсткая мужская ладонь переместилась на живот цыганки, чувствуя, как ворочается там, внутри, живое. Тристан много раз отнимал чужие жизни, значительно чаще, чем сохранял или, тем паче, оказывался причастным к их сотворению. Это незнакомое биение под пальцами против воли притягивало его, пробиваясь сквозь природную злобу и равнодушие.
– Приляг, – сказал он Эсмеральде и, когда та, чуть повозившись, устроилась на боку в глубине алькова, сам укрыл её одеялом, лёг рядом, снова положив ладонь ей на живот. С юго-запада, с Пиренеев, прилетел неистовый ветер. Двое в маленькой спальне слышали, как он снаружи колотится в оконный переплёт, тоскливо, как бездомный пёс, стенает в трубах. От тепла, от темноты снаружи, от лакающего масло светильника на окне становилось им ещё уютнее. Двое, разные происхождением, характером, воспитанием, но неразрывно связанные. Двое, соединённые причудливым капризом судьбы. Возможно, о лучшей участи нечего было и мечтать им.
Смежив веки, Эсмеральда попробовала в мельчайших подробностях вспомнить встречу с матерью, её сбивчивое бормотание, представить, что крылось за ним. За потоком материнских ласк и поцелуев, которых она не помнила, но знала по рассказам вретишницы, ей представлялась и другая, не столь приглядная картина. Эсмеральда многое повидала в таборе и во Дворе чудес. Она знала, как и чем живут уличные женщины. Они приходили, чужие мужчины, молодые и пожилые, в лачугу на улице Великой скорби, жадно, бесстыдно насыщались телом её матери – и всё это совершалось рядом с детской колыбелью. Утолив голод, визитёры убирались восвояси, оставив плату, уходившую в первую очередь на чепчики да распашонки, а потом уж на дрова и провизию. Вот каким ремеслом Пакетта Шантфлери добыла материал на расшитые башмачки! Эсмеральда ни в чём не винила мать, но благодарила небо за то, что её собственную дочь – если действительно родится дочь – ждёт иная доля. И разве же достанется ей хоть каплей меньше материнского обожания, чем сыну?
Светильник, допив масло, моргнул в последний раз и фитиль его погас. На болота легла глубокая ночь, а ветер с Пиренеев всё ещё ярился над ними, трепал и клонил к земле деревья, силился повалить изгороди. К утру он, выдохшись, затих. Обитатели маленького замка безмятежно спали, убаюканные каждый своею мечтой.
*Донжон – главная башня замка, обычно не приспособленная для жилья и несущая военное или символическое предназначение. Часто там же располагались оружейная, колодец и склады продовольствия.
**Годоны – от английского «God damn!», презрительное прозвище, данное англичанам французами.
========== Эпилог ==========
– Девочка, госпожа Агнесса! И до чего же хорошенькая!
Младенец, едва появившись на свет, был тут же искупан, насухо вытерт куском льняной ткани, растёрт розовым маслом и туго запелёнут. Сильные, грубые на вид, но ловкие руки повитухи, принявшие не один десяток новорожденных, протягивали Эсмеральде маленький тугой свёрток. Она же едва нашла в себе силы повернуть голову. Измотанная долгими часами тянущей боли, то отступавшей, то вновь накатывающей, истерзанная спазмами, словно разрывающими тело изнутри, изнурённая боязнью смерти, она лежала безучастно. Всё началось глухою ночью, а сейчас время перевалило за полдень, весеннее солнце вовсю сияло за окном. А ведь она даже позабыла, как страстно желала ребёнка – ей было страшно, страшно, страшно. И она кричала, моля о помощи.
Как мучительно и долго умирали цыганки от родильной горячки, как они метались в забытьи по соломенной подстилке! Матиас Гуниади Спикали приказывал ухаживать за ними, им выпаивали травяные настои, но огневица всё равно пожирала их. А вдруг и она, Эсмеральда, тоже умрёт, не сейчас, так потом?
Эсмеральду уже не радовало то, что завершились долгие часы, когда читаемые над нею молитвы и успокаивающий голос повитухи едва достигали её сознания. Она услышала крик младенца, расправлявшего лёгкие, затем живот скрутил ещё один, последний спазм, уже не такой болезненный, и после наступило облегчение. Страх ушёл. У Эсмеральды не осталось сил радоваться. Чьи-то заботливые руки обтирали её влажной тканью, перестилали под ней простыни. Эсмеральда чуть слышно вздохнула. Её не огорчило появление дочери вместо долгожданного сына. Хотелось только спать. И ещё увидеть мессира Тристана, сказать ему, что он оказался прав. Он всегда оказывался прав.
Повитуха положила ребёнка рядом с матерью. Эсмеральда посмотрела на выглядывающее из кокона пелёнок личико, пытаясь определить знакомые черты. Однако дочь была ещё слишком мала, чтобы искать в ней сходства с матерью или отцом. Крошечный рот, сплюснутый нос, припухшие веки, придававшие всему облику хмурое выражение – словом, ничего, что бы отличало её от тысячи тысяч других малюток, едва увидевших свет. Глаза закрыты. Она спала, девочка, покамест не получившая имени.
Дверь отворилась. В спальню проскользнул словно и не человек, а только его безмолвная тень, изведшаяся ожиданием. Женщина, помогавшая повитухе, доложила уже Тристану, что госпожа Агнеса разрешилась от бремени девочкой, с нею и с ребёнком, хвала святой Анне, всё благополучно. Однако тревога по-прежнему мучила его. Поникший, Тристан приблизился к постели, склонился, рассматривая утомлённую свою подругу и дремлющий свёрток подле неё. Его сердце, привыкшее трепетать в предвкушении сражения, подпрыгнуло от волнения: ребёнок! Его дочь, его плоть и кровь, рождённая женщиной, одной из немногих, любивших его. Протянув руку, он коснулся лица Эсмеральды, убирая со лба прядь волос.
– Что, малышка, трудно тебе пришлось? Ничего, всё уже позади.
Эсмеральда слабо улыбнулась ему в ответ.
– Мессир… Вы угадали. Я… иногда диву даюсь: откуда вы всё знаете?
В эту минуту девочка, не открывая глаз, принялась вытягивать губы, отыскивая нечто важное для себя, и, не найдя, звонко, жалобно заплакала. Повитуха поспешила пояснить, видя недоумение Эсмеральды:
– Она голодна, госпожа Агнеса!
К услугам кормилицы загодя решили не прибегать: Эсмеральда выразила желание самой выкармливать дитя. Однако, лишённая необходимого опыта, она без толку пыталась приложить младенца к груди, покуда добросердечная повитуха, не смущавшаяся даже присутствием Тристана, не пришла ей на помощь.
– Вот так надо, госпожа Агнеса!
Тристан следил за тем, как ребёнок, получив, наконец, требуемое, насытился и был отнесён в колыбель. Эсмеральда, успокоенная, забывшая боль, крепко заснула. Тристан, придвинув кресло поближе к кровати, сидел и стерёг её сон. Беречь чужой покой за последние годы стало его предназначением, его целью. Он знал: впереди предстоит ещё немало трудностей с узакониванием бастардессы, с обеспечением её дальнейшего безбедного существования. Грядущие хлопоты, впрочем, мало сейчас волновали Тристана: он знал наверняка, что дочь его обладает сильной волей к жизни, с ней и её матерью не должно случиться ничего дурного. Он не допустит. Он знал и ещё: теперь ему будет не так страшно предстать перед Всевышним, когда придёт урочный час. Тристан был в этом уверен. Тристан обладал превосходным чутьём. Тристан никогда не ошибался.