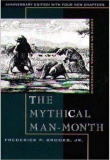Текст книги "Встречаются во мраке корабли"
Автор книги: Зофья Хондзыньская
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)
* * *
– Пики, – объявила она.
– Без козыря.
– Три пики, – выскочил Худой. Должно быть, карта у него была хорошая и он хотел не прекращать торговли, чтобы сыграть более высокую игру.
В эту минуту к ним подошла Марта.
– Павлик, карты советую отложить. К тебе гости.
– Отцепись. – Павел сидел спиной ко входу. – Какие там еще гости, когда они прут на малый шлем!
– И все же советую…
Было в голосе Марты нечто такое, что заставило всех обернуться; мертвая тишина воцарилась вдруг за столиком. Эрика не поняла, в чем дело, но увидела направлявшуюся к их столику красивую девушку в белом кожушке и (это в горах-то!) в замшевых сапожках на котурнах.
Один только Худой ничего не заметил и потому обозлился:
– Ну, в чем дело? Что это, бридж или чижик? Что ты сказала, Эрика?..
И тут увидел, что Павел, положив карты на угол столика, встает. Худой обернулся, сжал губы.
– Спокойно, Бруннер, – наклонился он к Эрике. – Спокойно, ясно?
Понимала – не понимала – понимала – знала: то, что происходит, угрожает спокойствию нескольких дарованных ей дней.
Павел с девушкой уже были у столика.
– Привет, Алька, – приветствовала ее Марта.
А Павел, обращаясь к Эрике, сказал:
– Познакомьтесь, моя сокурсница.
– Откуда ты взялась тут, Алька? – удивленно спросил Худой.
В голосе его не слышалось восторга.
– Как это откуда? – неприязненно вставила Марта. – По Павлику стосковалась.
По ней тоже видно было, что Альку она не переносит.
– Угадали, я приехала Павку навестить. Он обещал вернуться пораньше, но, как видно, обязанности няньки по отношению к «трудному случаю», который пришлось увезти из дома, чтобы не похабить маме праздники…
Секунду стояла тишина, потом раздался звук пощечины, потом с шумом упал стул, послышался глухой, шлепающий топот расшнурованных ботинок.
Глядя на Павла, Алька держалась за щеку.
– Ты, хам!.. – начала было она, но смолкла.
Павел стоял бледный, как стена. Между бровями у него появилась продольная морщинка.
– Как ты смела? – сказал он таким сдавленным голосом, что только Алька услышала его слова.
– А откуда мне было знать, что это она и есть?
– Не лги. Она была в твоей куртке, в твоих штанах. Ты знала, что я тут с ней, а остальные тебе знакомы. К тому же я как-то показывал ее тебе. Ты знала, как важно мне было дать ей передохнуть хоть немного. И все же приехала, чтобы все нам испортить. Из глупой, идиотской ревности. Убирайся, чтобы глаза мои вовек тебя не видели.
– И не увидишь. «Нам!» Может, не столь уж идиотская была моя ревность, если «вам» испортила. Ты обманывал меня. С тех пор, как появилась в Варшаве твоя дурацкая, взбалмошная подопечная.
Павел двинулся было к Альке, но Худой схватил его за руку.
– Оставь, времени жаль.
Павел стиснул кулаки, так что косточки побелели. Секунду постоял еще, а потом вылетел из зала, хлопнув дверью с грохотом, достойным Эрики в лучшие ее времена.
* * *
Она как ветер мчалась вниз по лестнице. «Обязанности няньки по отношению к трудному случаю». Вот она, правда. Вот почему Павел пригласил ее ехать с ним в горы. Где же они, черт возьми, ведь сюда их поставила! Ага, порядок. Что-то грохнулось, она надела лыжи тут же, у базы, и, с силой оттолкнувшись палками, проехала несколько метров до места, где начинался подъем на Карчмиско. Было жарко, она стянула куртку. «Ее», – мелькнуло в мыслях, и в ту же секунду она швырнула куртку в двух шагах от вытоптанной тропки.
Все это она делала почти машинально, в голове не было никаких мыслей, кроме одной-единственной: спешить, скорей, скорей, только бы подальше от базы, от них, от Павла, от этой позорной измены. Мало того, что он устроил ей во Вроцлаве, так еще один сюрприз приготовил – эту расфуфыренную идиотку. Его девушка. Впрочем, какая разница – его, не его. Важно лишь то, что Эрика услышала из уст этой Альки. То, в каком свете представил ее Павел. Уж этого-то Алька выдумать не могла. Эрика упала, поднялась, почти не заметив этого. Только бы дальше, быстрей, только бы ни за что на свете не попасть к ним в руки. Хотя кто там будет догонять ее… «Разве что Худой», – пришло ей в голову, и она решила ускорить шаг, но восхождение было трудное, после утреннего похода она не успела еще толком отдышаться и теперь уже сильно запыхалась. Вряд ли им придет в голову, что она, ни разу еще не спускавшаяся по лыжной трассе, решилась съехать вниз, к Кузницам. «Нет, конечно», – успокаивала она себя. К тому же все деньги у Павла, значит, ему известно, что у нее нет ни гроша ни на поезд, ни на ночлег.
К счастью, было не слишком темно. Снег порошил еле-еле, и дорога немного просматривалась. Наконец-то… Карчмиско. Она знала, что отсюда ведут три дороги: нормальный спуск по лыжной трассе, спуск в Ольчискую и третий, обозначенный зеленым знаком. Если они вообще пустятся на поиски, им разумеется, придет в голову и трасса. Но сперва они будут искать ее близ базы, склада, может, в комнатах… Время есть. Итак, трасса.
Она набрала в легкие воздуху, крепко стиснула ладонями палки, наклонилась, согнула колени и ринулась вниз. Пустая в эту пору трасса едва заметно мелькала меж темными колоннами деревьев. Она неслась, и в душе ее странным образом смешались беспредельное отчаяние и наслаждение этой безумной ночной ездой. Чуть погодя, однако, езда стала уже автоматической и с удвоенной ясностью вернулась сцена: их столик и вторжение Альки. Все они прекрасно знали, что Алька – девушка Павла. Знали. Как же, должно быть, хихикали над нею все это время… Только теперь ей припомнилась фраза Худого: «Это лыжи моей сокурсницы, они знакомы мне, как собственный карман». Ему тоже было известно, что Алька – девушка Павла. «Потому он и приударил за мной, бедной психопаткой, о которой вынужден был позаботиться в праздники его товарищ, чтобы мамуся могла отдохнуть». Она наскочила на ухаб, затормозила, потом снова прибавила ходу.
Снег сыпал все гуще, видимость с каждой минутой портилась, трасса стала почти неразличимой меж деревьев. С трудом минуя их, она, собственно, действовала без всякого смысла. Ведь хотелось ей совсем другого: закрыть глаза и бахнуться головой о ближайший ствол, один раз, но хорошенько, раз и навсегда, потерять сознание, и чтоб больше оно не вернулось. Покончить с глупой своей жизнью, неудавшейся от начала и до конца. С самого начала до самого конца.
Мысль, что вчера в это время Павел держал ее в объятиях, казалась ей невыносимой. Она ненавидела его сейчас гораздо больше, чем Сузанну, чем кого бы то ни было на свете. Не ту девицу, глупую злую куклу, – на Альку ей было наплевать, – а именно его, Павла. Он подло обманул ее. Ясно, ему хотелось провести праздники с Алькой, но не мог же он оставить ее, Эрику, на мамусиной шее, вот и пришлось таскать ее с собой. Так он все и объяснил этой кретинке в комиссионных сапожках, уверив ее, что вернется как можно скорее. Вот уж, должно быть, развлекались они, когда она давала ему эти свои старые доски, широченные брюки и куртку с нашитыми заплатами. «Самый шик», – припомнились ей слова Павла. Ну да, он все одолжил «у одной сокурсницы»; о любой другой спокойно сказал бы: у Галины, у Янки. Не видеть бы его никогда больше. Никогда. Хорошо, что она вышвырнула эту вонючую куртку. И так тепло, а заработать воспаление легких совсем чудесно. Она снова упала и снова поднялась, почти не чуя этого. Только бы дальше, быстрее, только бы – никогда в жизни. Деревья кончились, тут где-то был поворот.
В Кузницах она будет примерно через час, автобусом доедет до станции (в кармане сдача от кока-колы, которую они пили днем), а потом будь что будет, как-нибудь перебьется. Но тут трасса стала вдруг резко круче, и Эрика неожиданно набрала скорость. Она согнула колени, но силы все убывали. Ледяные кристаллики секли ее по лицу, приходилось закрывать глаза. От стремительного спуска спирало дыхание, она словно бы перестала существовать – вся сконцентрировавшись в необходимости удерживать равновесие.
Что было сперва – крик, а потом сухой треск или наоборот? В сознании напоследок запечатлелась торчащая вертикально лыжа, нога, неестественно задранная кверху, взметнувшийся в воздух снежный фонтан. Потом верхушки елей как бы откачнулись назад на фоне светлевшего неба.
* * *
Он вбежал в комнату и с облегчением перевел дыхание; все лежало на месте – ее пижама, рюкзак, умывальные принадлежности, шарфик на спинке кровати. Но тут в дверях показалось ожесточенное лицо Худого, и, прежде чем он открыл рот, Павел понял: дело плохо.
– Лыж нет.
– Быть не может. Пойдем проверим.
– Нечего проверять, я знаю, куда она их поставила.
Спустя мгновение все снова были внизу.
– Надо разделиться и обыскать все вокруг. Ты иди на Карчмиско, – сказал Мартин. – Худой к Быстшицкой, я обойду все места близ базы. Ничего с ней не станет, но простудиться может. Впрочем… впрочем…
В этом «впрочем» заключалось то, о чем подумали все.
– А я говорю вам, она спустится лыжной трассой! – выкрикнул вдруг Худой то, что все боялись произнести вслух.
– Не спустится. – Павел хотел сказать это твердо, но голос его пресекся. – Она ведь без гроша. Все наши деньги у меня в кармане, у нее нет даже на автобус.
– Значит, поедет без денег, – уперся Худой.
– Кто ее знает лучше – ты или я? – спросил Павел.
– Если ты… – Худой задыхался, – то… то… Алька – скотина, факт! Но не из пальца же она все это высосала. Что-то ты должен был ей сказать.
– Неправда! – выкрикнул Павел. – Неправда, это она из ревности… Мне и в голову не приходило, что она может быть такой стервой! Я говорил с ней об Эрике, но…
– Не будем терять время, – прервал Мартин. – Разъезжаемся, сбор тут.
Поиски оказались безрезультатными. Никаких следов они не нашли. Ничего.
– Хватит валять дурака, – сказал Худой. – Я иду на спасательный пункт. Пусть ищут.
Спасатели, коротко посовещавшись, двинулись в путь. Худой и Мартин – с ними, Павел решил ожидать здесь. Кто-то ведь должен остаться на месте. В дом он не вошел, а, как безумный, принялся ходить вокруг. Через час он позвонил на железнодорожную станцию, не оставлял ли кто там лыж, но сторож ничего не знал, все было закрыто: тишина и покой.
Он снова вышел на улицу. Задул порывистый ветер. Павел дрожал от холода, обходя базу. Теперь он не сомневался: случилось что-то ужасное, непоправимое, и он никогда в жизни уже ничего не сможет объяснить ей, так и будет до самой смерти винить себя. Верно, под горячую руку он сказал что-то Альке, а она в удобный для себя момент не преминула воспользоваться этим… Нет, он не заблуждался на ее счет, всегда замечал в лице ее что-то жестокое. «На все способна», – вспомнились ему слова Марты. Но надо же было случиться такому именно сейчас, когда Эрика, наконец, поправилась, когда они, наконец, начинали понимать друг друга! Теперь, когда она начинала жить, когда…
Он видел перед собой ее глаза, ощущал мягкость ее волос.
– Павел! – настиг его вдруг пронзительный крик Марты. – Звонили из Кузниц. Есть! Нашли ее на лыжной трассе.
– Жива?
– Разбилась и нога сломана, тобогганом [6]6
Тобогган – сани для катания (лежа) со снеговых гор; широкий, загнутый впереди полоз.
[Закрыть]ее отвезли. Велели сказать тебе…
Но Павел не узнал, что ему велели сказать. Его уже не было.
* * *
– Не упрямься, Марыся, никто не вынуждает тебя перестать заботиться о ней, но надо же хоть на грамм рассудок иметь. Коль скоро так случилось, что девочка опять уже неделю рта не раскрывает, что толку от твоих забот? Ты что же думаешь, только вы мучаетесь? Ведь и ей не сахар небось жить у вас принудительно в качестве калеки. Тем более если между ними что-то было. Способна ли она, к примеру, сама дойти до ванной?
– На костылях ходит, но у нас теснотища, не повернешься.
– Ну видишь, что за жизнь в таких условиях? Ты всегда трезвая была, а тут вдруг на тебя нашло. Хватит дискуссий, привози ее ко мне.
– Ты не знаешь Эрики.
– Авось не укусит. К тому же ручаюсь, что сейчас она рада любому случаю покинуть ваш дом.
– А ты?
– Знаешь, у меня так пусто стало с тех пор, как мои уехали… Не бойся, ей-богу, мы с Эрикой поладим.
Пани Мария взглянула на подругу.
– Ей бы с самой с собой в ладу быть…
– Иногда этому помочь можно.
– Не будь оптимисткой, не тот случай… К тому же я понятия не имею, как сказать ей об этом: она все понимает превратно. Ужасно раздражительная. А после того, что случилось, бог знает, как воспримет это.
– А что, собственно, случилось?
– Сама толком не знаю. Павел ни слова мне не сказал. Но по всей вероятности, что-то очень серьезное. Худой был у нас раза три. Они, кажется, очень с Эрикой сдружились там, в горах, а между тем она вообще не пожелала его видеть. Сидели они вдвоем с Павлом, что-то там обсуждали, я его ужинать оставила, он за ужином о чем угодно говорил, но на эту тему тоже ни словечка. Только уходя, на лестнице, шепнул мне, что на лыжной базе Эрику очень сильно и незаслуженно обидели.
– Павел виноват?
– Я о том же спросила. Он сказал, что частично, но из-за неблагоприятного стечения обстоятельств Эрика считает, что виноват исключительно Павел. Словом, ничего я, собственно, не узнала и, видимо, уже не узнаю. Павел ужасно подавлен, я его таким в жизни не видала. – Она задумалась. – А тут переезд к тебе. Еще один удар для Эрики.
– Но ведь она сама к вам не хотела, просила оставить ее в больнице. Скажешь просто, что у вас тесно, на костылях передвигаться трудно, а уж дальше я сама справлюсь. Завтра суббота, приезжайте ближе к трем, я за это время что-нибудь соображу.
* * *
За всю дорогу они не обменялись ни словом. По замкнутому лицу Эрики нельзя было понять, что она чувствует – облегчение или просто ей все безразлично. Впрочем, так было и вчера, когда Мария передала ей приглашение Ядвиги.
«Там больше места, – сказала она. – Веранда, сад, тебе будет лучше, чем в закрытой комнате».
Тишина.
«Мне кажется, это хороший вариант. Но последнее слово, разумеется, за тобой».
«Едем сейчас».
«Мы договорились на завтра».
«Чем раньше, тем лучше».
– Двадцать три? – обернулся водитель. – Тут, кажется?
– Да, – очнулась пани Мария, вся еще во власти вчерашнего разговора. – Тут.
Она помогла Эрике выйти, заплатила и взяла ее сумку.

Изгородь была деревянная, поросшая мхом. Калитка слегка скрипнула, когда Мария толкнула ее, где-то далеко слышался собачий лай. Садик был еще серый, но стоял на диво теплый январь, и в воздухе словно бы пахло весной. Эрика увидела чернеющий кустарник, укрытые соломой кусты роз, а у забора – подгнившие, полегшие, будто усталые зверьки, длинные, гибкие листья ирисов или гладиолусов.
Со ступенек веранды сбежала высокая худая женщина. У нее были короткие седеющие волосы, довольно большой нос, выразительные глаза и выдвинутый вперед подбородок. «Шопен», – подумала Эрика. Вдруг из какого-то закоулка памяти возник рисунок Делакруа [7]7
Делакруа, Эжен (1798–1803) – выдающийся французский художник, крупнейший представитель романтизма во французском искусстве.
[Закрыть]над пианино, старомодные, с наклоном, стилизованные буквы: «Фридерик Шопен», рама красного дерева, пожелтевший картон. И голос Олека, держащего ее на руках: «Покажи-ка лапки. Будут они когда-нибудь играть на фортепьяно?»
Она пожала плечами. Олек… Лапки…
Женщина была уже рядом.
– Не надо здороваться со мной, костыль уронишь. Обе мы и так знаем, кто из нас кто. Хорошо, что ты, наконец, приехала, я уж давно уговариваю Марию привезти тебя ко мне. Здесь тебе и удобней и свободней будет. Меня до вечера нет дома, но есть старая домработница, она всегда подаст тебе, что нужно.
Эрика не ответила, но с облегчением констатировала, что Ядвига и не ждет никакого ответа. Взяв сумку из рук пани Марии, она первая взошла на веранду.
– Садись, тут для тебя шезлонг приготовлен.
Эрика отставила костыли, осторожно уселась на полосатом, покрытом одеялом шезлонге и глубоко вздохнула. Мария с Ядвигой вошли в дом, она осталась одна. Веранда выглядела как остекленная терраса, это было оригинально и красиво. Рядом с шезлонгом стоял накрытый столик: пирожные, повидло, масло на серебряной тарелочке. У Ядвиги – не очень-то благозвучное имя, к тому же «отягощенное» титулом: подруга пани Марии – глаза карие, доброжелательные. Эрике показалось вдруг, что она давно ее знала, во всяком случае, знакомство с ней явно не вызывало неприятных эмоций.
Это удивило ее. Она твердо была убеждена – после своего приключения в горах, – что уж ни за что на свете не захочет ни с кем знакомиться, даже если это будет вовсе безобидный человек, как Худой, например.
Впрочем, она и раньше не любила новых знакомств. Осуждала человека, еще не успев с ним познакомиться, настраивалась к нему враждебно, и тут уж ничего нельзя было поделать. Так случилось и с пани Марией. Решила невзлюбить ее и невзлюбила. Исключение было в горах. Там она как-то расслабилась, открылась – ну и, как положено, лишь подтвердилось правило. Об этом, не надо думать.
Обе женщины вернулись на веранду. Ядвига несла чайник с кипятком и заварочный чайничек, Мария – поднос, на котором стояли три стакана с ушками.
– Люблю эти твои йенские стаканы, – сказала Мария. – Давно собираюсь купить такие, но всякий раз в магазине одно и тоже слышу: «Были и все вышли».
– Удобные, – кивнула головой Ядвига и обратилась к Эрике: – Крепкий? А то Марыся у нас водичку любит.
– Ничего подобного, просто я не сплю после крепкого чая, – улыбнулась пани Мария.
Эрика с удивлением отметила, что тут она иная, чем дома, более раскованная.
– Крепкий, – сказала она.
– Такой, как мне. Крепкий чай и каплю сливок туда – лучший в мире нектар. Ты умеешь чай заваривать? А то я научу тебя. Есть несколько верных способов. Возьми пирожное. А вот тут повидло. Хорошее. Домашнее.
– В этом доме все домашнее, – сказала пани Мария. – И как ты находишь время и желание?
– Ну попробуй, Эрика. Или не любишь?
Эрике вовсе не хотелось есть, а уж тем более сладкое, но она взяла немного, чтоб отвязались.
– Хорошее, – сказала она.
Это было ее первое слово, произнесенное по своей воле под этой крышей.
– Время и желание… – повторила Ядвига. – Словно повидло сварить – это примерно то же, что всыпать тонну кокса в подвал. Ой, погодите… – И она исчезла.
– Еще о чем-то вспомнила. У нее тут сокровищница запасов, хозяйничать обожает.
Какое-то время они сидели в молчании, наконец Мария решилась прервать его:
– Мне бы хотелось, Эрика, сказать тебе несколько слов, прежде чем мы расстанемся. Я не вхожу в то, что случилось в горах, да и не знаю толком, что там было. Ты Павла не видела, но достаточно взглянуть на него, чтоб понять: вы пережили что-то очень тяжкое. Павел неузнаваем, он тоже перестал говорить.
Эрика пожала плечами.
– Во всяком случае, хочу просить тебя об одном: не включай Ядвигу в наши дела. Не в том смысле, что не рассказывай ей, а… не надо в мыслях соединять ее с нами. Отнесись к ней как к человеку постороннему, не имеющему с нами ничего общего. Так уж случилось, что мы с ней двадцать лет работаем бок о бок, но я не хочу, чтоб у тебя из-за этого возникло предубеждение к ней. Женщина она очень своеобразная, не похожая на меня, со своим особым отношением к миру и людям.
– Как ее зовут? – неожиданно спросила Эрика.
– Ядвига Карвовская.
– Она одинокая?
– Сын ее с семьей поехал по контракту на несколько лет в Африку.
– А сколько ей лет?
– Не знаю. Что-то около пятидесяти.
Пани Мария не в силах была скрыть изумление. Со времени своего возвращения с гор, да что там – с момента приезда из Вроцлава Эрика не сказала ей сразу столько фраз и уж тем более не задала столько вопросов. К тому же в словах ее не было враждебности. Неужто Ядвигины чары начинали действовать?
Они не заметили, что Ядвига уже стоит рядом; в своих туфлях на резине она неслышно подошла к ним.
– Вот моя наливочка! Кизиловая. Я человек скромный, но должна вам признаться, это просто чудо. Двухгодичная, а на вкус – словно бы лет десять настаивалась.
Она налила понемножку в маленькие рюмочки, наливка была красивого рубинового цвета, и внезапный закатный луч зажегся, заклубился в рюмках, напомнив о лете.
Эрика пила медленно, смакуя. Чуяла, как внутри расходится приятное терпкое тепло. Разве может тепло быть терпким? Однако же было.
– Полежи тут, а я покажу Марии, что и где собираюсь сажать, – сказала Ядвига, и они спустились по лесенке.
Эрика следила за ними взглядом. Видела, как Ядвига показывает рукой налево, охватив полукружьем ирисы, а может, гладиолусы, а потом и соломенные покрытия. «Розы… Когда цветут розы?» – подумала она. Во Вроцлаве их полно было в садике, но, поскольку цветами занималась «она», Эрика проходила мимо, вперив глаза в носки своих башмаков. Вон там, сбоку, побеги – это, верно, форзиция, да, конечно, в окошке комнаты видны были ее цветущие веточки. Она помнила, что форзиция при домашней температуре может зацвести даже на рождество. Теперь Ядвига показывала Марии вскопанные грядки, что-то объясняя при этом. «Пусть бы ушла». Хотя мысль эта не была столь уж навязчивой, Эрике очень хотелось, чтобы Мария уехала, забрав с собой воспоминание о том, что постоянно торчало у нее где-то в желудке подобно непереваренной пище и чему только кизиловая наливка начала вроде бы противодействовать.
Женщины вернулись на веранду, но Мария садиться не стала. Словно догадавшись – не иначе как телепатия – о желании Эрики, она взглянула на часы.
– Мне пора. Если на этот автобус не поспею, в Варшаву попаду не раньше восьми, а у меня еще куча дел.
– Я провожу тебя, – поднялась Ядвига. – Нашу остановку перенесли, теперь до самой Королевской горы идти надо. Покажу тебе короткий путь.
– До свидания, Эрика. – Мария улыбнулась и, пересилив себя, нагнулась, чтобы поцеловать Эрику в щеку.
Эрика не отстранилась, хотя почувствовала, что цепенеет. Минуту она боролась с собой, но все же решилась.
– Простите за беспокойство, – сказала она, и лицо ее страдальчески сморщилось от напряжения.
– Что ты, Эрика, о чем ты…
Они отвели глаза. Минутная тишина. Шаги по гравию. Хлопанье калитки. Эрика глубоко, с облегчением вздохнула.
Через середину сада шла короткая, выложенная плитками аллейка, слева от нее – купа кустов, за изгородью, в соседнем саду – высокие деревья, словно рисунок пером японского художника. Воздух был свежий, щебетала какая-то птаха (поздно, ведь ей уж спать пора), откуда-то издалека доносился шум самолета. Солнце как раз заходило за те японские деревья, все было оранжево-золотое, расплывчатое, как бы подернутое голубовато-синей мглой. Эрика вспомнила отблеск заката в рюмках с кизиловой наливкой и обрадовалась, что захватила с собой альбом и краски. Сидя целый день в одиночестве на веранде, можно ведь и порисовать немного. А потом подумала, что, пожалуй, впервые за много лет (не считая лыжной базы, но там все от первой до последней минуты было нетипичным; впрочем, хватит – вычеркнуть) она не ощущает в себе отчаянного желания бежать куда глаза глядят. Напротив, ей хотелось остаться тут, смотреть на контуры деревьев, на старый забор, на укутанные соломой розовые кусты и на привлекательное, хотя и некрасивое лицо Ядвиги. Здесь было уютно, уютно как-то «изнутри». А на Свентокшисской с первого же дня ее тяготило присутствие Павла и его матери, она чувствовала себя скованной и напуганной, лишней, ее словно бы против воли втолкнули в существовавший там гармонический мир, который она невольно разрушила.
В эту минуту за домом поднялась возня, и на террасу влетел страшный черный зверь. Не поинтересовавшись даже, кто сидит в шезлонге, он со всего маху взвалил на живот Эрике две свои тяжеленные лапы, горячо дыша ей прямо в нос. Агрессия была неожиданная и стихийная (этот, по крайней мере, без комплексов, ему даже в голову не приходит, что кто-то может его не хотеть), и Эрика не успела вовремя принять меры. Чертов «зверик» (ну и распущенная скотина!) уже возлежал на ней всеми четырьмя лапами, то есть по меньшей мере сорока килограммами. Это был черный лохматый пес, помесь водолаза с дворнягой или дворняги с водолазом, как есть сатана. Не хватало только полы хающего из пасти огня, впрочем, язык у него болтался большой розовой тряпицей. Эрика, не любительница такого рода общения, не протянула руки, чтобы его погладить (чего он, без сомнения, ожидал), напротив – замерла в неподвижности. Тогда он, искренне возмущенный, хлестанул ее полотнищем языка по губам, что, верно, должно было означать: «Ну, ты, делай что положено».
К счастью, заскрипела калитка и Эрика в мгновение ока была освобождена от тяжести.
– Бес! Боже мой, зачем ты позволила ему влезть сюда! Он же запросто опрокинет тебя вместе с шезлонгом и придется вторую ногу в гипс класть! Сумасшедший пес, к тому же хам из хамов.
Последние слова Ядвига говорила уже запыхавшись – пес от избытка чувств и энтузиазма вспрыгивал ей на плечи, так что она едва держалась на ногах.
Эрика смотрела, как Ядвига пытается схватить его за ошейник и, в конце концов побежденная, валится на мокрую землю.
– Знает, нахал, что он сильней меня. Филип так его разбаловал, что просто сладу с ним не стало. Целый день он на цепи, иначе не выдержать, а Филип, приходя домой, спускает его, ну и ты, верно, заметила, забор для него не помеха. Представляю, как ты напугалась, я виновата.
Она встала и отряхнулась, одновременно пытаясь отпихнуть от себя пса.
– Да отстань ты от меня, дьявол! Пойду привяжу, не то он нас угробит. Пошли-ка в комнату, Эрика, а то замерзнешь тут у меня.
Она уже держала пса за ошейник, а Бес (какой же он бес, с кем-то его спутали!) стоял рядом, опустив морду, очень расстроенный.
– Достанешь сама костыли? Покажи-ка руки! – Она на минуту выпустила собачий ошейник. – Ой, какие холодные у тебя лапы!
«Был бы еще там, к примеру, камин», – мелькнула у Эрики нелепая мысль, когда она ковыляла в дом, и потому, услышав голос Ядвиги, она чуть не рассмеялась.
– Вот сюда, поближе садись, Филип придет, велим ему камин истопить. Камин – это тебе не батарея, совсем другое тепло, да и куда приятней. А не придет Филип, сама истоплю.
«Настоящий дом, – подумала Эрика, но тут же одернула себя. – Впрочем, откуда мне знать, как должен выглядеть настоящий дом?»
Через минуту Ядвига внесла чай.
– Для сугреву. Нам он спать не мешает, значит, можем себе позволить. Возьми, подсласти.
– А вы?
– Только не «вы». Не потому, что моложусь, а как-то уж привыкла. Нет, я без сахара. Хочешь «Кармен»? Дорогие, что верно, то верно, но других я курить не умею.
Ядвига вынула из сумки стеклянный мундштук и всунула в него сигарету.
– Не для экономии, – пояснила она, – а так, что-то вроде мании; я, случается, часами бегаю от киоска к киоску в поисках мундштука. Этакий бзик…
Вздохнув с облегчением, она глубоко затянулась.
– К разговору себя принуждать не надо. Считай, что меня тут нет. Или иначе: что я дома и ты дома, мы тут на равных правах. Ты не гость, я не хозяйка, а иначе мы обе устанем. Ты делаешь, что хочешь и как хочешь, и я – тоже; есть охота – говори, нет – молчи. Очень меня этим обяжешь, я тоже буду чувствовать себя свободней, идет?
– Постараюсь, – сказала Эрика.
– Я вижу, ты дом осматриваешь? Странно небось, что простой служащий в таких хоромах обитает. Здесь, видишь ли, до недавнего времени еще сын мой жил с женой и ребенком. Несколько месяцев тому назад они уехали в Африку сахарный завод строить, ну вот и получилось… А у этого дома, как ты верно догадываешься, есть своя история. Она же и моя. Хочешь расскажу?
Эрика кивнула.
Ядвига налила себе кизиловой наливки, вопросительно глянула на Эрику и ей тоже поставила рюмку.
– Спаивание несовершеннолетних, да? Но, ей-богу, такая домашняя наливочка – само здоровье. Залпом не пей, кизиловую нельзя залпом пить. Видишь кизиловое деревце? Вон там, у калитки? В этом году мало ягод было, но я все же залила. Так вот, представь себе, живу я в этом доме с тридцать девятого года. В июне тридцать девятого сдала я на аттестат зрелости, а вскоре вышла замуж – это мужа моего дом. Он был много старше меня, я вторая его жена. В сентябре он попал в плен, а я осталась одна. Вернее, на какое-то время. Уже зимой родился Юрек. Родители мои остались под Вильно, мы оттуда родом, а я оказалась совсем одна; дура дурой, беспомощная, избалованная единственная дочь, неумеха, ни гроша за душой, и – никого. Из страха, что не справлюсь, я сразу же после прихода немцев поступила работать в угольную контору в Езёрне. Чтобы обеспечить себе и ребенку хотя бы топливо на зиму. Впрочем, расчет мой оказался не слишком умным, немцы сразу же заняли этот дом и топили все время сами. А мне разрешили только на кухне жить, ну и Юзефову оставили. Я в этой конторе четыре года подряд вкалывала с пяти утра до семи вечера, в грязи, вони… Юзефова у немцев убирала, стирала на них, ну и за Юреком присматривала. Пошлют ее, бывало, куда-нибудь, а он ревет, надрывается. Пока ребенок маленький был, я еще не слишком беспокоилась, ну подумаешь, на худой конец в мокрых пеленках вылежится. Зато потом, когда уж ходить начал… Года два изо дня в день забирала я его с собой в контору. Тут клиенты, а тут ребенок в угле на карачках ползает. Что там говорить, домой он возвращался такого цвета, как Бес, а я после двенадцатичасового рабочего дня – к корыту. Так всю войну в той конторе и просидела. Ты не представляешь, какие у меня в то время комплексы были. Все мои сверстницы – связистки, героини, а я – уголь и пеленки, пеленки и мыльная вода, они – в подполье, а я у корыта. Такая была моя война.
– Вы… ты не боялась?
– Времени не было. Хотя да, я ужасно голода боялась. Ну и, разумеется, испытала его, так всегда в жизни бывает. Как пришло освобождение, те, у кого деньжата водились или было что продать, как-то перебивались на первых порах, а у меня – хоть шаром покати, пара «млынарок» – так деньги назывались, выпущенные в Кракове во время войны, да что ты там знаешь об этом! – а больше ничего. Спас нас с Юреком русский солдат. Зашел он как-то к нам руки помыть, Юрек орет как резаный, а он: «Чего это он орет так?» – «А с голоду». Посмотрел он на нас, понял, видно, что не вру я, и дал мне канистру бензина. «Продай, – говорит, – а я за канистрой через несколько дней зайду». Так и не пришел, должно быть, погиб вскоре, а я миллионершей стала. Бензин, понимаешь, по тем временам дороже золота был. За этот бензин я у крестьян крупу и картофель выменяла. Звали его… постой, как-то странно его звали, ведь помнила всегда, а сейчас вот из головы вылетело. Если б я могла молиться за него, этот Евсей – о, само вспомнилось, Евсей, красиво, да? – вечно бы в раю пребывал. Как сейчас помню его. Сибиряк. Стройный. Косая сажень в плечах… А между прочим, ты знаешь, сколько времени? Полдесятого, да еще ужинать надо…
– А родители? Вы… ты их нашла после войны?
– Отца. Мать умерла далеко отсюда. А отец жив, во Вроцлаве живет с братом моим…
– Во Вроцлаве! – почему-то обрадовалась Эрика. – На какой улице? Как его фамилия?