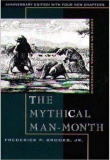Текст книги "Встречаются во мраке корабли"
Автор книги: Зофья Хондзыньская
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
– Чай остынет, – мягко сказала пани Мария. – Строчишь, как из пулемета. Пей спокойно, я никуда не убегаю и выслушаю тебя до конца. Откуда вдруг эта нервность?
– Но только трудные решения… – Он откусил бутерброд и с набитым ртом закончил: – Только трудные решения могут в самом деле дать какой-то результат. Это не я нервничаю, отложи-ка нож, а то порежешься. Ничего не случилось, никто не умер, и твоему обожаемому единственному сынулечке ничего не грозит.
– Перестань валять дурака, Павел, и поговорим, наконец, как двое взрослых людей. Ведь ты же знаешь, о чем я, кроме всего прочего, думаю.
Павел с чувством облегчения кивнул головой: пусть уж будет так. Быка за рога.
– Понимаешь, что там ни говори, нельзя игнорировать того факта, что под одной крышей поселяются шестнадцатилетняя девушка и девятнадцатилетний юноша. Подумай, сколько причин для конфликтов. Если ты будешь добр к ней, то одинокая, жаждущая душевного тепла девушка – это же естественно – влюбится в тебя. Если у тебя не хватит терпения – не прерывай, уж мне ли тебя не знать! – она будет страдать, а ты ее возненавидишь, то есть произойдет нечто обратное тому, что ты задумал. Не говоря уж о том, – она вздохнула, – что, если все сложится, как говорят, наилучшим образом…
– Ну и будет все как нельзя лучше, – невозмутимо сказал Павел. – Это, пожалуй, самый лучший выход. Я бы женился на ней, и дело с концом. Загвоздка в том, мама, что она, увы, не будит во мне спонтанной симпатии. Пока что.
Она рассмеялась, хотя сердце у нее колотилось. Тоже мне психолог, исцелитель, дитя неразумное!
– Как же ты себе это представляешь, Павел? Не так-то легко постоянно быть с кем-то, кто не будит «спонтанной симпатии». Какой ценой ты хочешь лечить ее нервы? Изодрав свои в клочья? А если она будет раздражать тебя?
– Думаешь, во Вроцлаве она меня не раздражала?
– Но это длилось всего неделю, а тут будет длиться неограниченное время. Все, что ты говоришь, Павел, – прекрасно, но абсолютно нереально. Ты забываешь, какова в самом деле Эрика. Вспомни все, что ты сам говорил мне: агрессивность, неврастения, смена настроений, безалаберность. Как ты это себе представляешь? Сможешь ли ты работать, если она постоянно будет сидеть у тебя на голове? Жертвовать собою – это, конечно, весьма благородно, но, боюсь я, такого рода жертва плохо кончится и для тебя и для нее.
– Да перестань ты, Маня, пророчествовать на целую вечность. Пойми, судьба поставила ее на моем пути. Я не могу рассуждать, что бы да кабы, поскольку знаю, точно знаю: если жизнь ее не изменится, она погибла. А вот если нам удастся вытащить ее сюда и создать такие условия, при которых напряжение ослабнет, она, возможно, будет спасена. Признайся, искушение велико.
– И риск тоже.
– Что поделаешь. Если заранее предполагать неудачу – ничего не выйдет.
Она не ответила. Понимала: защищать утраченные позиции – значит потерять авторитет. Павел сейчас не уступит ни за что на свете.
Он встал из-за стола и теперь ходил по их маленькой комнатке от окна к двери, от двери к окну.
– Душно здесь, – сказал он.
Нет, она не позволит этому наивному медведю совершить такое безрассудство. Но как? Как по-умному это сделать? Ему надо спокойно кончить институт, не впутываясь ни в какие драматические ситуации.
То, что он кого-то обидел, могло обернуться для него трагедией. Не говоря уж о том, что и сам он легкоранимый. Ну, а Эрика? Нет, брать на себя такую ответственность – не по силам. К тому же не будет ли это еще одним ударом для Сузанны? Затея нелепая, это ясно.
Павел остановился перед нею.
– Не бойся, Маня, – сказал он. – Мне кажется, ты ужасно преувеличиваешь. Типичный для взрослых катастрофический взгляд на жизнь. Не всегда правильный, точнее, почти всегда неправильный. Зачем предвидеть одни огорчения? Может, будет совсем иначе: ты к ней привяжешься, она войдет в норму и тогда удастся как-то направить ее на верный путь? Все это, ей-богу, не так уж трудно. Или получится…
– …или не получится. Вот именно. Я хочу тебе вот что предложить. Решение, правда, не соломоново, но тише едешь – дальше будешь. Давай отложим все на месяц, через месяц и решим. Идет?
Павел молчал. Не очень-то знал, что ответить. С одной стороны, нельзя было не признать Маниной правоты. Эрика много лет жила так, может пожить еще месяц. С другой… Где-то в глубине души он боялся, что через месяц, уйдя в свою жизнь – занятия, работа, друзья и, кто знает, может, снова Алька, – он уже не найдет в себе той энергии, которая заставляла его верить в неизбежность такого выхода. А что это было именно так, он знал точно. Выход неизбежный и единственный. Последний.
– Ой, Маня, Маня, задумала ты меня вокруг пальца обвести.
– Ничего подобного. В общем-то, хочу испытать тебя. Если это всего лишь минутный порыв, то лучше и не начинать, хотя бы ради нее. Она не может жить иллюзиями.
Павлу вспомнилась сцена в кафе, и сразу противно заныло под ложечкой. Еще раз? Нет! Упаси господи!
– Если через месяц, уже не сгоряча, все обдумав, ты по-прежнему будешь убежден, что ее надо привезти к нам, рассчитывай на мою помощь.
Она поцеловала его в лоб и, по своему обыкновению, шутливо взяла за подбородок.
Павел закурил. Ему стало грустно. Вроде бы выиграл… Грустно. Да нет, не выиграл… Все равно грустно. Если не хватит у него энергии, все ограничится лишь благими намерениями, то есть ничем. А если энергии хватит и… и… дружба, тепло, сердечность – прекрасно, но как это выдержать?
Он прикрыл глаза и, затянувшись дымом, увидел захламленную комнату Эрики, прожженную занавеску, постель, заваленную газетами и пластинками, один деревянный башмак у окна, другой где-то под кушеткой, хлеб с воткнутыми в него сигаретами. Запах окурков.
Встречаются во мраке корабли…
Слова… Насколько же они дешевле, легковеснее дел.
* * *
Он не раз уже задумывался, почему судьба никогда ничего не хотела решать за него. Друзья часто вспоминали разные случаи, когда что-то словно бы включалось вдруг и в результате они выезжали или не выезжали куда-то, поступали на тот или иной факультет, знакомились или избегали знакомства с той или иной девушкой. С ним ничего подобного не происходило. Любое дело он должен был сам начать и довести до конца (умно или глупо, верно или неверно) сам, на собственный страх и риск, под свою ответственность. Один-единственный раз случилось иначе: сейчас, в истории с Эрикой. Познакомился он с ней не по своей воле, и дальше все складывалось как бы помимо него – похоже, судьба и вправду решила взять на себя инициативу.
Примерно спустя неделю после разговора с матерью, возвращаясь из института, он увидел конверт в почтовом ящике. Что это? Эрика решилась ответить на его последнее письмо? Нет, почерк был аккуратный и ровный – не ее, и адресат не тот: Марии и Павлу Радванским. Павел взглянул на штемпель: Вроцлав. Значит, все же оттуда. В нынешней ситуации это могла быть только Сузанна. «Стряслось что-то», – подумал Павел и почувствовал неприятный холодок в сердце. С минуту он взвешивал письмо в руке, словно пытаясь угадать его содержание. Но тревожное чувство заставило его вскрыть конверт.
Не знаю, Павлик, твой ли отъезд тому причиной, или что-то другое, о чем я не имею ни малейшего понятия, но Эрика в течение последних двух недель стала абсолютно невыносимой, несравненно, неизмеримо хуже, чем когда ты был у нас. Представить трудно, каким топом она говорила со мной, что вытворяла. Не хочу, да и не в состоянии занимать вас подробностями. Ночью пришлось вызвать врача, думала, у меня инфаркт. До сих пор с трудом держу перо в руке. Устроив кошмарный скандал, она переколотила тарелки и выбила стекло в столовой. Больше так продолжаться не может. Для общей нашей пользы попытаюсь поместить ее в интернат, потому что одно упоминание о санатории вызывает у нее приступ ярости. Няня проливает слезы, но даже она поняла, что другого выхода нет. Эрика знает о моем решении, она объявила, что ее это устраивает: везде, где угодно, даже в аду, ей будет лучше, чем дома. Я уже написала об этом Олеку…
– Что за письмо? – из-за гладильной доски спросила пани Мария.
Вместо ответа Павел протянул ей бумагу. Она отставила утюг, пробежала страничку, а потом молча снова склонилась над блузкой. Оба не произнесли ни слова. Павел чувствовал: в молчании решается нечто такое, чего мать его сейчас страшно боится. Он подошел и поцеловал ее в мягкую щеку.
Она отставила утюг и села в кресло. Выглядела очень усталой.
– И что теперь? – спросила она.
– Что ты решишь.
Он смотрел на мать, на лице ее отражались противоречивые чувства.
– Ну что ж, придется помочь тебе, Павел. Когда ты за ней поедешь?
В этом была вся Маня.
Он слушал ее и кивал головой – бедной своей, полной смятения головой. Случилось то, чего он опасался: тогдашнего запала в нем уже не было. Нет, он не забыл об Эрике, он помнил и думал о ней, но тот священный огонь, на котором он готов был сжечь себя ради нее, понемногу угас. Не только мать боялась – он тоже боялся.
* * *
Впервые в жизни он в полной мере испытал нечто до сих пор не изведанное: терпкий вкус горечи. Ну ладно, она не обрадовалась ему – бог с ней. Это еще можно понять, он ведь и не ждал, что Эрика примет его предложение с восторгом; она вообще не из восторженных. Но тут ведь сопротивление, недоверие. И тон – насмешливый, злой. Уже звонок его был принят недружелюбно. Эрика отвечала односложно, а когда он сообщил, что собирается к ним приехать, заявила, что не имеет ни малейшего желания видеть его. Но это Павел свалил на прошлое: значит, она все еще травмирована и, несмотря на примирительное письмо, еще таит на него обиду. Надо отнестись к этому спокойно, постараться переломить ее недоброжелательный тон. «Надеюсь, моего желания видеть тебя хватит на нас двоих», – сказал он, вполне довольный собой. Наступила короткая пауза, и тут – он явно это почувствовал, мог бы поклясться, что не ошибся, – Эрика на другом конце провода показала ему язык. Не обескураженный этим, он попросил, чтобы она встретила его на аэродроме. Эрика что-то там буркнула, чего он не расслышал, и на том дело кончилось. На аэродром она не приехала.
Сузанна приняла его очень сердечно, но, узнав, зачем он приехал, объявила, что слышать об этом не хочет. Павел не верил собственным ушам. Они с матерью были убеждены, что ее обрадует такая перспектива – как-никак дочь будет жить у друзей, в обстановке заботливости и дружелюбия. Но Сузанна сказала, что их предложение ставит все с ног на голову, более того – рушит ее планы. Их вариант – лишь временное решение вопроса.
– Ну, выдержите с ней месяц, в лучшем случае – два. А что потом?
Павел не осуждал Сузанну. Видно, дошла до точки. Выглядела она больной. Бросалась в глаза ее нервность, странная манера поведения, запавшие глаза. Она сильно изменилась с тех пор, как он ее не видел, была какая-то пришибленная, не столь энергичная. И то, что она делала, вызвано было не целесообразностью, а нервной потребностью двигаться. Перекладывала какие-то вещи с места на место, барабанила пальцами по столу, по десять раз размешивала чай.
Павел пошел в кухню и поставил воду на плиту. Когда он шарил в холодильнике в поисках колбасы, послышался скрежет ключа в замке, хлопанье двери и вслед за тем тяжелые шаги Эрики. Первым его движением было побежать за ней, поздороваться, но он тут же овладел собой. Сейчас, при Сузанне, это не имело ни малейшего смысла.
Он вернулся. Сузанна сидела за столом в той самой позе, в какой он ее оставил.
– Слышал? – Она взглядом показала на комнату Эрики. – Мы вообще не видимся.
Он кивнул и подвинул ей бутерброды.
– Нет, я не буду. Ешь сам.
Она определенно выглядела больной.
Вскоре Сузанна ушла. Пойти к Эрике наверх? Нет, поздно, пожалуй, отложим на утро. Уж могла бы сама поздороваться с ним, коль скоро не изволила встретить.
Спал он плохо, уличный фонарь опять светил ему прямо в глаза, но не это было главной причиной бессонницы. Мешал страх, неуверенность, злое предчувствие. В полусне он прислушивался, не шастает ли Эрика, как обычно, ночью по дому, тогда бы он пошел к ней на кухню. Но стояла абсолютная тишина.
Когда он встал, Сузанны уже не было. Он страшно проголодался. Нервное состояние (экзамены, поездки) обычно вызывало в нем волчий аппетит, особенно на сладкое. В доме было тихо, он поставил замок на предохранитель (забыл попросить ключи), сбегал в кафе на углу и купил там десять пончиков. Четыре съест утром с кофе. А то ведь бог его знает, что предстоит днем.
Выпив кофе с пончиками, он поднялся наверх и с сигаретой во рту постучал в комнату Эрики. Она лежала на кушетке, бледная, встрепанная, некрасивая. Павел впервые видел ее с ненакрашенными ресницами. Они коротко поздоровались («привет!»).
– Можешь ничего мне не говорить, – обратился к ней Павел. – Я все знаю. Мы договорились с мамой, и я приехал, чтобы забрать тебя к нам, в Варшаву.
Он умолк. Эрика по своей привычке вскинула брови, но ни словом не отозвалась.
Переждав минутку, он спросил:
– Молчишь? Не хочешь?
И поскольку она продолжала молчать, прибавил:
– Послушай, ты в самом деле не хочешь, чтобы мы были рядом, Эрика?..
– Что такое? – губы ее скривились в иронической гримасе. – Значит, работа у тебя все же не вышла? Дополнительный материал понадобился?
Павел долго молчал.
– Ну, если так… – пробормотал он, наконец, очень тихо, изменившимся голосом. – Если так, то я и вправду, пожалуй, напрасно сюда приехал.
– А как?! – забился о стены голос Эрики. – Думаешь, я снова дам себя обмануть? Опять брехня? Опять переливание из пустого в порожнее?
«…На земле или на море. На земле или в небе. Эрика». Брехня. Переливание из пустого в порожнее. Проклятие! Выйти бы сейчас, трахнув дверями, как она обычно делает, и послать к чертовой матери всю эту психопатию.
Он подошел поближе.
– Повернись ко мне! – И так как она лежала, не меняя позы, повторил: – Слышишь, повернись ко мне. А теперь слушай: ты несправедлива и жестока. Я так обрадовался представившейся возможности убедить тебя, что ты тогда ошиблась… И дело было вовсе не в моей работе. Я верил, что смогу показать тебе иную жизнь (Эрика снова презрительно надула губы), иные отношения в семье, чем те, которые ты знаешь и в какой-то мере сама создала. Я хотел, чтоб у тебя были нормальные, спокойные условия жизни, и тогда мы могли бы дружить по-настоящему.
– Я сама ненормальная, и нормальные условия мне ни к чему, – снова прервала она, врастяжку произнося слова. – И уж кому, как не тебе, это знать, ты ведь достаточно наблюдал меня. Оставь ты меня, наконец, в покое, святой Павел, чертом подшитый, хоть ты оставь меня в покое! – И она снова отвернулась к стене.
Павел спустился вниз. Впервые в жизни он чувствовал себя совершенно беспомощным, не знал, что говорить, какие приводить доводы. Но после полудня снова поднялся наверх. Эрику он застал в той же позе, только пепельницы были полные («Мать честная, сколько же она курит! – мелькнуло у него в голове. – Буквально сигарету за сигаретой…») и надымлено – хоть топор вешай.
Разговор между ними, прерываясь, возобновляясь и снова прерываясь, тянулся почти до самого вечера. Ощущая явную гротескность ситуации, но словно бы заупрямившись, Павел в течение нескольких часов упрашивал, уговаривал Эрику. Не однажды, доведенный до крайности, он хотел вскочить и, оттолкнув стул, выбежать из комнаты, но тут же вспоминал ее лицо в кафе, ее слова: «Я должна была знать. Кто бы добровольно стал тратить на меня время? И зачем? Никому никогда не хотелось, не стоило, и так уж будет до самого конца». И снова садился и снова принимался убеждать. Прямо перед ним было ее лицо – неприязненное, насмешливое, искаженное злобной гримасой.
«Психические больные вызывают обычно не жалость, а антипатию – в этом их беда, – вспомнил он слова профессора Абламович, лекции которой очень ценил. – Психиатр или психолог обязан непрерывно контролировать такого типа реакции».
Теперь Павел не ощущал уже, что он борется за судьбу Эрики, он боролся как бы за себя – за свое призвание, за собственную душу, – вопреки себе, ибо всем своим существом жаждал проиграть, не везти Эрику в Варшаву, уступить ее упорству. Но покориться было нельзя.
Под вечер Эрика сказала, что она вконец измотана, ничего уже не хочет, только бы скорей прекратить этот разговор.
– Завтра скажу, что я решила, дай немного отоспаться.
Расстались они молча. Павел замертво рухнул на постель. На следующее утро, когда он делал себе завтрак, она вошла в кухню. Он вздохнул глубоко, словно собираясь нырнуть, и молча взглянул на нее.
– Ты выиграл. Еду с тобой. Уже собралась, – коротко сказала она.
– Порядок.
И продолжал готовить завтрак. Забавно! Так навоевался, а теперь, когда она уступила, не чувствовал ни малейшего удовлетворения. Мелькнуло лишь: «Надо Маню предупредить, надо тут же позвонить ей». Он взглянул на часы.
– Послушай, раз так, давай побыстрей. Поезд идет через час. А то вечерним хуже.
– Когда надо будет, зайди за мной.
И вышла из кухни, громко хлопнув дверью, а Павел принялся звонить в Варшаву.
Сузанна тоже уже не противилась. Примирилась со свершившимся.
– Замучит она твою мать, как меня замучила, – сказала она. – Но я уж ничего не могу. Помни, я предупреждала вас.
Павлу стало грустно. Хуже того – плохо. В таком настроении они переждали время до выхода на вокзал: он внизу, она наверху, Сузанна у себя.
Когда они выходили, он взял у Эрики чемодан. Она шла впереди, прямо к двери, не бросив даже взгляда на комнату Сузанны. От калитки повернула вдруг обратно. «Неужели? «– удивился Павел. Не тут-то было. Она исчезла на минуту и тут же вернулась с альбомом под мышкой.
* * *
После звонка Павла пани Мария долго сидела не шелохнувшись, не кладя трубки. Итак, жребий брошен. До сих пор она все еще надеялась на чудо – что Павел вернется домой один. Ничего не поделаешь. Раз уж они приезжают, и притом через два часа, надо хоть как-то подготовить квартиру. Валено сразу же определить Эрике ее собственное «жилое пространство», чтобы она не распространялась по всей квартире. Это сразу положило бы границы ее разгильдяйству, которое – чего греха таить! – может, более всего пугало пани Марию.
Если пойти на работу, ничего не успеешь.
– Свершилось, Ядвига, – позвонила она приятельнице; почти двадцать лет сидели они стол в стол, их связывала дружба внешне сдержанная, но многократно проверенная. – Павел звонил. Приезжают.
– Когда?
– Сегодня.
– Так я и думала. Не тревожься и останься дома. Будь спокойна, я шефу все объясню. Делай, что считаешь нужным, и не нервничай. Жаль тратить энергию на то, что все равно неизбежно.
– Можно было как-то избежать.
– Ошибаешься. Нельзя. Раз уж Павел уперся, твой отказ испортил бы ваши отношения. К тому же… Ты ведь сама считала, что девочке надо помочь.
– Надо, но не такой ценой.
– Еще раз говорю тебе: не стоит думать задним числом. Свершилось. Впрочем, если тебе это окажется не по силам, пришлешь ее ко мне. Ты же знаешь – после отъезда Юрекова семейства места в Константине хоть отбавляй. Будет кому Беса отгонять, а Филип…
– Тебе еще не хватало…
– Какая ерунда! Звони, если что-то будет нужно.
Каморка за кухней (есть в ней шесть метров, как указано в ордере? Пожалуй, нет…) была забита чемоданами, какими-то картонками, бутылками, коробками, там же стояла корзина для грязного белья. Кое-что пани Мария отнесла в подвал, остальное водрузила на антресоль, корзину поставила в ванную. Потом она подмела и натерла мастикой пол, с дворником они притащили из подвала узкую кушетку, на которой раньше спал Павел, она накрыла ее покрывалом, положила пару разноцветных подушек, повесила занавески, на полочку в угол поставила горшок с ниспадающим плющом. У кушетки на табурете поместила лампу с соломенным абажуром и маленький транзистор, который они слушали иногда, если не было ничего интересного по телевизору. «Пригодился бы еще коврик, – подумала она, глядя на дело своих рук. – Где бы его раздобыть?» И тут вспомнила, что на антресоли спрятана вьетнамская циновка. Она сняла ее сверху и положила у кушетки. Критическим взглядом окинула комнату. Что ж, вполне уютная конурка.
Она и оглянуться не успела, как пришло время приезда «детей». С раздражением поймала себя на том, что именно так и подумала: «детей», и в душе посмеялась над своей наивностью. Они еще ей покажут… Она боялась Эрики, ее поведения, ее влияния на Павла, она боялась даже самой себя, напряженности, неестественности в своем поведении. Но самое страшное было потерять на… во всяком случае, очень надолго то единственное, что она имела и ценила более всего, – спокойствие и приятную атмосферу в доме.
Зазвонил звонок (она тут же узнала нетерпеливую руку Павла), и пани Мария с тяжелым сердцем пошла отворять.
* * *
В освещенном дверном проеме Эрика увидела маленького роста шатенку с пышными, заколотыми в большой узел волосами. Судя по высокому и не слишком худому Павлу, она, скорее, ожидала встретить женщину крупную и полную. Это хрупкое существо было полной неожиданностью. Но хотя мать Павла, вопреки ожиданию, оказалась не такой уж противной, на лице у Эрики не было и тени улыбки. Подала руку неловко, неприветливо, не глядя в глаза. Пани Мария поздоровалась с ней весело, но тоже вполне сдержанно. Слава богу, не хватало еще телячьих нежностей!

– Здравствуйте. Представляться друг другу не будем, правда? Раздевайтесь. Павел, внеси ее чемодан. Пойдем, Эрика, я покажу тебе твою… комнатой это трудно назвать, но другой у нас нет.
Эрика молча окинула взглядом веселую, старательно прибранную клетушку. Заметила все: плющ, радио. Сунула руку в карман и… черт, нет сигарет. А уж так нужны сейчас! Надо будет выскочить вечером, без сигарет – зарез.
– Часть вещей можешь положить в тот комодик. Остальное повесишь в нашем общем шкафу в передней, с левой стороны, я тебе приготовила там пару вешалок. Как доехали, хорошо? Поезд не очень был переполнен? Давайте-ка прежде всего напейтесь чаю. Пошли, дети.
«Дети, – подумала Эрика. – Ну, ясно… Началось. Не была ее ребенком и быть не намерена. Нужна мне ее милость, как же». Она неприязненно взглянула на мать Павла. Кисуля. Нет ничего хуже этакой преднамеренной слащавости. Само собой – подруга Сузанны.
Эрика без слова села за стол, но ни к чему не притронулась и в течение всего вечера не раскрыла рта. Выпила только чай, в котором отражалась висящая над столом лампа; светила она весело, «по-семейному», как бы с издевкой.
Ей страшно хотелось курить, но раз уж решила молчать, не просить же сигарету у Павла; когда он протянул ей пачку «клубных», она машинально, не успев подумать, отказалась и тут же горько пожалела об этом: ее буквально корчило от желания хоть разок глубоко затянуться. Павел взглянул на нее, но ничего не сказал, встал из-за стола и включил телевизор. Минуту они слушали известия, потом пани Мария обратилась к Эрике:
– Пойдем, Эрика, я помогу тебе устроиться в твоей клетушке. Располагайся в ней, как тебе удобно, я бы хотела, чтобы ты чувствовала себя тут не как дома, а просто дома. Вот твои ключи. Помни, нас целый день нет, и если ты забудешь их, выходя, то не сможешь попасть в дом; вот этот – от верхнего замка, этот – от нижнего, но поворачивать его надо в обратную сторону, словно закрываешь. Понятно?
Нельзя сказать, чтобы она была подчеркнуто любезна, тон самый обычный, дружелюбный, но и это разозлило Эрику. «Располагайся… дома…» Отвратная баба! И вдруг захламленная комната на втором этаже вроцлавского двухквартирного домика, комната, в которой она могла делать все, что душе угодно, представилась Эрике утраченным раем. Эх, схватить бы сейчас чемодан, оттолкнуть эту зануду, поймать такси и на вокзал! И чего ради она уступила, зачем согласилась приехать?.. Да просто уставшая была. «Завтра», – подумала она и тяжело опустилась на стул.
– Постель в кушетке. Ну, что ж не распаковываешься?
Вопрос был задан в лоб, что-то надо было ответить, но Эрика молчала. Не хотелось в присутствии этой расфуфыренной обезьяны вываливать свое мятое барахло. Минуту она колебалась, потом вдруг, не глядя на мать Павла, взяла свою сумку и все ее содержимое – бумаги, колготки, свитер, краски, кусок творожника – высыпала на чистую кушетку. Пани Мария не промолвила ни слова.
– Тебе, наверно, приятно будет искупаться, пойдем, я покажу, куда класть вещи в ванной.
Эрика тупо последовала за своей провожатой.
– Вот здесь твое полотенце, розовое, и розовая кружка для чистки зубов. Голубая – моя, желтая – Павла. Хочешь, напущу воды? Обрати внимание: душ не до конца закручивается. Рубашку кладу вот сюда.
Вода лилась из крана. Эрика – одна уже – вглядывалась в нее, сидя на низенькой скамеечке. «Розовая, желтая, голубая»… Ну и идиотка! Кружечки для зубов всех цветов радуги… Сорокалетняя кисонька. Не хватает еще полотенец с петушками или с белочками. И детской пасты «Яцек и Агатка». Она сидела не двигаясь, опустошенная, как бы полая внутри, невесомая – никто. С усилием, не вставая, расстегивала кофту, блузку, брюки. Пропотела, и это доставило ей какую-то горькую утеху. Вода распрыскивалась зелено и звонко. Эрика с наслаждением погрузилась в ванну и закрыла глаза.
Неожиданно ею овладело безмерное блаженство, какое она испытывала когда-то, зарываясь носом в юбку бабы Толи. Баба Толя теплой шершавой рукой гладила ее по щеке… Она повернула голову и прижалась щекой к ванне – не шершавой, гладкой, но тоже теплой.
Странное чувство – она словно бы и не она вовсе, а кто-то необычайно легкий, как ее погруженное в воду тело, кто-то уже оторвавшийся от одного места, но еще не принадлежащий никакому другому. Эта ванна была «ничейной землей», оазисом спокойствия, островом в океане. «Встречаются во мраке корабли…» Нет. Нет. Прочь. О чем они говорят? О ней? Подумала она об этом как-то пассивно, лениво. Пусть себе говорят что хотят, какая разница?.. «Увидишь, она научится убирать за собой». – «Помни, Павлик, мы должны быть чуткими к этой несчастной девочке». От телевизора доносился голос диктора.
В ванне она сидела долго, пока вода почти совсем не остыла. Потом, пожав плечами, вытерлась «розовым полотенцем» (Ох, идиотка, неужели она, Эрика, став взрослой, тоже будет прикидываться этакой святошей?) и надела ночную рубашку пани Марик. Можно было, правда, облачиться в свою «несвежую» пижаму, но ей понравилась эта, совсем не в ее стиле, отороченная кружевом, свободно ниспадающая рубашка. Она взглянула в зеркало. До чего не похожа на себя в этом воздушном нейлоне! Да еще с мокрыми приглаженными волосами. Надгробный памятник. Забавно.
Боже мой! Только теперь, протянув руку за сигаретой, она осознала, что позабыла выскочить за ними. Что делать? В отчаянии сгребла вещи в охапку и прошмыгнула в свою комнатенку за кухней. Теперь уж не выйдешь: и куда – неизвестно, и темно уж. Впрочем, кто его знает, который сейчас час и когда закрываются киоски? Черт побери! Единственный выход – проспать катастрофу. Из комнаты слышался разговор… Она свалила на пол вещи с кушетки, кое-как постелила и юркнула под одеяло. Постель была свежая, подкрахмаленная, приятная. Пахло мылом, прачечной и словно бы… Она зарылась лицом в подушку и почти мгновенно заснула.
Проснулась она среди ночи. В квартире тишина. Стала нервно шарить рукой в поисках сигареты и наткнулась на стенку. Что это, черт возьми? Мгновение спустя запах постели, гладкость рубашки напомнили ей, где она. Ясно, курева нет. И теперь уж не заснуть, хоть лопни. Если не закурит – спятит. Видит бог, спятит. Рот наполнился слюной. В груди ныло. Так мучиться до самого утра? За какие грехи? Она встала и потихоньку, на цыпочках, пошла в комнату, где они ужинали. Ей помнилось, что у тарелки Павла осталась целая пачка «особо крепких». Она протянула руку к столу, зацепилась за что-то и чуть не упала. Кто-то зажег ночник, и Эрика увидела, что она споткнулась об угол дивана, на котором лежит мать Павла.
– Прос… – и осеклась.
– Случилось что-нибудь? – спросила пани Мария, садясь на постели. – Или тебе что-то надо?
– Сигарет у меня нету.
Ничего не поделаешь. Сломалась. Выхода не было.
– Вон там они, на полке. – Пани Мария легла и, не говоря больше ни слова, накрылась одеялом.
И на том спасибо: не удивилась ее неожиданному вторжению, не стала читать мораль: сигареты, мол, вредят здоровью, а ночью положено спать.
Эрика взяла пачку и вернулась к себе. Наконец-то! Ох, наслаждение! Сидя на постели, она дымила, то и дело поглядывая в зеркало. Никак не могла привыкнуть к себе в этой воздушной рубашке, но ощущение было скорее забавным – это вовсе не она сидит тут, на постели. Эрика покачала головой, как киноактриса. Громко произнесла: I love you [3]3
Люблю тебя (англ.).
[Закрыть], погасила сигарету и скользнула под одеяло. Закрыла глаза, сохраняя в памяти свой образ в воздушной рубашке.
Мысли ее начали путаться. «Какая неприятная манера у матери Павла, – подумала она, – говорит тихо-тихо, не сразу и поймешь». И еще подумала, что…
Заснула.
* * *
Проснулась она поздно. Дома никого уже не было. На столе в большой комнате нашла записку:
«…Подогрей молоко и свари себе яйца. Свежий хлеб в жестяной коробке».
Эрика заглянула в кухню. На белом буфете стояла чашка, рядом прибор и сложенная салфетка.
«Свихнуться можно от этой культуры, – подумала она. – Что за несносная баба! Образцово-показательная».
Она съела завтрак, критически глянула на грязную чашку с тарелкой. Во Вроцлаве просто не заметила бы их, но тут все так блестело, было «на своем месте», и такой царил кругом порядок, что каждая вещь, оказавшаяся не там, где ей положено, резала глаз. Эрика небрежно сполоснула чашку и тарелку. И вдруг разозлилась. На все: на мытье посуды, на порядок в квартире, на пани Марию, на себя. Павла она как-то незаметно перестала принимать здесь в расчет.
Вернувшись в «комнату для прислуги», как мысленно она окрестила свою клетушку, Эрика выдвинула три небольших ящика комода и все свое барахло впихнула туда так, чтобы ничего не оставалось сверху. «Порядок так порядок», – насмешливо подумала она. Потом села на кушетку и закурила.
Хотя праздность вот уже несколько лет была ее стихией, здесь почему-то она была в тягость. Там «ничегонеделание» было иного рода: много места, можно взять блокнот, что-то нарисовать, послушать радио, поставить проигрыватель. Здесь, на шести квадратных метрах, она чувствовала себя словно в тюремной камере. Что с того, что клетка эта «кокетлива» и уютна. Здесь – чужое, там – свое. Здесь ты как на сцене, время враждебно к тебе, что с ним делать – неизвестно. Она включила радио. «Мариновать огурцы – целое искусство»… Привет. Вечером она забыла завести часы и теперь понятия не имела, сколько времени. Телевизор лучше не трогать, эта штука портится от малейшего прикосновения. Эрика подошла к окну. На дворе играли дети. Мальчонка лет пяти строил крепость из песка. Весь поглощенный этим занятием, он то и дело откидывал назад прядку волос, которая упорно спадала ему на глаза. В какой-то момент она чуть не влезла ему в рот, и рассерженный малыш состроил комичную гримасу. Эрика расхохоталась и тут же смолкла: испугалась своего голоса, своего смеха. Да и не до веселья ей сегодня. Давно уж она не смеялась вслух. Вдруг вспомнилось – она тогда была еще маленькая, – как они с Олеком пошли в зоопарк. Огромный гиппопотам медленно и долго раскрывал пасть, Эрика испугалась и заплакала. А Олек смеялся. И так громко он смеялся, что она перестала плакать и взглянула на него. А потом и сама рассмеялась (вот как сейчас), а потом они, держась за руки, бежали по дорожке и смеялись, и Олек купил ей сахарную вату. «Олек… тоже мне…»