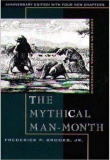Текст книги "Встречаются во мраке корабли"
Автор книги: Зофья Хондзыньская
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 10 страниц)
Зофья Хондзыньская
Встречаются во мраке корабли

Дорогие ребята!
Эта книга познакомит вас с шестнадцатилетней, Эрикой, судьба которой из-за неблагоприятных семейных обстоятельств поначалу сложилась очень неудачно, она на краю гибели.
Теме борьбы за Эрику и посвящена книга 3. Хондзыньской. Борьба эта оказывается очень сложной, но в конце концов Эрика обретает спокойствие и желание жить и учиться любимому делу. Книга была издана на польском языке в 1975 году издательством «Наша ксенгарня».
Предисловие
«Встречаются во мраке корабли». Броское название повести Зофьи Хондзыньской не следует понимать буквально. В книге польской писательницы нет ни настоящих кораблей – кроме двух корабликов, нарисованных на листе бумаги, – ни дальних плаваний, ни отважных «морских волков». Ее герои действуют на суше. И скромны масштабы их перемещений: Вроцлав – Варшава – поездка в горы – дачный поселок Константин. Впрочем, у большинства из них есть нечто общее с моряками – неподдельная отзывчивость, готовность спешить по велению сердца на выручку тому, кто попил в беду. И этим отзывчивым людям тоже приходится преодолевать многие коварные рифы, прежде чем они достигают намеченной цели.
Название книги одновременно и эпиграф, раскрывающий ее глубоко гуманное содержание. «Встречаются во мраке корабли…» – начало четверостишия знаменитого американского поэта Генри Лонгфелло, в котором говорится о давней традиции мореходов, предписывающей обмениваться ободряющими сигналами при встрече кораблей в ночном открытом море. И, как бы распространяя тот закон человеческой солидарности на дела земные, поэт продолжает: «Так, в океане жизни встретясь, мы говорим друг с другом…»
Поэзия больших чувств всегда была действенным оружием. Вот почему поэт-классик становится первым союзником главного героя книги, нашего современника Павла Радванского. Именно к его вдохновенным строкам, воспевающим прочность человеческих связей, прибегает студент-психолог Варшавского университета, чтобы установить контакт с Эрикой, добровольной затворницей, обиженной на весь свет.
В раннем детстве перенесла она тяжелое потрясение (вынужденная разлука с любимой няней, уход отца от семьи) и к шестнадцати годам, к моменту нашего с ней знакомства, превратилась в существо бесконечно одинокое, несчастное и вместо с том агрессивное, отравляющее жизнь окружающим. Мы получаем представление, насколько это «запущенный случай», как выразился бы специалист-психолог. Но основная задача автора не в демонстрации болезненных сдвигов, а в широком показе того своеобразного общественного движения в миниатюре, которое развертывается вокруг Эрики людьми, стремящимися к ее духовному исцелению. И не случайно список доброжелателей Эрики открывает Павел, юноша, которому органически чужда позиция стороннего наблюдателя. «Его считали добрым, отзывчивым, – отмечает писательница, – но сам-то он знал, что поступки его диктовались не добротой и не отзывчивостью, а какой-то внутренней потребностью, противостоять которой он был не в силах, – просто в какой-то момент чужие дела становились для него важнее своих». Так случилось и после встречи с Эрикой во Вроцлаве, куда он приехал собирать материал для курсовой работы.
Павел оказался вовремя на ее пути. Бросив школу, изолировавшись от внешнего мира, упрямая девчонка переживала глубокий, уже граничащий с нервным заболеванием внутренний кризис, из которого ее мог вывести лишь человек целеустремленный, готовый к самопожертвованию и не менее, чем она, упрямый. Мать потеряла власть над Эрикой, в сущности, капитулировала. Их отношения, проникнутые духом непримиримой взаимной неприязни, не сулят ничего хорошего. Сузанна, ветеринарный врач, без остатка отдается любимой профессии, и ей попросту недосуг всерьез заняться собственной дочерью. Она уповает на медицину, и единственный выход из создавшейся ситуации, невыносимой для них обеих, по ее мнению, – поместить Эрику в лечебницу. А это только подливает масла в огонь. И Павел решается помочь девочке.
Эрика жила во Вроцлаве. Вернее, прозябала в четырех стенах насквозь прокуренной (назло старшим) комнаты… Не так давно я читал книгу польской писательницы Кристины Паенковой «Бегство от запаха свечей» – о Катажине Дубинской, тоже юной вроцлавянке. Катажина бежала из затхлого мирка ханжей-мещан, восстанавливала разрушенный войной Вроцлав и вместе с другими энтузиастами стала новым человеком, созидателем. Какой безотрадной на фоне яркой ее судьбы выглядит участь Эрики, бегущей от людей, одинокой в центре большого города, давно отстроенного, с населением, достигшим уже более полумиллиона. Это горькое и обременительное одиночество. О чем свидетельствует точный слепок душевного состояния Эрики, ее стихотворение:
Воздух удушливой массой
На грудь мою навалился
Тяжестью лет, месяцев, дней, часов, слез,
Отчужденности, пустоты…
Длинный перечень тягот завершается туннелем, «в дальнем конце которого не видно НИЧЕГО». Слово «ничего» было написано крупными буквами, втрое больше остальных. И вот Павел затевает с Эрикой разговор на доступном ей языке поэзии. При этом намеренно цитирует строки Лонгфелло, в которых ниспровергается одиночество. И тем самым как бы подсказывает выход из тупика. Он беседует с ней и о вещах не столь возвышенных, рассказывает не без задней мысли, как ломал себя, заставлял избавляться от недостатков. Исподволь внушает общеизвестную, но спасительную для нее истину, что человек способен на многое. Надо только поднатужиться, поверить в собственные возможности.
Мы видим Павла-психолога за работой, ведущейся согласно заранее продуманной, научно обоснованной тактике: сперва добиться, чтобы Эрика хотя бы приучилась, не перебивая, слушать собеседника, потом – чтобы заговорила сама, и, наконец, попытаться вызвать на откровенность. И как радостно услыхать вдруг голос подопечной, лишенный обычной нарочито небрежной, вызывающей интонации!
Это его первое серьезное испытание как психолога, стоившее ему неимоверного напряжения и выдержки. И первый жизненный урок. Ведь Павел познал и горечь промахов, поражений. Например, в Закопане, куда он увлек Эрику покататься на лыжах, внезапное появление зловредной Альки едва не обернулось непоправимой трагедией. Эрика разочаровывается в Павле, отвергает его дружбу. Но общение с юношей не проходит для нее бесследно. Снова оставшись одна «в океане жизни», она ждет уже от кого-то дружественного, ободряющего сигнала.
Повесть Зофьи Хондзыньской посвящена нелегкой коллективной борьбе за Эрику, ибо в судьбе ее принимают участие разные люди. При самом строгом подходе мы не обнаруживаем в причудливом течении этой борьбы ни фальши, ни натяжек. Это кропотливый, будничный труд, требующий терпения, огромного такта, самоотречения. Необходима тут и особая дипломатия, гибкость, предусмотрительность, иначе неизбежны срывы. Необходима душевная щедрость, которой, в частности, обладает умудренная житейским опытом Ядвига, принявшая эстафету добрых дел от Павла, пока что по молодости лет – более удачливого теоретика, чем практики. Характерно, что в борьбе за Эрику сливаются коллективные усилия представителей разных поколений, как бы дополняющие друг друга. Этот принцип коллективизма – одна из ярких черт социалистического образа жизни, утверждаемого польской писательницей. Причем утверждаемого а полемике с теми западными литераторами, которые провозглашают непреложным, вневременным и общечеловеческим законом непримиримый конфликт между молодежью и старшими.
И тихом загородном домике Ядвиги царит самая благоприятная атмосфера, заставляющая Эрику думать, критически переоценивать свое поведение времен вроцлавского «бунта». И это весьма существенно. Незрелое юное существо, невзлюбившее в своей ослепленности родное гнездо, готовое бежать оттуда на край света, упрямо отрицающее значение любого человеческого крова, важно под этот кров вернуть, пробудить к нему доверие и привязанность. Ведь с приятия этой немудреной ценности начинается понимание и приятие куда более важных факторов, таких, как твое место в жизни, родина и твой долг перед ней.
Эрика постепенно оттаивает, тянется сердцем к Ядвиге. «…С каждой минутой, – прослеживает писательница пробуждение героини повести, – убеждалась она в том, что непостижимая связь между ними (Ядвига тоже это чувствовала) все более крепнет, и в ней нет ничего болезненного, никаких острых углов. Она знала, что хочет, должна однажды рассказать Ядвиге все, выкинуть это из себя, вырвать с корнем, хотя бы для того, чтобы освободить место для какой-то иной жизни, которую тогда лишь способна будет воспринять. Но сперва ей что-то нужно было от Ядвиги. Что именно – она точно не знала, какое-то доказательство доверия, уверенности, что она, Ядвига, выслушает ее не как обиженного ребенка, а как человека, который понял свои ошибки и вправду готов начать с нового абзаца. Точка – и с красной строки…»
«Точка – и с красной строки» – это любимое выражение Ядвиги, которое становится как бы программным лозунгом обновляющейся Эрики. Она предчувствует, что добрая женщина чем-то одарит ее. И этим подарком оказывается рассказ о неотъемлемой обязанности каждого человека творить добро, об извечной цепи благодеяний, совершаемых нами друг для друга, к которой подключаются все новые и новые люди и одним из звеньев которой навсегда остается для Ядвиги советский солдат-освободитель, спасший ее когда-то вместе с маленьким сыном от голода. Собственно, Ядвига одаривает Эрику сознанием необходимости быть причастной к этой вот благородной повинности бескорыстных гуманистов.
Повесть «Встречаются во мраке корабли» – о добрых людях, живым примером зажигающих сердца, о всепобеждающей силе доброты.
М. Игнатов
Он бездумно вслушивался в шум поезда. Удивительное дело, в меняющийся ритм колес ложится и музыка Баха, и поп-музыка… Та-та-тата-та-та или тата-та-тата-та… В отличие от большинства студентов, он предпочитал самолету поезд: образуется этакая брешь во времени, когда ничто не обязательно, – не живешь, не читаешь, даже не думаешь, но что-то все равно происходит помимо тебя. Уезжая, он сказал Альке: «Привет, приеду – позвоню». Но теперь, глядя на изломы полей за окошком, подумал, что звонить, пожалуй, не станет. Ее он этим никак не обидит, у нее и без того хвост поклонников, а себя… Она и сейчас все так же элегантна и изящна, как в ту пору, когда они стали встречаться, но… Это «но» раскрывалось просто. Она была хороша собой, но он не любил ее и потому не мог не замечать ее дурного характера. Впрочем, это бы еще ладно, хуже было то, что она постоянно окатывала его ушатом ледяной моды, а такое кому же понравится? Ну, верно, он легко приходит в восторг, ну, верно, он «непрактичный», но ее «практичная» и прозаическая натура ему противопоказана. Словом, нечего тянуть канитель, надо решиться. Они уже не раз рвали с Алькой, но, стоило ему позвонить, она возвращалась как ни в чем не бывало. Ведь и он для нее тоже не более чем развлечение: где уж там любовь – так, «свой мальчик». Вот он и откажет ей – ну и себе заодно – в этом развлечении. Нельзя быть с человеком, который постоянно подрывает в тебе какие-то жизненно важные основы. Нельзя изучать психологию, заранее предполагая, что занятие это бесполезное, что люди не способны найти общий язык, понять, помочь друг другу. Неправда, черт возьми! Но Алька упорно твердила это с самого начала их знакомства. Да, с самого начала она была скептически настроена на любую тему, даже на тему их зарождающейся «любви»… Да только это не любовь была, в том-то и суть, что никакая это была не любовь… «Пока что», – иронически говорила она с первой же минуты. «Пока что»… Может, так оно и есть, но если предполагать это заранее… Словом, оба мы преспокойно переживем расставание. Пожалуй, и объясняться не стоит, не позвоню – и дело с концом.
За окном, в сентябрьском полумраке расходились и сбегались к телеграфному столбу провода, накладывались один на другой, подрагивали, разделялись, соединялись, снова разделялись, чтобы снова сойтись на мгновение у столба. Тайна, мучившая с детства: почему они расходятся? Почему соединяются? Благодатная тема для мелкой философии.
Отсроченный экзамен испортил ему каникулы. Чувствовалась усталость. Может, и к лучшему, что он дал себя уговорить? Забавно, в поездке рождаются слуховые ассоциации. Обрывки даже не мыслей, а фраз, которые хотелось сказать или сказал. «Почему это я должен, Маня?» Но Маня уперлась: «Раз уж ты едешь во Вроцлав, грех не зайти к Сузанне. Она столько раз приглашала нас, подумай, последний раз она видела тебя девятилетним мальчишкой». – «Как-то ведь выжила. Авось и дальше проживет». – «Все же подруга моя, а ты с Эрикой любил играть».
Он пытался растолковать ей, что до первого – кровь из носу – должен представить описание какого-нибудь «трудного случая», что из-за этого проклятого экзамена ничего не успел сделать и потому намерен за пару дней собрать какой-нибудь материал в интернате под Вроцлавом. «Я б на «авось» не поехал, но Анджей – он там уже год торчит – утверждает, что приехать стоит, имеются, говорит, отличные трудновоспитуемые экземпляры». – «Неужели за психами надо во Вроцлав ехать? – вздохнула мать. – А вдруг Сузанна психопаткой стала? Я столько лет ее не видела. Александр-то ведь бросил ее…» – «Ну, знаешь, Маня, если б каждая брошенная мужем…» – «Не будь занудой, Павел. Она уже сто раз нас звала, у нее и домик свой, уж лучше там, чем в гостинице. Я не могу, так хоть ты… Позвоню ей, ладно?» – «Только не надейся, что я там день-деньской просиживать буду. Не для того еду». – «Ни на что я не надеюсь. Сколько захочешь, столько и будешь».
Ну, а теперь всерьез приступим к путешествию. Он потянулся за сумкой, вытащил бутерброд, крутое яйцо, аппетитно стукнул им о край столика. Поздновато: уважающие себя путешественники извлекают съестные припасы немедля – не успевает поезд тронуться. И уж совсем по-немецки: обязательно кура жареная. У дяди жир по пальцам стекает, он, хрюкая, его слизывает, тянет платок из кармана – руки вытереть. И сидящей напротив толстухе-жене: «Тебе, Влада, эта курица на славу удалась. Фаршик – пальчики оближешь». Влада? А может, Сабина? Саба тает, золотым зубом посверкивает. Павел улыбнулся. В поезде ты вроде и не ты вовсе. Он, к примеру. Если б тот тип с физиономией грызуна поднял бы на секунду глаза от «Политики», то увидел бы симпатичного, рослого, импозантного молодого человека. Интересно, что он читает? Бывальца или Калужинского?
«Посетите Любаньский край». А в общем не так уж плохо складывается… Столько всего надо бы увидеть на свете, а времени нет. Он встал, чтобы поближе рассмотреть фотографию за стеклом, и на секунду в зеркале мелькнуло его лицо, утонувшее в черной бороде. Что ж, недурственно. Самая роскошная борода на факультете. Где еще найдешь такую длинную да кудрявую? Девчонки покоя не дают с этой бородой, гладят, теребят. Волосы тоже ничего себе. Вылитый Дарвин. «Посетите Любаньский край!» Он широко зевнул. Восемь часов, а уже спать охота. В поезде все как-то иначе. Света не потушишь, «грызун» все еще по уши в «Политике». Жаль. Очень здорово, когда купе заливает светло-фиолетовый сумрак, он так сочетается с темнотой за окном, поблескивающей последними огоньками. «Татата-тата-та-та-татата». Все же «поп» больше подходит. Утром звонок Анджею и – айда в интернат. А уж потом за билетами на улицу Гротовского. Может, и правда удобней будет, чем в гостинице, а что дешевле – это уж точно.
«Посети край Любань, посети – полюби.
Посети край Любань, полюби – пропади».
Идиот.
Интересно, любая мелодия отлично ложится. Отлично ложится, тата-та-тата…
* * *
– Павел, вам кофе?
Она стояла перед ним – худенькая, милая, улыбчивая. Он припоминал ее как бы сквозь туман. Востроглазая. Говорит торопливо. Нервная. В общем, сойдет.
– Перестаньте, прошу вас, со мной на «вы». Мама бы меня убила…
– Не осмеливаюсь. Такой импозантный бородач. Сколько вам лет?
– Сколько тебе лет.
– Ну ладно. Так сколько же?
– Девятнадцать исполнилось.
– А занимаешься чем?
– Психологией.
– Ужасно рада, что ты приехал. Я столько лет твоей мамы не видела, а ведь мы с ней все годы в школе на одной парте сидели! Живем будто на разных планетах. Люди вон на Луну слетали, а она не может до Вроцлава добраться.
– Но ведь и вы тоже до Варшавы ни разу не добрались.
– Ох, я… Кабы ты знал, что за жизнь у меня! – В лице ее мелькнуло что-то и погасло.
Говоря с ним, она быстро накрывала на стол: масло, варенье, тарелочки, тонкими ломтиками нарезала хлеб, колбасу.
– Яичницу или яйца?
– Яичницу.
– Няня! – крикнула она в сторону кухни. – Сделайте, пожалуйста, яичницу из трех яиц, только прожарьте ее хорошенько, не так, как для Эрики.
Такую постановку вопроса Павел одобрил. Не «будешь?», а «что будешь?». Не спрашивает, из скольких яиц, а знает, что из трех и что прожарить надо. Только вот няня… Ну и ну!
Словно бы угадав его мысли, она разъяснила:
– Это Олека няня. Всю семью их воспитала, мать его, сестру, детей ее, потом Эрику. Ну, и осталась у меня уже как пенсионерка – с Эрикой не захотела расставаться.
Он осмотрелся. Комната была залита солнцем, мило и удобно обставлена. В окно заглядывал отцветающий розовый куст и голубое сентябрьское небо. Двери в садик бесшумно отворились, и в них проскользнуло нечто весьма грациозное.
– Ох, пришла! – радостно воскликнула Сузанна. – Иди сюда, собаченька. Иди, красавица, иди. Покажи-ка лапку: лучше уже? Не болит? – Она взяла в руки перевязанную собачью лапу и стала ее ощупывать. – Вроде бы лучше, – обратилась она к Павлу. – Ну и хлопот с ней было!
Павел смотрел на стоявшую в театральной позе, хотя и на трех лапках, красавицу – афганскую гончую; ее печальные, не то человечьи, не то обезьяньи глаза устремлены были на стол, а с морды тонкой струйкой текла слюна.
– Колбаска вкусная, – констатировал Павел. – И давно у вас собака?
– Это пациентка. Одна актриса нашего театра привезла ее из Москвы. Очень ценная порода. И надо же такому случиться – на стекло напоролась, искалечилась ужасно. Повозиться пришлось. Хорошо хоть, не напрасно. Я придержала ее на пару деньков, осложнения боялась, но теперь уж пора отдавать. А жаль: такая чудная! – Она прижалась головой к по-человечьи серьезной собачьей физиономии. – Ну, улыбнись, Кикуня. Не уговоришь. Афганские гончие почти не смеются, – добавила она вполне серьезно. – И не распускай слюни, бесстыдница. Что, хорошая колбаска? Да ведь ты и так уж достаточно слопала.
– Постойте, – не очень тактично спросил Павел, – выходит, вы не врач?
– Нет, ветеринар я. А ты не знал? Сперва на медицинском училась, но после рождения Эрики перевелась на ветеринарный. Ты и не представляешь, какая это радость – лечить зверей. Такие благодарные, так легко с ними…
– «Чем больше узнаю людей, тем больше начинаю любить зверей»? – процитировал в форме вопроса Павел.
– Да разве ж я людей знаю! Это по твоей части.
– Профессиональная психология часто упрощает проблемы, – изрек Павел, и следом пришла совсем уж высокопарная и бессмысленная фраза: – Вернее, ее тематические построения не всегда соответствуют устремлениям индивидуума. И много у вас работы?
– Трудно себе вообразить. Вот ты говорил, я в Варшаву не езжу. Да я уж два года без отпуска. Пришлось даже частную практику открыть – все равно ведь круглые сутки бывала занята, несмотря что задаром. Теперь дважды в неделю принимаю дома, оперирую в клинике, да еще по утрам бегаю с визитами. Сегодня уже успела у двух пациентов побывать. Прекрасно, няня, спасибо. А Эрика? Она сойдет?
– Эрика спит, вы же знаете, – укоризненно ответила няня, и Павел перехватил осуждающий взгляд, брошенный ею на Сузанну. – Не стану же я ребенка будить.
Сузанна смолкла.
– Ну, мне пора, – сказала она минуту спустя. – У меня сегодня большой прием. Только я хочу тебе сказать… Мне надо сказать тебе… предупредить… Видишь ли, Эрика… – Она снова замялась. – Словом, не знаю, как Эрика будет вести себя с тобой. Она может быть очень милой, правда, но может и совсем наоборот. Единственно, о чем прошу тебя, – не принимай ничего близко к сердцу… Ну, и взываю к твоей снисходительности – ты же будущий психолог.
Уплетая яичницу, Павел наблюдал лицо Сузанны. Без улыбки оно выглядело совсем иначе.
– Что, трудно? – спросил он с набитым ртом.
– Не стоит говорить об этом, но вообще да, трудно. Впрочем, сам сориентируешься. Может, она с тобой поговорит? Никогда не знаешь, чего от нее ждать. С чужими порой часами болтает, а я… Ну, мне бежать надо, полдесятого. В садике шезлонг есть, там и клетки с моими пациентами. Не помешает тебе? Можешь их выпустить. Главное, чтобы калитка была заперта. Обедаем мы только вечером, вместо ужина. Ох, чуть не забыла. На вот ключи, от калитки и от двери. Не забудь их, а то не дозвонишься, няня глуховата, а Эрика из принципа к телефону не подходит и двери не отворяет.
* * *
Он медленно шел от трамвайной остановки. Славно тут, тихо, зелено, не то что в Варшаве. Иной ритм, все иное… А что именно? Чувствуешь, а словами не выразишь. Вот, кажется, тут. Симпатичный домик, этакое уютное гнездышко, муж, жена, двое детишек школьного возраста и один – в манежике. Телевизор. «Может, выскочишь на уголок за сосисками?» «Алинка вся исцарапалась в садике». Посредственность. Будничность. Откуда взяли, что молодежи противопоказана будничность? Почему всякий вздор выдают за аксиому? Интересно, какая она, Эрика? Что Сузанна знает о своей дочери? «Эрика из принципа двери не отворяет». Ну-ка попробуем… Павел нажал звонок: в пустынной улочке он отозвался звучным эхом. Кика тявкнула в садике, давая понять, что она чувствует себя здесь дома. И снова воцарилась тишина. Он позвонил еще раз. Наконец, отступившись, вынул ключ от калитки. Одно подтверждалось: Эрика не отворяла.
Он вошел в столовую, сел в кресло, закурил. Был час дня. Его так и подмывало увидеть девочку. «С чужими иногда охотно разговаривает». Он же не намерен застревать в этом Вроцлаве… Так что если идти, то идти.
По деревянной лестнице он поднялся на второй этаж. Из-за чуть приотворенной двери доносились звуки радио, запущенного на полную катушку. Он постучал довольно громко, а так как ответа не последовало, крикнул:
– Можно?
И еще раз:
– Можно?
Так и не дождавшись «пожалуйста», он нажал на ручку и медленно открыл дверь.
Занавеска была задернута, но даже в полумраке в глаза бросился фантастический беспорядок: груды журналов, газет на полу, колготки, туфли, брошенные куда попало. На кровати, посреди бумаг и пластинок, лежала девочка, лица которой он не мог разглядеть, увидел только красный свитер, джинсы, босые ноги. Она подняла голову, не произнеся при этом ни слова.
– Войти можно? – спросил Павел.
Глаза его привыкали к царящему в комнате полумраку. Девочка была темноволосая, скорее высокая, не слишком худая.
– Влез.
Голос тусклый, говорит врастяжку. Замолкла, ни о чем не спросила.
– Почему не спрашиваешь, откуда я тут взялся?
– А чего мне?.. Снова кого-то подослала. Я этот номер наизусть знаю.
– Что? – Павел опешил. – Ты о чем это?
Не глядя на него, она махнула рукой.
– Ну давай не крути, начинай.
– Да ты что? Я просто хотел с тобой увидеться, мы когда-то в детстве вроде были знакомы, но если не хочешь…
– Мы? В детстве?
– Моя фамилия Радванский. Павел. Наши матери когда-то вместе в школу ходили.
– И потому мне выпала честь?
– Я приехал во Вроцлав по делам, мама просила навестить вас. Вот я и пришел. Может, ты будешь столь добра, приглушишь на минутку музыку, а то мочи нет драть глотку, не говоря уж о том, что так весьма трудно достичь взаимопонимания…
Она всплеснула руками, буркнула:
– Ты что, взаимопонимания жаждешь? – но радио все же прикрутила.
Чтобы как-то сгладить столь неудачное начало, Павел протянул ей пачку сигарет и, когда она стряхивала пепел, взглянул на ее руки. Была у него такая привычка: по рукам он судил о людях, быстрее раскусывал их – так, во всяком случае, ему казалось, – чем во время иной беседы. Но здесь, в темноте, невозможно было как следует разглядеть ее руки.
– Разреши отдернуть занавеску?
– Мы едва знакомы, а уже столько требований. Немножко, не совсем, а то слепит.
Теперь он мог присмотреться к ней, тем более что она на него не глядела. Повернувшись боком, Эрика следила за рассеивающимся дымом. Не красива, но и не дурнушка. В лице что-то интригующее: насмешливость в сочетании с высокомерием, а может, и с застенчивостью… трудно сказать. Нос чуть длинноват, прямые волосы ниспадают по обеим сторонам лица, и рот – странный, капризный, как-то не вяжущийся с чертами этого недетского лица. Глаз не было видно.

– Мне не очень-то ясно, что ты имеешь в виду, но поверь, пришел я к тебе просто так, без всякой цели. Нет у тебя охоты со мной говорить – ради бога, я тут же уйду. А если не мешаю, поговорим минутку – и я все равно уйду, так что риск не велик. Постой, а ты, случаем, не больна? Что с тобой? Может, тебе чего-нибудь нужно?
– Нужно? С чего бы?
Тут она наконец повернулась к нему, и он увидел ее глаза. Обрамленные прямыми ресницами, большие, почти неподвижные, очень красивые.
– Ну, не знаю… Будний день, а ты не в школе… – неуверенно начал он.
– Я в школу не хожу.
– Как это?
– А вот так. Не хожу, и все тут.
– А почему в постели лежишь?
– Люблю. Все всегда делаю в постели – читаю, рисую. Удовлетворен?
Павел пытался уловить, правду ли она говорит или валяет дурака. Похоже, правду. В школу не ходит… А мать? Мирится с этим?
– Ты учишься дома?
– Вообще не учусь. Это скучно.
– Ну, знаешь, учение ни для кого не развлечение, но… – Фу, вздор какой! Девица рисуется, а он с ходу клюнул и принялся мораль ей читать.
– У меня без всяких «но»…
– Но хоть что-то тебе нравится?
– Кто его знает… Многое. А многое, наоборот, не нравится; такие допросы, например.
«Не удивительно», – подумал Павел, но ответил педагогично:
– Никакой это не допрос, не преувеличивай, мы только что познакомились, ничего не знаем друг о друге, ну и… Надо же как-то начать разговор.
– Так уж и надо? А если нарвешься? Я далеко не всегда разговорчива.
– И не всегда любезна.
– Похоже, угадал.
– Мне уйти, я верно понял?
Она ответила уклончиво:
– Зато ты, кажется, весьма разговорчив и проявляешь неумеренный интерес к миру.
Она снова подняла на него глаза, такие необычайные, что он даже смолк на минуту. Необычайные. Иначе не скажешь. Огромные, словно матовые, серая радужная оболочка во весь глаз.
Поражало и то, что они подкрашены. На фоне общей запущенности, неопрятности, просто неряшества это выглядело очень странно.
– Ты забавно подкрашиваешь глаза, – сказал он. – Как-то не вяжется с твоим обликом.
– Сперва я назло ей стала это делать. Ее прямо удар хватил. А потом мне понравилось. Могу целый день с постели не подняться, но ресницы подкрашу. Есть на то причины. И… я вообще мазать люблю.
– Мазать?
– Ну, рисовать. По рисунку я всегда была первая в классе.
– В прошлом, так сказать.
– Ну да, в прошлом.
– А ты не хотела бы стать художницей?
– Если уж обязательно надо было бы кем-то стать, то уж лучше художницей.
– Без школы в академию художеств трудно попасть.
– Раньше академии не было, а великие художники были. Ну и что?
– Ничего. Раньше много чего не было.
– Холодильников, автомашин, заражения атмосферы, спутников…
– Я вижу, аргументов для дискуссии у тебя хоть отбавляй. Здесь ужасно душно, можно немного приоткрыть окошко?
– Нельзя. Не успел на порог ступить, а уже столько требований. Ненавижу, когда мир врывается ко мне в комнату.
«Когда мир врывается ко мне в комнату». Недурно. Хорошенькое отклонение от нормы. А от нее, пожалуй, было бы больше проку, чем от детишек из интерната. Грех пренебрегать таким случаем.
– Еще одно. Что ты имела в виду, заявив, что я подослан?
– Не притворяйся дурачком. Ничего не говорила обо мне?
– Кто?
– О, господи! Она. Разве что не успела, спешила, как обычно… Жаль было времени. Деятельная, неутомимая, этакий живчик – с утра и до ночи, с ночи до утра. Просто мука. Ты же видел ее? Очаровала гостеприимством? Была обаятельна?
– Ах, ты о своей старухе… Вот я вроде бы и дома. Да, видел. Минутку. Точно, очень была гостеприимна. Но должен тебя разочаровать, о тебе ни словом не обмолвилась, сказала лишь, чтобы я захватил ключи на случай, если ты звонка не услышишь.
Эрика всплеснула руками.
– Не успела. Времени было в обрез. Вот откроет тебе глаза, тогда поймешь, с кем имеешь дело…
Из какой-то лекции он помнил, что пока больной (что это? Он уже классифицирует ее?) в состоянии над собой подшучивать, его еще можно вылечить.
– Ты считаешь, что я не способен иметь собственное мнение?
– Не знаю. Я не психолог и в этом не смыслю.
– А я психолог, – сказал он, пожалуй, преждевременно, но реакция была скорее непредвиденной.
– Ну и ладно. – В тоне полное равнодушие, тянет слоги. – До сих пор я имела дело лишь с круглыми идиотами. Задавали кретинские вопросы для недоразвитых детей.
– Если тебе мешает, что я психолог, забудь об этом.
– Почему мешает? Пока ты не примешься за мое исцеление…
– Какое там еще исцеление! Просто я хотел кое о чем спросить тебя. В моих личных интересах.
Павел глотнул. Резкая девица. С такой держи ухо востро: того и гляди, в дураках окажешься.
– Значит, в школу ты не ходишь. Чудесно. Ну а дальше как? Я уж не говорю об академии. Так, вообще… В наше время без аттестата… Что собираешься делать? На что жить?
– Я голову над этим не ломаю. Вперед не думаю.
– Но ведь должна же быть у тебя какая-то цель впереди?
Пустой треп, черт побери, как уйти от этой темы? И почему я так беспомощен в разговоре с нею? Неконтактна она, что ли? Или я дурак?
– Ты так считаешь? А может, я стремлюсь туда, куда и все? В могилу!
Позерка! Ну и намешано тут, однако с ходу не разберешься. Конфликт с матерью? Явно. Но на какой почве? Что случилось? Сильная личность подавила слабую? Уход отца? А может, совсем другое – самое прозаичное (или самое поэтичное): разочарование в любви?
– Скажи, откуда тебе пришло в голову, что твоя… что пани Сузанна говорила со мною о тебе?
– А она ни о чем другом говорить не способна. Излюбленная тема.
– Но преувеличиваешь?
– Они меня ненавидит. Знаешь, сколько раз уже пыталась от меня избавиться? Да не так-то это просто.
– Почему не просто?
Он чувствовал в себе забавное раздвоение. Выходит – спор ради спора? Да, пожалуй, это бунтующее – лежа в кровати создание вызывало в нем явный интерес.
– Меня закон охраняет. О, ты не думай, я хорошо знаю свои права. И не дам от себя избавиться. Дешево она не отделается. Родила – пусть любуется. Я на этот свет не просилась.