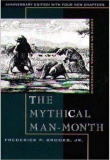Текст книги "Встречаются во мраке корабли"
Автор книги: Зофья Хондзыньская
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
Она поморщилась, внезапно расхоложенная. Отошла от окна. Минуту постояла среди комнаты, потом пошла к пани Марии, села у стола, открыла ящик и стала бездумно перебирать бумаги. Какие-то квитанции, страховой полис, несколько фотографий. Эрика посмотрела их, увидела карточку Павла – маленького. «Та», улыбаясь, держала его на коленях. Симпатичная мордаха была у Павла. Глаза чуть раскосые… На самом дне лежала пачка писем, почерк почему-то показался Эрике знакомым. Она взяла первое сверху.
Милая Марыся!
Спасибо тебе за доброе письмо, ты давно не писала мне, и я очень обрадовалась. Увы, у меня ничего хорошего. Обстановка накаляется с каждым днем. Находясь меж двух огней – Толей и Олеком, – я чувствую себя совершенно беспомощной. Собственно, единственный выход – отослать Толю в деревню, но сама посуди, как я могу это сделать? Живу в предчувствии надвигающейся катастрофы и совершаю глупость за глупостью.
Эрика бросила читать. Ей захотелось тут же уничтожить письмо, но она сложила его и вместе с конвертом сунула на дно ящика. «Совершенно беспомощна… Глупость за глупостью…» – мстительно подумала она. О, бумага все терпит. Вот уж никогда не была она беспомощной, напротив, всегда себя не забывала. Сплошной расчет и лицемерие. Друг животных и человека, образец трудолюбия, святая невинность, замученная дочерью-психопаткой… Дочь-психопатка, клинический случай, идеальный объект для исследований.
Эрика закрыла стол и вернулась в свою комнату. Тюрьма, черт подери, тюрьма, три шага вперед, три назад.
– Так и рехнуться можно, – громко сказала она.
Снова подошла к окну. Парнишка по-прежнему воевал со своею прядкой, а крепость его то и дело разваливалась. Он усердно загребал ручонками песок, который просачивался у него меж пальцев. «Замки на песке, – подумала Эрика. – Замки на песке… Боже мой, как жить, как тут жить…» И вдруг решила спуститься вниз, подойти к малышу, что-то сказать ему, услышать свой голос. Она подошла к двери, отворила… Чушь! Вернулась в комнату и, вытянувшись на кушетке, прикрыла глаза. Сперва ничего не видела. Потом всплыло лицо Павла. Глаза чуть раскосые, посаженные близко к носу. Как глаза Самойловой. Ей вспомнился фильм «Летят журавли». Она видела его в клубе, он тогда уже сходил с экрана. Целую неделю ходила на все без исключения сеансы, жадно всматриваясь в экран. Ее пленила игра Самойловой, атмосфера фильма. Что-то совсем ей неведомое и, однако же, близкое. Что-то такое, о чем она тосковала, что было необходимо ей.
* * *
Пани Мария захлопнула дверь лифта и с минуту постояла на лестничной площадке, медля отворять свою дверь. Ей пришло в голову – она улыбнулась при этой мысли, – что она испытывает нечто вроде страха, как в детстве, когда открывали бутылку с хорошо газированной минеральной водой: вдруг да выстрелит! Она повернула ключ в замке и осторожно приоткрыла дверь – нет, газ из бутылки, видимо, вышел, в квартире было совершенно тихо. Она сняла пальто, вымыла руки, заглянула в комнату – тишина. И наконец вошла в кухню. На сушилке вымытая посуда, единственный признак того, что кто-то был тут после ее ухода.
Дверь в комнату Эрики была закрыта. Как обычно, приходя с работы, пани Мария сразу же налила воду в венгерскую кофеварку – заварить себе кофе и тут схватилась за голову: боже ты мой, как могла она допустить такое! Не задумываясь, она постучала к Эрике, та мгновенно вскочила на ноги. Непричесанная, ненакрашенная, она выглядела иначе, чем вчера, было в ней что-то беспомощное, детское. Минуту они стояли друг против друга.
– Мне ужасно неприятно, Эрика! Простить себе не могу! Хотела позвать тебя кофе со мною выпить, и тут только дошло до меня, что я начисто позабыла о твоем обеде! Представляю, какая ты голодная, ведь вчера почти не прикоснулась к ужину. Приведи себя в порядок, а я на скорую руку что-нибудь приготовлю.
Не дожидаясь ответа (его, впрочем, и не последовало), она вернулась в кухню. Салат из помидоров, хлеб, колбаса, яичница.
– Ну вот, садись. Что тебе, кофе, чай?
– Все равно.
Все же какой-то ответ.
– Тогда я нам обеим кофе сварю. Ну иди же, а то яичница остынет. Я каждый день после работы кофе пью: давление у меня очень низкое, так что без кофе я не человек.
«Долго ли можно выдержать такой монолог? – подумала она. – Чертовски мучительно, а девочка, похоже, не намерена утруждать себя разговором».
«Девочка» и в самом деле не была намерена. Она вошла в кухню, села и молча принялась ковырять вилкой яичницу.
Пани Мария еще раз попыталась завязать разговор.
– Я вот думаю, как нам быть с твоими обедами? Павел ест в университете, я у себя на работе… А что, если ты будешь приходить обедать ко мне в столовую? Обеды у нас не блеск, но все же какой-то выход.
Молчание. На этот раз и пани Мария довольно долго его выдерживала.
– Я не намерена мучить тебя разговорами, – наконец сказала она, – но если ты так и не раскроешь рта, нам будет довольно трудно понять друг друга. Никуда не денешься, Эрика, о каких-то вещах мы должны договориться.
Тон был вежливый, но отнюдь не заискивающий. «Эрика». Как смешно звучит это в ее устах. «Эрика». «Эрика». «Нам будет трудно понять друг друга… Эрика». Можешь не сомневаться, нам и вправду будет трудно.
– А мне все равно, – решилась она наконец подать голос.
– Ну что ж, я похлопочу о талонах, а пока на пару дней оставлю тебе деньги. Вот, возьми, спрячь их. В нашем доме внизу какая-то женщина отпускает обеды за двадцать злотых. Кажется, вполне приличные.
Эрика не протянула руки за деньгами, и пани Мария положила их в передней у зеркала.
– Ну, ешь, уж очень ты копаешься со своей яичницей, – сказала она, не глядя на Эрику и продолжая следить за кофеваркой.
Ей не хотелось насильно втягивать Эрику в разговор. Несмотря на малоприятную манеру поведения, в беспомощности Эрики, в том, как она дулась, было что-то по-детски трогательное, и потому она не казалась пани Марии такой уж неприятной.
Эрика кончила есть и подошла к раковине. Пани Мария краем глаза следила, как она моет посуду, кое-как ополаскивая ее теплой водой, но замечания делать не собиралась. Во всяком случае, не сразу.
Она налила кофе, одну чашку поставила Эрике, другую – себе. В какой-то момент ей показалось, что молчание, царившее меж ними, больше тяготит Эрику, его навязавшую, но все же продолжала молчать. Было тихо, только с улочки за их домом доносился шум мусоровоза (откуда он вдруг взялся в эту пору?). Эрика пила, не поднимая глаз от чашки. Потом с трудом втянула воздух, буркнула что-то, что можно было расценить как «спасибо», встала из-за стола и тут же исчезла. Пани Мария проводила ее взглядом. Любопытно, что же будет дальше?
* * *
Какой смысл в такой жизни? Зачем она тут сидит? Ну ладно, вчера, сегодня, завтра… А дальше что? Каким должен быть ее день? Вылеживать на кушетке в этой клетушке? Глядеть в окно? Ждать их прихода, чтобы потом ни словом с ними не обмолвиться, а лишь смотреть, как они многозначительно улыбаются друг другу? Зачем они устроили такое? Зачем забрали ее? Каким правом притащили сюда и сделали узником? Время здесь стоит на месте и измеряется лишь растущей в пепельнице горкой окурков и светом за окном – слабый, поярче, снова слабый. Да, там она тоже лежала на кушетке, но там было все же иначе – внизу топталась няня, можно было сойти, взять что-нибудь на кухне, послать няню за творожником… А тут не чувствуешь себя дома; можно, конечно, пойти на кухню и самой что-нибудь взять там – их это только обрадует, – да неохота. Дом этот – тесный, упорядоченный, ладный и вежливый – раздражал, злил ее. Там она могла выйти, вернуться, за окном колыхались деревья, она знала каждый поворот на своей улице, дорогу в кино, а тут боялась нос высунуть из дома. Пугала ее и большая площадь, и Маршалковская, по которой, звеня, как на пожар, носились трамваи. Все угрожало, вызывая спазм в горле, тоску.
Ключи. Маленький – от верхнего замка, большой – от нижнего. Надо как-то переломить себя. Одеться, спуститься вниз, выйти на улицу, купить сигареты, распрямиться, передохнуть… Не сидеть же тут, как узник в ожидании помилования. Она набросила пальто, хлопнула дверью. И тут панический страх овладел ею. Надо же было сперва попробовать ключи! А если не сможет открыть? Она почувствовала себя абсолютно беззащитной, брошенной на произвол судьбы. «Комната для прислуги» стала вдруг утраченным раем. Подумать только, она даже не знает служебного телефона пани Марии! А если что-нибудь случится? Мысли метались в ее голове, как ошалевшие от страха воробьи, пока она билась с ключом, который никак не хотел влезать в скважину. Что такое, это же тот ключ… Сунуть его вверх ногами? Так, получилось. Вошла, захлопнула дверь изнутри.
Сбросив с себя пальто, она принялась бродить по квартире. На ночном столике пани Марии стояла фотография типа в лыжном костюме. Вероятно, отец Павла, глаза немного похожи. Лицо симпатичное. Мягче, чем у Павла. А это, надо полагать, школьный выпуск… Ну конечно, кудряшки, улыбочка, как у Алисы в Стране Чудес (в добрую минуту), белый воротничок. Услада этого дома – мамуся Павлюси, сладчайшая его Манюся… Глаза Эрики скользили по лицам: локоны, челки, улыбки. Вот она. Это она, темноволосая девушка, смотрящая на Эрику темными глазами. Стянутые в конский хвост волосы. Лицо открытое, даже… симпатичное. Эрика со странным чувством вглядывается в это лицо, которое потом стало тем, ненавистным. Как звали ее подруги? Суза? Сузка? Как она двигалась? Как смеялась? Злясь на себя, Эрика долго смотрела на фотографию матери. Знай она ее тогда, может…
В комнате Павла ни фотографий, ни безделушек. Как есть «научный работник». Папки, книжки, какие-то диаграммы. Единственная игрушка – стеклянный шар с «морским дном», кораллы, полипы. Подняв шар, она посмотрела его на свет. У нее когда-то был похожий, в нем падал снег. Баба Толя купила его на ярмарке в… Как же назывался этот смешной городишко, в нем еще такой большой костел был?
Вампир? Нет, Вампе… Вампежице! Дивной красоты костел и гигантские ступени, словно вырастающие из-под ног. Ксендз под балдахином, девочки бросают цветы, становятся на колени. Вампежице. Храмовой праздник. Ярмарка. Баба Толя. Когда это было?.. В другой жизни… Потом Олек закатил жуткий скандал, кричал на бабу Толю, как она смеет водить его ребенка по костелам… Да что там вспоминать, обычная история.
* * *
Кончив читать письмо от Сузанны, пани Мария перечитала последний абзац:
Почему только на расстоянии обретается истинный взгляд на вещи? Так мало времени прошло со дня ее отъезда, а я уже вижу, как плохо мне без нее. Я не сумела найти к ней подход, не сумела понять ее. А потом так все запуталось, что уж не было выхода. Изменится ли это когда-нибудь? Сможем ли мы найти путь друг к другу? Лишь время может тут помочь, на него только и уповаю. На время и на вас: может, пожив в нормальном доме, Эрика тоже придет в себя, перестанет быть резкой, напряженной, враждебной и требовательной, может, прекратятся эти ее неудержимые взрывы, маразм и неряшество. Захочет ли она когда-нибудь вернуться ко мне? Прошу тебя, Марыся, если ты сочтешь, что у меня есть какая-то надежда, – дай знать, я тотчас же приеду и сделаю все, что нужно.
Пани Мария задумалась с листком в руке. «Враждебная и требовательная». К кому относились эти слова? Уж во всяком случае, не к ее жилице. Та, что жила в ее доме, скорей напоминала мышь в мышеловке, птицу, бьющуюся в клетке.
Неряшества не было и в помине, впрочем, даже если б в ее комнате было не убрано, никто об этом не узнал бы, ведь Эрика, выходя, каморку свою закрывала на ключ, а ключ клала в карман.
Что за существо, о котором рассказывал Павел, писала Сузанна? Такой Эрики Мария никогда не видела. Прошло уж недели три, как она дала ей талоны в столовую, но они ни разу там не встретились, хотя – Мария проверила это – Эрика обедала. Значит, она явно избегала встречи. Что делала она целыми днями, угадать было трудно. Чаще всего, когда Мария возвращалась с работы, ее не было дома. А если была, они вдвоем пили кофе, обменивались парой ничего не значащих фраз, а потом Эрика либо скрывалась в своей комнатенке, старательно притворив за собой двери, либо снова уходила в город. Не только пани Мария видела, что Эрике плохо у них. Павел тоже понимал, что девочка мучается. Он неоднократно пытался заговорить с ней, что-то «наладить», но она увиливала, лишала его такой возможности. Когда они оставались один на один, она мгновенно испарялась из комнаты. Как-то вечером, когда они втроем пили чай, он решился взять быка за рога.
– Слушай, Эрика, во Дворце, говорят, идет неплохой фильм. Может, пойдем на восьмичасовой?
Она секунду колебалась, потом кивнула.
Они сидели рядом в темноте. С экрана слышались слова на непонятном языке. Толстая женщина с большой грудью прижимала к себе голову другой женщины, больной, а может, умирающей. Павел краем глаза смотрел на экран, видя одновременно руку Эрики на подлокотнике кресла. Девушки обычно кладут руку на подлокотник, когда ожидают, что… Но не она. Не Эрика. А что, если накрыть ее руку своей и погладить – осторожно, тихонько?.. Что она сделает? Разозлится? «Ты, Павел, совсем сдурел, что ли?» Или ничего не скажет, и он почувствует, что именно это ей и надо было? Тогда ему станет легче, исчезнет странная тревога, многодневный страх за нее.
Он снова взглянул на ее руку, и она показалась ему такой беззащитной, бездомной – ничьей, что его залила волна жалости к судьбе – заслуженной? незаслуженной? – этой девушки, которая и сама была несчастлива и никого не в состоянии была осчастливить. И там лишняя, и тут лишняя – бедная, несчастная Эрика. Бедный, несчастный ребенок. И, повинуясь внезапному душевному порыву, он прикрыл ее руку своей.
Эрика не отдернула руки и неприятного ничего не сказала, но все же он почувствовал, что порыв его не нашел у нее отклика. Рука ее как бы застыла, одеревенела. Чтобы как-то противостоять пассивной этой неприязненности, он слегка прижал ладонь Эрики. Она нехотя повернула голову.
– Перестань, Павел, у меня нет настроения шутить.
Кто-то громко зашикал сзади. Павлу стало неловко. Он медленно убрал руку. Воздух стал тяжелеть, сделалось душно. Раздался звук пощечины, мужчина взглянул на свою нанесшую удар ладонь, четыре женщины молча стояли подле него. Одна – с вытаращенными глазами, словно перед ней был дух святой. Потом она вдруг зашаталась и рухнула.
Все реакции Эрики нетипичны, думал Павел. И то, что она молчит, и то, что запирается в комнате, и тон, которым сейчас сделала ему замечание. Во Вроцлаве, несносная, вспыльчивая, наглая, она была, однако же, более непосредственной, естественной. А здесь перестала быть сама собой, словно из нее выпустили кровь. Не скажешь, что назойливая, враждебная, – просто чужая. И от него отмахивается, как от мухи.
…Подъехала «скорая помощь», два дюжих молодца ворвались в виллу, двигались они словно резиновые. Раз – схватили женщину за руки, за ноги, два – она уже на носилках, три – двери машины захлопнулись за нею… В чем дело, черт побери, в этом фильме? Откуда взяли, что он хороший? В чем дело, черт побери, с Эрикой? Почему она все время такая? Быть не может, чтобы прежняя обида так глубоко засела в ней – это был бы уж верх упрямства, свидетельство глупости, ведь она имела уже сто доказательств, что не в работе его тогда была суть. Как долго может такое продолжаться?
Он так глубоко задумался над всем этим, что, когда зажегся свет, ему даже в голову не пришло, что это конец фильма. Что-то, верно, испортилось. Ничего, однако, не испортилось, люди вставали. Он хотел даже спросить Эрику, о чем фильм, но это было бы слишком уж глупо. Поднимаясь, она уронила перчатки, он нагнулся за ними. Эрика повернула голову – прежним, знакомым ему движением – и не успела еще вымолвить слово, как он почувствовал в ней что-то от прежней Эрики.
– Зверюшка-помогушка?
Они застряли в толпе выходивших зрителей. Павел рассердился и вместе с тем обрадовался, что Эрика обрела свой задиристый тон.
– Не нравится? Что уж, и поднять нельзя?
– Ради бога. – Слова его немедленно вызвали у нее тот особый иронический тон, который приводил его в бешенство, но без которого Эрика, собственно, не была Эрикой. – Напротив, я тронута до глубины души.

Они вернулись домой, не разговаривая больше.
Но с этого дня что-то переменилось. Равнодушная к пани Марии, с Павлом Эрика явно стала занозистой и непрерывно вымещала на нем свое дурное настроение. Его присутствие вызывало в ней бессознательную, а может, и сознательную враждебность и желание досадить. Последнее слово должно было быть за ней. Душевное состояние Павла никогда не находило в ней понимания. Когда он говорил что-то серьезное, на лице ее была ироническая мина, когда шутил – гробовая. Его предложения всегда встречали насмешку, а дурное настроение вызывало приступ веселья. Последнее особенно раздражало Павла. Сперва он старался не подавать вида, но как-то, в отсутствие Эрики, взорвался:
– Ты заметила, что она вытворяет? С каждым днем становится невыносимее. Такой она даже во Вроцлаве не бывала. Не милость же она нам оказывает, в конце-то концов. Даже приблудная собака чувствовала бы большую благодарность к тем, кто ее приютил.
– В том-то и дело, что она не собака, к тому же, если ты помнишь, она вовсе не горела желанием ехать к нам.
– Но ведь согласилась, не силой же я сюда ее привез! А ведет себя так, словно мстит за что-то!
– Ты же сам говорил, что она больная девочка. Не для своего же удовольствия мы взяли ее сюда. А ради нее. В том, что ты говоришь, Павел, нет ни капли логики, и это меня более всего раздражает. Отсутствие логики – это почти то же самое, что отсутствие здравого смысла.
– Но… – Павел надулся.
– Нечего обижаться. Тебе хочется, чтобы было как в сказке. Ты входишь во дворец и освобождаешь спящую царевну, которая за это бросается тебе на шею…
– Спящую царевну… – пожал плечами Павел.
Скажет тоже Маня! Эрика на ложе среди роз, бледная, глаза закрыты, светлые волосы рассыпаны, тень смерти-сна на лике, а он будит ее поцелуем в уста…
– …а не девочку, которая нуждается в помощи. Личного удовлетворения в этом не ищи, напротив, затверди себе, что ты никто, орудие помощи – не более того. Конец – и точка.
– Помощи… Разумеется, я хочу ей помочь, но ведь мы же, черт возьми, отказались от покоя, от удобств, а теперь…
– Все это было заранее известно. Мне кажется, мы достаточно об этом говорили.
Павел снова надулся: вот и Маня против него. И после минутной паузы изрек:
– А чтоб ее! Пусть себе делает что хочет. Отныне перестаю обращать на нее внимание. Буду вести себя так, словно ее вообще тут нет.
– Это самое разумное, что ты можешь сделать. Ядвига…
– Ядвига. Твой оракул. Ну и что такое гениальное сказала Ядвига?
– Ты заразился от Эрики… Этот тон… Если хочешь знать, Ядвига предлагала забрать Эрику в Константин. Я лично ничего не имею против, но последнее слово за тобой. В конце концов, ее приездом, – Маня тоже чему-то научилась от Эрики, вовсе не у него, а у нее такой тон, – если я не ошибаюсь, мы обязаны тебе.
Помолчав (она, без сомнения, твердо решила сегодня доконать его), Маня добавляет:
– Жаль, что ты не записал на магнитофон аргументы, которые сам приводил каких-нибудь пару недель тому назад. Чего там только не было! Жизнь человека, гуманные принципы, психиатрическая лечебница, право на жизнь… Не много же нужно, чтобы рефрен твой изменился: тебе неудобно, ты раздражаешься, ты не можешь учиться. В конце концов, сегодня ты только себя жалеешь, а вовсе не Эрику, а я, противившаяся ее приезду, вижу абсолютно ясно, что мы не оказали ей ни малейшей услуги, более того, ей у нас ни на волосок не лучше, чем во Вроцлаве. Если рядом двое – один здоровый, а другой больной, то здоровый должен уступить. Перестань нервничать – надо уметь себя сдерживать – и веди себя так, будто все в полном порядке. Ты должен быть с ней приветлив и добр.
– Но она не позволяет.
– Значит, надо вести себя так, чтобы позволила.
* * *
– Айда со мной на площадь Спасителя, – сказал Худой Павлу. – Говорю тебе, мечта – не запеканка. На полчаса сажаешь в печь и – пальчики оближешь!
– Что ж я, один рубать буду эту запеканку? У меня, брат, солитера пока что нет. Это ты за один присест можешь пол-Варшавы слопать.
– Солитера у тебя, может, и нету, но и вкуса тоже. А воспитать его очень даже не мешало бы. Дело говорю, купи запеканку, а мать придет…
Со свертком под мышкой Павел отправился домой, и тут его осенило: почему бы не сделать сюрприз Эрике? До сих пор они состязались с ней в невежливости. А может, Маня права, может, знаки внимания с его стороны что-то изменят в ее поведении?
Вложив ключ в замок, он тут же, с порога, завопил:
– Эрика!
– Чего?
Голос, правда, не из самых приятных, но, считай, подфартило: в столовую еще не ушла.
– Здо́рово, что я поймал тебя. У меня сюрприз. Ты голодная?
– С чего это я должна быть голодная?
Ясно, раз он принес что-то поесть, она, разумеется, не голодная. Классика. Вот уж воистину талант…
– Я мировую еду купил. Накрой на стол, а я тем временем блюдо состряпаю.
– Зверюшка-стряпушка?
– И как тебе не надоест? А я-то думал, ты перестала быть зверюшкой-вреднюшкой.
– Ошибаешься.
Павел сжал зубы.
– Может, хоть накроешь, а?
– Разумеется, серебро и хрусталь к вашим услугам.
– Ну и причешись. Во Вроцлаве ты часами волосы щеткой чесала, а тут ходишь как стог сена.
– Вот именно.
– И приведи себя чуточку в порядок. Ты так выглядишь в этой пижаме, что у меня кусок в горле застрянет.
– Это тебе на пользу, ты и так слишком толстый.
– Зато тебе не на пользу, не к лицу она тебе.
– Как-нибудь перенесу и этот удар.
Эрика выходит из кухни, а Павел чувствует, как в нем закипает злость на Худого. Рыбная запеканка. Безмозглый осел, ей-богу. Он пытается зажечь духовку, она гаснет, вспыхивает, снова гаснет. Бабские фокусы! Только свяжись – обожжешься, это уж точно. Ну влазь же, чертовка! Форма никак не вставляется – ни вдоль, ни поперек. А этой – хоть бы хны, знай бродит призраком по квартире туда-сюда. Носит ее! Ну и жар из духовки! Тоже мне занятие…
– Эрика!
– Чего?
– Слушай, старуха, возьми-ка деньги, слетай вниз, вина купи. Чертовски хочется белого вина к этой рыбе.
– Держи карман шире.
– Не пойдешь, значит?
– Даже не подумаю. Ешь сам свою запеканку. За километр треской разит. Я в рот ее не беру. Убирайся-ка ты с нею подальше и не морочь мне голову.
Минута мертвой тишины, и вдруг Павел взрывается:
– Что ты хочешь этим выиграть, Эрика? Ну скажи, почему, почему, черт возьми, когда я стараюсь сделать тебе приятное, ты, как назло, такая?
– Это какая же? О чем ты? А какая я, по-твоему, должна быть?
– Не знаю. Другая, обычная. Я же, в конце концов, не сделал тебе ничего дурного. Думал, что познакомимся поближе, подружимся, все будет хорошо…
– А что, разве плохо? – Глаза ее стали огромными от удивления. – Да ты, никак, шутишь. Я уж тогда и не знаю, чего тебе надо. В самом деле, тебе плохо? А вот мне с тобой – чудесно! Морские сирены, световые сигналы, родство душ, обеды с вином… Может, скажешь, чего тебе от меня еще нужно?
Павел даже не повернул головы. Ненависть – вот единственное, что он чувствовал к ней в эту минуту.
– Ничего я тебе не скажу! – прошипел он. – И вообще ничего уже тебе не скажу. Все имеет свои границы. И не обращайся больше ко мне… ты… змея. Пустая затея.
– Какая жалость, – тихо и очень внятно говорит Эрика. – Боже мой, какая жалость, столько самопожертвования, такое самоотверженное стремление окружить бедную, несчастную Эрику сердечной теплотой, создать ей идеальный дом – и все понапрасну. Бедная, несчастная Эрика хотела бы только одного: выйти отсюда раз и навсегда, убраться восвояси, хлопнуть дверью и чтоб ноги ее больше здесь не было! Слышишь?
Воцаряется тишина.
Павел молча подходит к плите, гасит ее, тряпкой вынимает запеканку и вместе с формочкой вываливает в мусорное ведро. Потом идет в комнату и, не затворяя двери, набирает номер.
– Алька, ты?
(«Алька», – думает Эрика, и сердце ее начинает колотиться. Он как-то говорил о ней. Прежняя его девушка.)
– Слушай, извини за вчерашнее. Я зря погорячился.
(«За вчерашнее. Значит, было какое-то вчера. Ко всему прочему, было еще какое-то вчера…»)
– Ну не сердись, старуха, приходи в «Иву». Нет. Нет. Переменилось, я свободен.
– …
– Когда? Сейчас. Я буду там минут через пятнадцать, не позже.
Эрика словно вросла в землю. Она слышит, как Павел, насвистывая, идет в ванную, потом в переднюю. Окликнуть бы его, сказать бы: «Не надо, не ходи, я знаю, из-за меня все, я изменюсь, погоди, потерпи еще чуточку» – но она молчит.
Секунду она стоит в нерешительности. Потом хватает телефонную книжку. Нужно, нужно найти эту проклятую «Иву». На «И» «Ивы» нет. На «кафе»… Да это же, наверное, в другой книге. Справочное бюро. Одной рукой натягивая брюки, Эрика другой набирает номер. Занято, как обычно. К чему ей эта «Ива», она сама толком не знает. Нужна, и все тут. Эрика до крови закусывает губу. Все было бы иначе, если бы она не кидалась как идиотка, что ей стоило надеть брюки, пройтись гребенкой по волосам, не хамить так…
– Справочное.
Далеко уйдя мыслями от нужной ей информации, Эрика запинается:
– Будьте любезны, я хотела спросить… кафе… кафе…
– Какое кафе? Я же не дух святой, – выпускает в нее заряд «вежливости» девица из справочного.
– А я вовсе не подозреваю вас в этом, – срывает Эрика злость на телефонистке. – Мне нужно кафе «Ива».
– На какой улице?
– Не знаю.
– Я, что ли, должна знать?
– Прошу вас, мне очень нужно, поищите, пожалуйста!..
– Минуточку. Маршалковская, тридцать шесть. Подходит?
– Да, наверное, раз недалеко отсюда.
– Номер телефона…
Но Эрика кладет трубку, а спустя пять минут уже сбегает вниз по лестнице. Счастье, что в последний момент захватила ключи. Зачем она идет в «Иву» – одному богу известно, но одно ей ясно: не пойти она не может. Внезапно Эрика резко сворачивает. В подворотню. Впереди, всего в нескольких шагах от нее, медленно идет Павел. Видно, заглянул куда-то по пути. Эрика наблюдает за ним. Вид у него отнюдь не воинственный. Сгорбился, грустный какой-то… Бедный Павел, добрый, милый Павел. Почему она невыносимо вредная с ним? Была, есть и будет. Все, что встретилось ей в жизни, все, что встретилось… «Павел!» – зовет она его так громко, что люди на улице должны были бы обернуться, но нет, никто не оборачивается, ведь Эрике лишь мнится, что она зовет его, на самом деле она молча следует за ним, к тому же на порядочном расстоянии. «Павел, дорогой, милый, прости меня…» Но никто ничего не слышит, люди не слышат, не могут услышать даже отчаяннейший крик души. Дождь припустил сильнее, Эрика поднимает лицо, дождевые капли смешиваются на ее лице со слезами раскаяния, стыда, отчаяния.
Внезапно Павел сворачивает. Затворяет за собой дверь. Эрика останавливается и читает вывеску: «Ива».
* * *
Забавно. Она-то думала, что знает все разновидности несчастья, а тут оказалось, что существует некая ранее совсем ей неведомая. Они видятся, как виделись раньше. Павел ведет себя очень естественно. Но когда во время ужина Эрика пытается поймать его взгляд, это никогда ей не удается. Павел разговаривает, порой бывает весел и забавен и все равно словно бы отсутствует. Даже когда сидит и читает книжку – словно бы отсутствует.
Часами лежа на кушетке, Эрика смотрит на золотой шпиль Дворца культуры. Зажжется на нем солнце или не зажжется?
Если зажжется, то, может, хотя бы те двое придут в Саксонский сад.
Ко всем ее терзаниям прибавились еще и «те двое». Она заметила их недавно, сидя на скамейке. Они шли полуобнявшись, как ходит множество пар, множество парней и девушек. Но Эрике сразу бросилось в глаза что-то отличное от других, хотя она не смогла бы объяснить, что именно. Они прошли мимо и сели на соседнюю скамейку. Эрика незаметно наблюдала за ними. Не могла, просто не могла отвести глаз.
Девушка положила голову на плечо парню мягким движением, словно бы с целью сделать ей, Эрике, больно. Она встала, чтобы уйти и больше не видеть их, но, проходя мимо скамейки, не выдержала, взглянула. И тут глаза ее встретились с глазами девушки. Встретились? Нет. Не встретились. Девушка, правда, подняла глаза, но Эрику не увидела, хотя и смотрела в ее сторону. Взгляд ее погружен был в себя… и в того, кто рядом, – начисто выключенный из внешнего мира. Ничего не существовало вокруг – ни парка, ни людей, ни вчера, ни завтра. Жизнь замыкалась этой минутой, прикосновением к плечу любимого и потому давала ощущение спокойствия, безопасности, счастья.
Она видела их несколько дней тому назад, но ни на минуту не переставала думать о них. Чувство было такое, будто те двое обокрали ее – показали, а потом забрали что-то принадлежавшее им. Но в иных обстоятельствах это «что-то» могло принадлежать и ей тоже. Мысли как молнии вспыхивали и гасли, делая явным то, о чем раньше ей и не снилось: достижимость счастья, возможность взаправдашнего существования. Такого, когда жизнь есть жизнь, а не сон и не бессмысленное гадание: отразится ли солнце (нет, конечно) на шпиле Дворца культуры? Все это было так близко и вполне могло касаться ее, если бы… Что – если бы? Если бы она была иной. Но она была такая, какая была: клейменая, проклятая, одинокая, совсем одинокая.
* * *
Мглисто. Пронизывающий холод. Эрика подняла воротник пальто и втянула голову в плечи. Уж давно пора было встать и пойти домой. Кто в такую погоду выберется на прогулку в парк? Уж конечно, не те двое, которых она столько дней безнадежно тут поджидает.
«А что, собственно, такое надежда?» – подумала Эрика, и ей припомнилась вычитанная где-то фраза: «Надежда – двигатель жизни».
Ей вот совсем неведомо это чувство. Может, потому и жизнь ее не заладилась, кривыми тропками пошла.
Разве ждала она весну, чтобы увидеть набухшие, лопающиеся каштановые почки? Или зиму, чтобы порадоваться первому белому пушистому снегу? Разве ждала она бабье лето, теплые осенние деньки, когда желтеют и рыжеют листья? Никто никогда ничего не дарил ей – нечего было. Разве что помощь из жалости… Как Павел. Но только это, ничего более, потому она и пренебрегла его даром. Что-то сломилось в ней с той минуты, у «Ивы». Много раз собиралась она, вернувшись домой, войти к Павлу, извиниться, убедить его, что им обоим надо вычеркнуть из памяти тот мрачный, недобрый период жизни, сложить оружие. Она даже готова была признать себя побежденной. Но потом раздумывала. Потому что знала: стоит Павлу равнодушно взглянуть на нее, когда она войдет в комнату, – и слова застрянут у нее в горле.