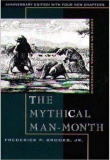Текст книги "Встречаются во мраке корабли"
Автор книги: Зофья Хондзыньская
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
Наконец она встала и направилась к выходу, давя башмаками комочки грязи.
* * *
Когда, глядя в окно на первый снег, пани Мария со стесненным сердцем думала о близящихся праздниках, ей не приходило в голову, что праздников этих боится не только она, но и Эрика и Павел. Разумеется, каждый на свой лад. Пани Мария привыкла к тому, что Павел уже много лет подряд сразу же после сочельника уезжал с товарищами в горы. Но на этот раз, думала она, Эрике, с детства лишенной «домашнего тепла», полагалось бы устроить нечто вроде настоящего праздника. С другой стороны, пани Мария очень устала, у нее осталась неделя от отпуска, которую надо было использовать до конца года, и, говоря по совести, она предпочла бы камни толочь на дороге, чем печь маковники и пироги и проводить праздники с Эрикой. Особой антипатии она, в общем-то, к ней не питала, но отдавала себе отчет в том, что Эрика ее, пожалуй, не любит. Правда, в последнее время она немного обтесалась и вместо прежних «не хочу», «не пойду», «не люблю» отметала каждую попытку инициативы гораздо более деликатным образом: ссылкой на головную боль, затянувшимся молчанием; так или иначе, перспектива провести с ней один на один всю праздничную неделю никак не улыбалась пани Марии. Уже сочельник – преломление облатки, слова, при этом сказанные, которые для них с Павлом обычно были поводом для ласковых шуток, теперь, при свидетеле – печальных глазах Эрики, глядящих на них с завистью, с насмешкой, – сочельник мог стать чем-то очень неприятным.
Эрика думала о том же. Из года в год праздники приводили ее в отчаяние. Она ходила по Вроцлаву и, словно самой себе назло, словно желая растравить свои раны, заглядывала в окна, в которых зажигались елочки. И хотя с возрастом она все больше понимала, что сияющая разноцветными огнями елка вовсе не гарантия того, что людям, сидящим в комнате, хорошо и весело, мысли этой старалась не допускать. Теплый свет, тени на стенах, порой и пение – все это очаровывало ее, и, вглядываясь в чужие жилища, она чувствовала себя андерсеновской «девочкой со спичками» – обездоленной, замерзшей, одинокой, почти смакуя при этом свое одиночество, отчаяние, несчастье. Родители, думала она, дедушка с бабушкой, брат, подарки под елкой, белая скатерть. И она – сидящая с няней у телевизора. (Сузанна уже несколько лет уходила в праздники на дежурство, но Эрике никогда не приходило в голову, что и она, верно, от чего-то хотела себя избавить.) Здесь, в Варшаве, ситуация была иная. Эрика чувствовала: если пани Мария что-то и устроит в праздники, то исключительно ради нее, из жалости, из сострадания к ней. И хотя настоящий сочельник был ее давнишней мечтой, мысль о том, что она получит его как дар, как милостыню от людей, с которыми ее ничто не связывает, казалось ей чудовищной. Каждый вечер во время ужина она, содрогаясь, ждала разговора на эту тему, в тысячный раз придумывая отговорку. И в конце концов придумала: скажет, что ей неловко перед няней и потому праздники она должна провести с ней. И хотя знала, чем это будет для нее, решила и в самом деле поехать на пару дней во Вроцлав.
А Павел? «Душевные» переживания Павла были не так уж сложны. Он чувствовал, что негоже уезжать, оставив усталой Мане праздничный подарочек в лице Эрики. С другой стороны, ему чертовски хотелось в горы, куда они с Худым ездили ежегодно, с незапамятных времен состязаясь друг с другом, кто больше совершит за день спусков в долину. В прошлом году Худой здорово его обскакал, в этом – ему предстоял реванш, и шансы явно были: куплены шикарные французские слаломные лыжи и сам он вполне в форме. К тому же собирались ехать и Марта с Мартином – мировые ребята. И почему, собственно…
Ну, а почему, собственно? Она в последнее время вполне приемлемая, совсем даже ничего, не так раздражительна, задирается меньше. А это сразу решило бы столько проблем…
– Куда ты так упорно смотришь, Маня? – спросил он мать, которая все еще стояла, прижавшись лбом к стеклу.
– Я всегда любила первый снег. Подумать только, перед войной по Варшаве еще на санках ездили… Как-то мы с дедушкой катались на саночках в Аллеях.
– По которым рыскали волки и медведи.
– Осел!
– А я не люблю, когда ты старишь себя.
– Я не старю. Просто вспоминаю. Лучше всего думается, когда смотришь на огонь, текущую воду или на падающий снег.
– А о чем ты думаешь? – И тут же сам себе ответил: – Впрочем, я знаю.
– Тем лучше. Ну и что же?
– Я тоже уже думал об этом. Такого свинства я тебе не сделаю. Возьму ее с собой в горы. Тут, правда, есть несколько минусов…
– И один очень большой плюс: я спокойно поеду к Ядвиге и в самом деле отдохну.
– Ты хотела сказать иначе. Не «в самом деле отдохну», а «отдохну от Эрики». Что, не так?
– Так.
– Тем более забираю ее.
Пани Мария оторвалась от окна.
– Вот ведь интересно, – сказала она. – Этой девочке всего шестнадцать лет, а я не знаю другого человека, который так бы менял мою сущность. Ты не представляешь, до чего я скованная с ней: говорю не то, что хочу сказать, делаю не то, что хочу сделать. Трудно передать, старик, как это мучительно. Может, поэтому я так мечтаю немного побыть без нее. Когда ты ей скажешь?
– А ты не заметила, что она стала кроткой, как овечка? Безропотно принимает все со всеми вытекающими последствиями, не говоря уж о том, что поехать в горы отнюдь не значит принести себя в жертву.
Он подошел к телефону.
– Худой, послушай-ка, у меня к тебе дело. Позвони на лыжную базу, ты там как у себя дома, и скажи, что нам еще одна койка нужна. Не помню, говорил ли я тебе, у нас живет сейчас дочь маминой приятельницы… Надо взять ее с собой.
– Цыпочку подцепил? – заинтересовался Худой.
– Та еще цыпочка. Говорю тебе, без пяти минут родственница. Моя старуха устала, в праздники ей возиться неохота, вот я и должен изъять девочку из ее биографии.
– Красивая хоть?
– На любителя.
– А ты любитель?
– Нет.
– На черта тогда нам такая цыпа на базе?
– Отцепись, старик. Говорю, надо взять ее, значит, надо. Пусть тебя это не заботит, они с Мартой загорать будут, так что обе бабы с плеч долой.
* * *
– Эрика, ты последнее время такой паинькой была, что я решил за тебя один вопрос.
Эрика вскинула брови.
– Забронировал тебе место на праздники на лыжной базе в горах. Поедешь с Худым, еще там с одними и со мной.
Долгая пауза. Потом Эрика спросила:
– Для чего?
– Ни для чего. Ты не представляешь, как там здорово и… А что? Не хочешь ехать? Неохота тебе?
– Охота или неохота – не знаю, потому что никогда в горах не была. А раз уж ты забронировал, то и говорить не о чем. Но дело в том, что у меня лыж нет и…
– А я-то уверен был, что у тебя и «металлы» [4]4
«Металлы» – польские слаломные лыжи.
[Закрыть]и «альпины» [5]5
«Альпины» – специальные лыжные ботинки для слалома.
[Закрыть]есть. Глупая, за кого ты меня принимаешь? Я завтра обо всем договорюсь с одной нашей девицей. Она не едет и все шмотки тебе отдаст.
– Не забудь, что у меня тридцать девятый размер обуви.
– Она тоже не малютка.
Анекдот, ну прямо как в книжке! «Она наклонилась и нежно погладила его вьющиеся, блестящие волосы». Волосы у Павла были черные и жесткие, Эрика сидела не двигаясь, странная улыбка блуждала на ее губах.
– Ну, ты рада? Вот возьми, я тут записал, что тебе надо сделать. И еще – для всех пятерых придется выстоять за билетами, а то у нас времени нету. О’кей?
Мысль Эрики работала, как оказалось, в непредвиденном направлении; изумленный Павел услышал вопрос: удобно ли оставлять пани Марию на праздники одну? Сильно же она продвинулась!
– Удобно, – рассмеялся он. – Она поедет к Ядвиге и будет счастлива хоть немного отдохнуть от нас.
Минутная тишина, а потом… Нет, это настолько неправдоподобно, что нелепо даже писать об этом. Эрика «взяла себя в руки» и назло себе, пани Марии, Павлу, всему белому свету назло вдруг поцеловала Павла в щеку.
– Спасибо тебе, чертов ты корабль, – сказала она и вылетела из комнаты.
– Корабль? – переспросила чуть погодя пани Мария. – А теперь кто спятил?
Но потрясенный Павел не нашел что ответить.
* * *
Колеса мерно выстукивали ритм.
Эрика глянула было в окно, но уже совсем стемнело, едва различались контуры пробегавших мимо деревьев. Время от времени сноп искр вспыхивал за окном. «А Павел говорил, линия электрифицированная», – подумала она, но ничего не сказала. В стекле отражался профиль сидящей напротив девушки. У нее смешно двигался подбородок, ни дать ни взять маленький верткий звереныш. «О чем это она?» Эрика стала прислушиваться к пулеметной очереди слов.
– …Поругались мы тогда с этим бугаем, пасмурно было, я выскочила с базы, надела лыжи и – вниз. Хотела просто напугать его, да обледенело все ужасно, ну меня и понесло, а уж за первым поворотом чистый лед пошел, нипочем не остановиться. И вдруг – бац! Проволоклась мордой метров этак двести, а потом это вот колено… Одним словом, крупно повезло, теперь никогда не смогу уж ездить по-человечески. Но бугай-то порядочным оказался, часа два меня искал и нашел ровно в двенадцать ночи. Выпили мы с ним из фляжки, встретили Новый год, ну а потом спасатели – и все дела… С тех пор мы и ходим парой. Скажешь нет, Мартинек?
– Ходим, – иронически процедил Худой, но никто не обратил на это внимания.
– А тебя хлебом не корми, только потрепаться дай, – сказал Мартин, словно бы ворча, но Эрика почувствовала, хотя они не напоминали «ее» пары, что им, пожалуй, хорошо вдвоем.
Как бы она хотела чувствовать такую вот сердечность, доверие, дружеское участие ну хотя бы к Павлу. Но покамест всего лишь хотела, значит, это не более чем фикция, некое соглашение, которое она заключила сама с собой. Почему в ее жизни все складывается иначе, не так, как у других людей? Почему у каждой девушки есть парень, она может прижаться к нему, вот как сидящая напротив Марта? Почему другие люди где-то постоянно проживают, всегда на своем месте, не нуждаются ни в чьей помощи, не ждут никакого чуда – какие есть, такие есть: настоящие. Встречаются, им хорошо, да просто они вместе. Только она никогда, ни с кем, нигде не дома, везде словно бы одолженная, неестественная, чужая.
Худой, сидящий у двери, прервал ее раздумья.
– Сыграем, Павел? – И бросил на столик колоду карт.
– Разве что с духом святым. Марта же не играет, забыл? – пожал плечами Павел.
– А ты не играешь? – Худой взглянул на Эрику.
– Немного, – тихо ответила она. И, увидев необычайное удивление в глазах Павла, процедила полунасмешливо, глядя ему в глаза: – На что-то ведь пригодились мои игры в индейцев на чердаке.
– Ну, прекрасно, – потирая руки, сказал Худой. – В случае чего, подсобим, как тебя там, имя у тебя больно уж тарабарское, ни за какие коврижки не запомнишь. Все лучше с бабкой, чем с дедкой, – сострил он.
Начали.
Эрика играла с Худым против Павла и парня Марты. Она была напряжена – хотела выиграть. Взглянула в карты: семь пик и вообще – чудо карта. Ее бросило в жар.
– Две пики, – объявила она.
Павел даже присел. Может, эта глупышка просто не понимает, что значит выйти на игру, объявив две пики?
Он спасовал, Худой поднял игру до трех без козыря, а Эрика без дальних слов заказала малый шлем в пиках. Худой выложил свои карты и сунул нос в Эрикины. Она терпеть этого не могла, но тут смолчала. Играла живо, четко. «Хоть бы выиграла, – думал Павел, – хороший был бы признак». В какой-то момент она благополучно поймала короля червей и сыграла большой шлем.
– Тю, тю… – Худой присвистнул одобрительно. – Айда старуха!..
Эрика была полностью удовлетворена.
Следующим раздавал Худой. Марта заглядывала в карты Мартина, опершись подбородком о его плечо. Когда пришел черед раздавать Павлу, Эрика, охваченная шальной какой-то мыслью, сделала то же самое: полушутя, полусерьезно прижалась лицом к его мохнатому свитеру.
* * *
– Не вышел номер, – сказал Худой, когда они ставили в холл свое снаряжение. – Дали нам две двухместные и одно место в общей. Забирайте двухместные, мне один черт.
– Я попробую еще заглянуть в дирекцию, – буркнул Павел.
Худой взял рюкзак Эрики и пошел вперед. Она медленно следовала за ним. Впервые в жизни была она на лыжной базе. Крики, суматоха, шум, все суетятся как шальные, но тепло, приятно, словно бы ты – нигде и в то же время везде. Они прошли мимо стайки девушек в экстравагантных куртках, мимо парней в свитерах или в майках; где-то что-то приколачивали, эхо в каменном доме многократно усиливало звук.
Худой остановился, повертел ключом и отворил дверь.
– Здесь. Здо́рово? А?
– Здо́рово, – сказала она.
И, рухнув на постель, подумала, что все это неправда. И горы, и снег, и этот каменный дом, и комната, и то, что она говорит «здорово», и то, что сейчас вот она выложит свои вещи из рюкзака и эта маленькая комнатка с двухъярусными койками, покрытыми клетчатыми пледами, будет принадлежать ей.
Худой в нерешительности стоял у порога, наконец, запинаясь, сказал:
– Ну, я пойду, пожалуй.
Она не стала его удерживать.
…Эта маленькая комнатка с двухъярусными койками, покрытыми клетчатыми пледами, будет принадлежать ей. Комната на двоих, она с Павлом, как Марта с Мартином, А с Б… Только она никогда до сих пор ни с кем. «Вместе с Павлом», – снова подумала Эрика; наконец-то она, хотя бы для видимости, перестанет играть роль нежелательного свидетеля чужой любви, чужих дел, чужой жизни.
Скрипнули двери. Она уселась на постели, но это опять был Худой.
– Чего тебе? – спросила она, разозлившись, что он прервал ее мысли.
– Павла ищу, – сказал он, продолжая стоять.
– Его нет еще.
Худой не уходил.
– На лыжах с нами пойдешь? – спросил он.
– Не знаю.
– Чего не знаешь? – возмутился он. – Такая житуха тут, а она еще думает. Условия просто мировецкие.
В эту минуту вошел Павел и одобрительно оглядел комнатку.
– Здо́рово тут, правда, Эрика?.. А ты чего? – обернулся он к Худому. – Смотри, там жуткая толчея. Если сразу место не займешь, как бы тебя не вытурили.
– Дай-ка сигаретку, а то у меня нет, – глядя куда-то в угол, сказал Худой.
– Ты что, спятил?! – Павел даже глаза выпучил от изумления. – Я же сию секунду сам у тебя пачку стрельнул, чтоб свой рюкзак не открывать.
– Вот именно, я последнюю тебе отдал.
– Последнюю? Да ты что, старик? Мы же с тобой на вокзале по шесть пачек взяли, забыл?
– О господи, чего ты ко мне привязался? Дашь, наконец, сигареты или нет?! – вспыхнул Худой.
Павел лишь молча пожал плечами и вынул пачку из рюкзака. Худой спрятал ее в карман и, буркнув что-то, вышел.
– Вот придурок! – Павел взглянул на Эрику. – Я же собственными глазами видел: у него пачек десять в боковом кармане рюкзака.
* * *
Когда она проснулась, было уже совсем светло. Косой солнечный луч падал через окно прямо ей на одеяло. Эрика глянула вниз, койка Павла была старательно заправлена клетчатым пледом.
«Крепко же я спала, – подумала она, – не слышала даже, как он вышел». Ей стало не по себе, что она одна. Как же дальше? Где и когда здесь кормят завтраком, она не знала. Сев на постели, Эрика подперла голову рукой.
А интересно, что там за окном, ну-ка… Мать честная, что за красотища! Белое, голубое, искристое, кислородное, черт побери… Слов не подберешь – и бог с ними, со словами! Она стояла у окна, глядя, как с сосульки медленно скатывается удлиненный, дрожащий опал. Сперва круглый, потом овальный – кап… и тут же образуется новый, круглый, овальный, каап…
– Ты что, еще в постели? – Марта не признавала стука. Впрочем, может, здесь, на базе, так принято? – Вставай же, глупая, солнце – чудо, айда загорать. Как подумаю, что из-за этого дурацкого колена в жизни не смогу больше с горы спуститься… Ну же, двигайся, экая ты копуша, я уже шезлонги взяла, позже мы бы фиг их получили, а ребята мне велели опекать тебя.
Она уже подвязывала себе тесемкой волосы на макушке.
– Ты тоже так сделай, старуха, а то выгорят.
«Или да, или нет», – подумала Эрика, но ничего не сказала.
Они в мгновение ока съели свой завтрак и улеглись в шезлонги на лужайке за базой. Эрике ясно было: вести себя надо так, словно то, что здесь происходит, – для нее будни; никаких вопросов, ничего похожего на удивление, виду не подавать, что все тут для нее – неожиданность. Впрочем, с Мартой невозможно было и слова вставить. «Хочешь пахты?» – и тут же протягивала ей кружку. Эрику скоро утомила ее болтовня. Она пыталась выключиться, но голос Марты мешал ей погрузиться в ощущение счастья. Ближе к полудню что-то промчалось, прошмыгнуло рядом, взвихрив столб снежной пыли, и Худой остановился в сантиметре от шезлонга Эрики.

– Ловок же ты, братец, – рассмеялась Марта.
– Пошли, Эрика, я за тобой приехал. Марта у нас травмированная, но тебе-то чего дурака валять, когда снег такой.
Положение было не из легких, и Эрика решила отбиваться.
– Я даже не знаю, где мои лыжи.
– Зато я знаю. Это лыжи моей сокурсницы, они знакомы мне как собственный карман. Ну, пошли.
– Ты что, балда, не видишь, что ей неохота? – через плечо спросила Марта.
– Откуда такая уверенность?
– Это чувствуется, братец, к тому же хамство бросать меня тут одну, – запротестовала Марта.
– Того и гляди, похитит кто-нибудь…
– Вот именно.
– Что же она, сторожить тебя обязана? Пусть Мартин тебя сторожит.
– А Эрику Павел, – отрезала Марта, но Худой сделал вид, что не слышит, и потянул Эрику за рукав.
– Ну пошли, спящая ты царевна!
Начинать, однако, было непросто. Хотя Эрика раньше и пыталась ходить на лыжах, она ежеминутно падала, ноги отказывались повиноваться, разъезжались в разные стороны, не слушая «приказов мозговых центров», чего требовал от нее Худой. Но Худой все же хвалил ее, уверял, что она способная.
– А главное – настойчивая, и это скажется, вот увидишь.
Когда они уже кончали обедать, явился Павел, встрепанный, раскрасневшийся, в превосходном настроении.
– Ты куда подевался, обалдуй? Смотрю – нет тебя. Я еще три раза спустился в Горычковую, а ты в это время где-то распутничал.
– Вовсе не распутничал, – злорадно сверкнула глазами Марта. – Он твою Эричку ездить учил.
– Какую еще «мою»… – начал Павел и вдруг осекся.
Худой кротко взглянул на него.
– Ну, значит, мою, – быстро согласился он. – Тем более я имел право учить ее.
Все рассмеялись, Павел, чуть помедлив, тоже.
– Что я учил ее, это ладно, трепло ты этакое, – Худой сделался важным. – Главное, я научу ее!
Он сдержал слово. Эрику «гонял» в хвост и гриву по два часа ежедневно, но через неделю она уже свободно спускалась вниз, совсем недурно делая повороты.
Павел выходил из себя от злости.
– Ты что, совсем от лыж отказался, идиот несчастный? Я сегодня на Ольчиской был… Это же такое… – захлебывался он от восторга. – А он с девицами по пологим скатам для новичков шастает.
– Ничего подобного, мы в долину спускались, а к тому же… привезли-то ее сюда, чтобы научить, верно?
– Может быть. Но почему именно ты?
Худой комично сморщил лоб.
– Да потому что ты этого не делаешь, – сказал он. – Надо же помочь ей.
Павел подобрался, ища, как бы ему уесть Худого.
– Ты, верно, и в бридж играешь, чтобы ей помочь, хотя она все время тебя обыгрывает.
Худой с нескрываемым сожалением посмотрел на Павла.
– Она меня обыгрывает! Осел, ты даже не заметил, что мы с нею с самого начала против вас играем. Пустая твоя башка!
– Да кто ты такой, чтоб голову крутить девчонке, ведь ей всего шестнадцать лет! – пошел в наступление Павел.
– Я вовсе не кручу, – Худой буквально обезоруживал. – Это она мне закрутила…
Павел взглянул на него, словно бы сомневаясь, все ли шарики у него на месте.
– Эрика? – сказал он. – Эрика тебе голову крутит?
– Не знаю, крутит ли, – подтвердил Худой, – но закрутила, это факт. До чего чудесная девка, в жизни такой не встречал…
– Какой – такой? – разозлился Павел.
– Что ты там понимаешь! Мировая, и все тут.
А Эрика и вправду была «мировая»; впервые в жизни у нее было такое чувство, будто раздвинулась невидимая завеса, постоянно отгораживавшая ее от мира и от людей. Было ей тут хорошо и весело – и с Худым, и с Мартином, и даже с Мартой. Перед ними она не играла никакой роли. Хотела – говорила, хотела – молчала, могла быть такая или этакая, и все принимали это как что-то естественное. Когда после целого дня, проведенного на воздухе, опьяненная им, она вечером садилась за карты, то прямо перед собой видела кроткие глаза Худого, чувствовала на себе его теплый взгляд.
– Ну-ка возьми себя в руки, Бруннер, зададим им сегодня жару, чтоб они до завтра не поднялись.
– Клёво, Бруннер, только не торопись…
Но суть была не в этом теплом взгляде. И не в том, что Худой явно был неравнодушен к ней, и не в том даже, что это также явно злило Павла.
Не в этом было дело. И не в солнце, не в искрящемся снеге, не в пахте, которая очень пришлась ей по вкусу, и не в том, что она уже съезжала с Каспрового Верха, ни в чем из того, что было ощутимо, осязаемо, зримо. Дело было совсем в другом: тут, в этом месте, где все как-то менялись, она тоже перестала быть сама собой, тоже изменила облик. Освободилась от тяжести, от которой до сих пор тщетно пыталась избавиться. Стала одной из сотни девушек, бегающих по лыжной базе в шлепанцах либо в расшнурованных ботинках – Анка! Барбара! Ирена! – стоящих в очереди за кофе – Иза! Тереза! – болтающих что-то, смеющихся, – самых что ни на есть обычных. Боже, как чудесно суметь раствориться в других, перестать быть Эрикой, наконец перестать быть самой собой!
* * *
В тот день они совершали спуск втроем. Впервые она пошла на лыжах с Павлом. Он ничего ей не сказал, но и замечаний не делал – это уже говорило само за себя. Теперь они стояли перед входом на базу. У Эрики немного дрожали ноги, но она была довольна, раскраснелась. Павел, глядя на копну ее волос, вспомнил вдруг задымленную комнату, монотонное, болезненное движение щетки – и что-то вроде радости или гордости толкнулось в сердце. Худой отстегнул ей лыжи и пошел ставить их в холл. Она вытащила сигарету, но Павел рывком отобрал ее и сунул в карман.
– А тому, что сразу после спуска не курят, он тебя не научил?
Эрика еще больше обрадовалась, почувствовала себя как-то уверенней, свободней, не сознавая, что причиной тому – ревность Павла.
Вечером Павел пораньше ушел к себе в комнату. Уселся на постели и задумался. Чудно, что здесь, на базе, он до сих пор почти не занимался Эрикой. А Худой тоже штучка, однако!
Ощущая потребность хоть какого-то общения, он потянул ручку ящика, в котором Эрика держала свои вещи, уверенный, что уж тут-то она наверняка осталась верна себе, и сейчас под ноги ему вывалится все его порочное содержимое: грязные тряпки, колготки, мятые кофты, рваные лифчики. Но то, что он увидел, настолько поразило его, что он даже свистнул. В ящике лежал его учебник «Агрессивность в период созревания»! Он открыл страницу, заложенную разогнутой скрепкой: «Предмет наблюдения: А. Г. четырнадцати лет, дочь разведенных родителей. Интеллигентная. Способная. Нарушения…» Несколькими страницами дальше опять торчала скрепка: «Если у ребенка последовательно развивается агрессивное отношение к окружению, надо прежде всего обратить внимание…»
В эту минуту дверь отворилась и в комнату вбежала Эрика.
Увидев учебник в руках у Павла, она остановилась как вкопанная:
– Кто тебе разрешил рыться в моем ящике?
Павел нисколько не смутился.
– Лучше скажи, кто разрешил тебе изучать мои учебники?
Эрика рассмеялась. Ну и дела! Даже не надулась, поймав его с поличным.
– А знаешь, это чертовски интересная литература.
– Настолько интересная, чтобы возить ее с собою в горы?
– А я боялась, что дома кому-нибудь в руки попадет… – Она улыбнулась.
– Ты прочитала? Все?
– И не раз. Меня это очень развлекает.
– По у тебя здесь и времени-то нет «развлекаться».
– Кто же знал, что так будет.
– Не думала, что у тебя тут появится ухажер?
– Ты что, Павел?
– Не притворяйся, не притворяйся. Ты же ни на минуту одна не остаешься.
– Очень даже ошибаешься. Вчера днем, лежа в шезлонге, я даже придумала себе тест на невропатию.
– Сама?
– Ты же мне не помогал…
– Каким образом?
– Отвечала себе на разные вопросы из твоей книжки.
– Но, Эрика, потом же подсчитать надо, ведь ответы эти только в сумме…
– Без подсчета тоже видно. У меня свой способ. Вот видишь, тут я писала ответ за себя, а тут за тебя. Известно, что ты человек нормальный, как… как…
– Как брюква, – подсказал Павел не слишком поэтичное сравнение.
– Ну, скажем, как кольраби. Значит, так: есть такой, к примеру, вопрос: «Что ты предпочитаешь – действовать или планировать?» Я пишу: ты – действовать, я – планировать. И сразу знаю, что здесь о’кей. «Легко заводишь новые знакомства?» Ты – да, я – нет. «Часто ли чувствуешь себя усталой без особой на то причины?» Ты – нет, я – да. «Отвечаешь на письма сразу?» Ты – да, я – вообще не получаю писем.
– А хоть на что-нибудь мы реагируем одинаково? – спросил он.
– Почти нет.
– Какие там еще были вопросы?
– Тебе же они известны лучше. «Предпочитаешь идти в кино или читать интересную книжку?» «Бываешь ли ты иногда так расстроен, что не в силах выносить некоторые резкие и пронзительные звуки?»
– Я тоже не выношу некоторых звуков. Видишь, что-то общее у нас все же есть.
– «Часто ли тебе кажется, что ты ни на что в жизни не способен?»
– А на это как ты ответила?
– Ну а ты как думаешь, Павел?
Они рассмеялись.
– «Бываешь ли ты порой враждебен к людям, которые вообще-то тебе приятны?» Ну, хватит играть, чертовски спать охота.
Взобравшись на свою койку, она вдруг услышала голос Павла:
– Послушай… А может, мы завтра побродим с тобой по горам? Ты же, собственно, нигде тут не была.
– А Худого спрашивал? Он собирался с самого утра что-то…
– Так уж он тебе необходим? Без него ни шагу?
– Да нет, но…
– Сами пойдем, – отрезал он.
Эрика вдруг вспомнила, что ей надо что-то вытащить из рюкзака, и спустилась вниз. Она стояла нагнувшись, в пижамной кофточке и в коротких штанишках. Впервые он увидел ее ноги, очень красивые. Ему вспомнилась Сузанна, подкорачивающая юбку своей помощнице: «У нее такие красивые ноги, а она вечно прячет их…» Интересно, знала ли она, какие красивые ноги у ее дочери?
– Как это сами? – возразила Эрика. – Что же, спину ему показать?
– Зачем спину? Просто погулять отправимся. Можно нам, нет? Беру это на себя.
Она подняла на него глаза: на обветренном смуглом ее лице они казались еще светлее, больше. Как-то само собой он протянул к ней руки и сказал:
– Иди сюда.
И тогда она, тоже не раздумывая, подбежала и уткнулась горящим от ветра лицом в его мохнатый свитер. Минуту они стояли молча. Эрика не думала ни о Павле, ни о себе, перед глазами ее маячила та пара из Саксонского сада; жест той девушки, ее тоска по такому вот жесту. «Наконец-то… наконец…» А Павел чувствовал какое-то необычайное волнение, пальцы его запутались в ее волосах.
«Такие мягкие волосы и такой твердый характер», – мелькнуло у него в голове, и еще он подумал, что это безумие и что свершается оно само собой, без его участия, а он только не хочет, не может противиться.
* * *
Они брели по колено в рыхлом снегу. Ночью нападало его с полметра, деревья покрылись белой шапкой, при легчайшем дуновении ветра с них сыпался снег.
День был сумрачный, воздух насыщен тяжелым запахом хвои. Эрика устала, но ни за что на свете не призналась бы в этом Павлу. Он шел впереди, ни разу за все время не оглянувшись.
Утром, когда Худой постучался к ним в комнату, чтобы сказать Эрике, что он идет смазывать лыжи и будет ожидать ее перед домом, Павел небрежно бросил:
– Эрика сегодня с тобой не пойдет. Я хочу показать ей горы, она же тут впервые.
– Я с вами, – быстро нашелся Худой.
– О нет, тебе, наконец, представится случай хоть немного потренироваться. Я не могу считать своим соперником человека, который за десять дней едва ли четыре раза спустился с горы.
Худой пожал плечами.
Когда они выходили, он подошел к ним.
– Слушай, Павел, только не форси, прошу тебя. Я говорил со спасателями, есть опасность обвала.
– Обвал в январе! – Павел постучал себе по лбу жестом, полным сострадания. – Ты бы, браток, придумал что-нибудь более правдоподобное.
Но сейчас, оглядываясь по сторонам, он подумал, что Худой, пожалуй, не соврал. Снегу нанесло в этом году – сила, а теперь мороз ослаб, громадные нависи виднелись на всех остроконечных уступах. Он понимал, что идет слишком быстро, подозревал, что Эрика устала, но очень не хотел спрашивать ее об этом. Так хотелось, чтобы она сама вдруг сказала: «Павел, может, передохнем минутку?», чтобы первая обратилась к нему, хоть о чем-то его попросила. «Ну и гордыня…» Идя на несколько шагов впереди нее, он припомнил – как на киноленте – тысячи различных кадров: их знакомство, рисунки в ее альбоме, забавное море с изогнутыми волнами, разговор (и конец этого разговора!) в том проклятом вроцлавском кафе, руку, которую она так странно, как чужая, убрала в кино из-под его руки, рыбную запеканку, разные ее слова, жесты, потерянные взгляды, странное, угрюмое молчание.
Собственно, ничего особенного не произошло, да что там говорить – ровным счетом ничего не произошло. Минуту он нежно прижимал ее к себе, даже не целовал («И как мне это не пришло в голову!» – удивленно подумал он), но почему-то Эрика, бредущая сейчас за ним по снегу, под хмурым, тяжелым, погасшим небом, никак не совмещалась в его сознании с той девушкой, о которой он только что думал. Была кем-то иным. Более близкой… Или далекой… Более знакомой или более чужой… Одним словом, кем-то совсем иным.
Ну и характерец, однако! Скорей с ног свалится, но чтобы первая голос подала – дудки. Павел остановился.
– Отдохнуть не хочешь?
И вдруг рассмеялся. Эрика так запыхалась, что даже ответить была не в состоянии.
– Почему ж ты не сказала? Мы бы посидели.
Он снял куртку и положил ее на ближайший пень.
Минуту было тихо, Эрика тяжело дышала, сердце ее билось где-то в горле.
– Закурим? – наконец с трудом произнесла она.
– Минут через десять. Передохни немного.
Тон был властный, необычный, она подняла на него глаза, но он смотрел куда-то вбок и тоже был какой-то другой, незнакомый.
Они шатались по горам почти до трех часов.
Уже у самой базы встретили Худого.
– Я боялся за вас, ослы. Эрика ничего не смыслит, но ты-то! – с возмущением обратился он к Павлу. – Эгоист, только о себе и думаешь. А того не учитываешь, что она в горах пока что ноль без палочки и за ней следить надо. Сегодня-то ведь будь здоров как опасно.
– Ну, знаешь! – возмутился Павел. – Я, между прочим, тоже не намерен погибать под лавиной. А поскольку я, как ты утверждаешь, эгоист, то если б угрожала опасность…
И вдруг, не сговариваясь, они с Эрикой расхохотались. Худой посмотрел на него, на нее, резко повернулся и ушел.
А они постояли еще минуту, глаза их встретились.
«Люблю ее», – подумал Павел.
«Нет, не люблю его», – подумала Эрика.