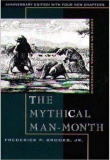Текст книги "Встречаются во мраке корабли"
Автор книги: Зофья Хондзыньская
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 10 страниц)
«Угрюмая наивность», – подумала Эрика. – Забавное сочетание слов, но я ведь тогда именно такая и была».
– Когда ты это делала?
– В самом начале, в Варшаве.
– Не вышло. Так вот, в рисунке никакая помощь тебе не нужна. В каком ты классе?
Что ж, этим должно было кончиться.
С независимостью, которой она никак от себя не ожидала, Эрика ответила:
– Ни в каком. Я только неполную среднюю кончила. Не сто́ит говорить, как до этого дошло, да и неважно, но факт есть факт. Что нужно сделать, чтобы допустили к экзаменам?
– Важно или неважно, но одно я должен знать: ты сидела два года в одном классе или вообще не училась все это время? Понимаешь, если ты целый год не училась, то дело хуже.
– Значит, хуже.
– Но ты ведь для чего-то существуешь, Филип, – перебила их Ядвига. – Не будь же тупым формалистом! Надо как-то изловчиться и все устроить. Это теперь наш ребенок.
Филип поднял глаза к потолку.
– Она еще не разуверилась в моих способностях «изловчаться»!
– Значит, надо переступить через себя. Между прочим, тебе не стыдно говорить ей «ты» и соглашаться, чтобы такая барышня обращалась к тебе на «вы»? Ты и без того достаточно старый, нечего еще стариться…
– Выпью с ней на брудершафт, когда она сдаст. И ни на минуту раньше. Слушай, девонька… Тебе придется здорово вкалывать. Я принесу программу, сориентируемся вместе, где у тебя слабое место, и подумаем, как тут помочь. Может, я даже сам сумею тебя подтянуть. А что? Пожалуй, еще справлюсь.
* * *
Полено, треща, догорало в камине; близился конец представления, страстным любителем которого была Эрика: борьба дерева с огнем – то злобность, то уступки его пламени, атака огня, слабеющее сопротивление терявшего силы дерева, последнее усилие, треск, несколько искр, тихое догорание, смерть.
– Красиво, – сказала она.
И больше ничего не прибавила. Ядвига и так понимает. Филип ушел сегодня пораньше, Ядвига сидела в кресле и вязала на спицах, а Эрика, лежа на кушетке и глядя на опущенную голову Ядвиги, задумалась. Кем была она теперь? Ведь не той прежней Эрикой, которую что-то непрерывно гнало отовсюду и жизнь которой, ни с кем не разделяемая, по сути дела, и жизнью-то не была…

Никогда раньше не чуяла она того медового вкуса, которым пропитана была теперь каждая секунда времени и от которого хотелось и плакать и смеяться. Не было вчера, не было завтра, только «теперь» и треск огня в камине.
– Пореветь, что ли? – услышала она свой собственный голос, но суть сказанного дошла до нее не сразу.
Ядвига лишь на мгновение подняла глаза от работы, но Эрика не испугалась; Ядвига не станет выпытывать, не скажет ничего такого, после чего ей придется пожалеть о своем безрассудстве; нет, не лопнут как мыльный пузырь ни этот запах, ни сверкание, ни огонь.
– Ну и пореви, – помолчав, очень тихо сказала Ядвига. – Реви себе.
Но Эрика не плакала; с каждой минутой убеждалась она в том, что непостижимая связь между ними – Ядвига тоже это чувствовала – все более крепнет и в ней нет ничего болезненного, никаких острых углов. Она знала, что хочет, должна однажды рассказать Ядвиге все, выкинуть это из себя, вырвать с корнем, хотя бы для того, чтобы освободить место для какой-то иной жизни, которую тогда лишь способна будет воспринять. Но сперва ей что-то нужно было от Ядвиги. Что именно – она точно не знала, какое-то доказательство доверия, уверенности, что она, Ядвига, выслушает ее не как обиженного ребенка, а как человека, который понял свои ошибки и вправду готов начать с нового абзаца. Точка – и с красной строки. У нее и в мыслях не было проверять Ядвигу, упаси бог. Она ничего не требовала, скорей, просто ждала от Ядвиги подарка, дара, который помог бы ей, а может, даже позволил бы говорить.
Ядвига, видно, почувствовала что-то, она отложила спицы, подняла голову, взглянула Эрике прямо в глаза и улыбнулась, и тогда, сорвав последний кусочек проволоки, который ее сдерживал, вылетела пробка от шампанского и Эрика очень тихо сказала четыре слова:
– Так хорошо мне тут.
Утверждение, которое люди обычно многократно повторяют при самых пустяковых обстоятельствах – удались каникулы, кресло удобное, загорать приятно, – для нее было глубочайшим откровением.
А поскольку Ядвига продолжала молчать, Эрике показалось, что она явно недооценила этот феномен.
– Я еще ни разу в жизни такое не говорила. – А спустя мгновение много, много тише добавила: – Никогда, ни секунды не была с собой в согласии, а теперь…
– С собой в согласии, – задумчиво повторила Ядвига. – Хорошо, что ты теперь с собой в согласии, это трудно дается. А внутренний разлад… Знаю… Это мука. Я пережила… – Она поправилась: – Переживала много лет… Видишь ли, я… – Она осеклась.
И Эрике представилось, что по натянутой меж этажами проволоке идет танцовщица: шаг, еще шаг – удержится или сорвется? Проволока колеблется. Ядвига открыла рот, закрыла, снова открыла, вдруг сказала: «Я расскажу тебе». И Эрика знает: танцовщица поставила ногу, она спасена.
– Я тебе говорила, что во время войны Эдвард был в лагере для военнопленных, – услышала она спокойный, ровный голос Ядвиги. – Оттуда он вернулся не один. Привез его друг, который все это время заботился о нем. Филип поселился у нас, долгое время ничего не мог узнать о жене и дочурке, которые жили в Варшаве. Разыскивал их с помощью радио, Красного Креста, в конце концов узнал, что они погибли во время восстания. Мы вместе пережили его трагедию, он остался у нас, помогал мне ухаживать за Эдвардом, который беспрерывно болел… Не знаю, как рассказать тебе об этом… Опомнившись в один прекрасный день, я поняла вдруг, что мы с Филипом любим друг друга. Не знаю, что мне надо было сделать, но я ничего не сделала. Мы были вместе все это время. Все годы болезни Эдварда. В конце концов Эдвард умер, а судьба отомстила мне. В тот самый момент я твердо поняла, что никогда в жизни не смогу пересилить себя, не смогу быть с Филипом. Еще до похорон я попросила его выселиться… Та квартира, где он сейчас живет, как раз тогда освободилась, а потом уж ему удалось получить на нее ордер. Сперва Филип сопротивлялся, не мог поверить, потом решил, что переждет странную мою реакцию, просил, молил. И в общем был абсолютно прав. «Если бы Эдвард жив был, – говорил он, – то…» – и так далее. В конце концов ушел. Год мы совсем не виделись. – Она прервала и потерла руками виски – жест, которого Эрика никогда раньше у нее не видела.
Она смотрела на Ядвигу и пила ее слова, понимала, что каждое слово отрывает камень за камнем от плотины в ее душе и что плотину эту начинает сносить вода.
– Он вернулся. Я не верю в то, что мы вольны в своих поступках, я тоже вернулась бы к нему. Потому что любила его. Разуму вопреки. И сегодня люблю его. Мы тесно связаны. Почти ежедневно видимся. Но то не изменилось. Так уж и осталось. Восемь лет прошло, как Эдвард умер… Ну вот, понимаешь, я люблю его, но как-то совсем иначе, из благодарности за то, что остался со мной, принял мои условия, понял меня.
– Ты его обижаешь…
– Возможно. Но не могу же я насильно быть с ним… Кому от этого было бы лучше?
Она замолкла. Эрика тоже молчала. Она была очень взволнована этой исповедью, и не только потому, что получила доказательство, которого ждала.
– Знаешь, это поразительно, – после минутной паузы сказала Ядвига. – Я и не думала, что когда-либо смогу говорить об этом. Этой истории никто не знает.
– А пани Мария?
– Та, как и все прочие, считает нас с Филипом супружеской парой.
Минуту она молча смотрела в огонь.
– Подумай, как странно: какие-то вещи можно рассказывать только чужим людям… – сказала она, но, заметив, что прозвучало это очень обидно, поправилась: – То есть не чужим, но людям, с которыми ты не успел еще съесть «пуд соли». Душевный порыв при первой встрече…
– Встречаются во мраке корабли.
– Что такое?
– Павел сказал мне это, – она впервые помянула здесь его имя, – когда пытался навязать мне дружбу.
– Не люблю твоего насмешливого тона.
– Это невольно. Но я сейчас не о том. Рассказ этот, вернее, стихотворение – и вправду красивое. Корабли на море ночью, во мраке, не видят друг друга и, сближаясь, объясняются голосом сирен: «Слушай, ты не одинок…» – С каждым словом голос Эрики все больше теплел. – Понимаешь, Ядвига, ты услышала голос моей сирены, мой крик о помощи и ответила мне… – Она вдруг глубоко вздохнула, словно готовясь нырнуть. – Теперь я расскажу тебе все.
«Все» – смешное, однако, слово», – подумала Ядвига; ее необычайно тронула эта женщина-ребенок, неожиданно принесшая ей в дар «все».
– То есть… мое… «все»…
«Забавно, она угадывает каждую мысль», – подумала Ядвига, еще более тронутая.
– Я уже хотела, очень хотела рассказать тебе это, – продолжала Эрика, – но мне нужен был какой-то знак от тебя… Ну, и ты дала мне его…
Прорвалась плотина, за которой годами копились и гнили невысказанные слова. Эрика говорила и говорила, прерываясь для того лишь, чтоб закурить новую сигарету. В какой-то момент она заметила, что говорит не о себе, как хотела, а о матери, о том, какую длинную тень бросила она на всю ее, Эрикину, жизнь, о том, как заслонила ей свет, детство, о зыбучей тишине, которая засыпала ее, как песок в Сахаре, и что потом это уже не изменилось, вросло в нее, парализовало, сталкивая все глубже и глубже в пропасть одиночества.
– Она не любила меня, – крикнула Эрика почти в отчаянии, – вот я и была к ней жестокой! – И вдруг замолкла.
То, о чем она знала уже много лет, теперь – высказанное, выкрикнутое – зазвучало как-то иначе, как завершение трагедии, после которой должен был начаться новый абзац; точка – и с красной строки.
Сделалось тихо, она закрыла лицо руками, а когда отняла их, увидела, как что-то мелькает у нее перед глазами: серебристые, шевелившиеся в тишине спицы Ядвиги.
– Вот видишь, ты была жестокой, – сказала Ядвига. Эрика доверчиво глянула ей в лицо. – А ведь ты вовсе этого не хотела, ведь этого нельзя хотеть. Люди по природе своей, вероятно, добры, мечта о доброте – естественный человеческий инстинкт. Но в жизни – по разным причинам – мечта эта воплощается далеко не всегда. Однако же величайшая ошибка – безоговорочное осуждение других. Ты осудила мать, и это погубило вас. А что, если она была еще несчастнее тебя? Ты об этом не подумала? Тебе не пришло в голову, что не только ты хотела найти в ней опору, но и она искала опору в тебе? И тоже не находила.
– Во мне? Я была тогда ребенком. Как можно искать опоры в ребенке, который сам еще не обрел никакого равновесия?
– Можно ждать от него ласки, нежности. Это иной раз важнее любой опоры и поддержки.
– Что же мне было делать? Не могла же я насильно ее полюбить? Ничего бы не вышло.
– Не могла и не можешь. Сегодня твоей матери причитается от тебя одно: она должна знать, где ты и что с тобой, знать, что ты решила изменить свою жизнь. А потом уж как получится. Если хочешь, я сама напишу ей, что ты живешь у меня и готовишься к экзаменам, что ты решила поступать в художественную школу. Она ответит, а там уж увидим, как быть дальше.
– Ядвига… это правда… Ты согласна написать ей?
– Напишу. Через пару недель, когда буду уверена, что ты в самом деле начала готовиться к экзаменам.
– А ты не считаешь…
– Считаю. Но инициатива должна была исходить от тебя, и я рада, что так оно и вышло.
– Но я даже не знаю, как начать.
– Ты в самом деле думаешь, что это хоть что-нибудь значит? Напишешь без обращения. Даже «мама» – вовсе не обязательно. Напиши: «Я поняла, что должна успокоить тебя…» И еще пару подробностей из своей жизни.
– И ты думаешь, я смогу ее успокоить?
– Важно не то, что я думаю, а то, что думаешь ты.
– Не знаю, сдам ли я экзамены, но готовиться к ним буду – это точно.
Она подняла с пола костыль.
– Что это? Куда ты собралась?
– За бумагой. Если я отложу это, то никогда в жизни уже не сделаю. А ведь пора, пожалуй, начать жить за свой счет.
– Сиди спокойно. Я принесу тебе. Напишешь через час. Уж если столько месяцев не писала…
– Месяцев? Я никогда в жизни не писала ей.
Ядвига виду не подала, какой болью отозвались в ней эти слова. Ровным, спокойным голосом она сказала:
– Значит, и первое письмо подождет еще часок, а мы тем временем закончим наш разговор… Ты не признала своей вины, но сказала, что была жестокой, значит, чувство вины где-то в подтексте есть. Но ведь ты же не хотела этого? Правда? Так или иначе, ты стала невыносимой, и при этом, так сказать, «бескорыстно». Ну скажи, была ли тебе хоть какая-то польза от этого?
– Я была ужасно несчастна.
– Вот видишь. А теперь ты изменилась, потому что, по твоим словам, тебе стало хорошо. Какая в том моя заслуга? Никакой. Мне ничего это не стоило. Я не мучилась, ничего не делала вопреки себе, ни к чему себя не вынуждала. Ты была мне так же необходима, как я тебе. С первой минуты стала близка мне, и все тут. Все произошло как бы само собой, без нашего участия. Другое дело – Павел. Его заслуга неизмеримо больше.
– Не будем говорить о нем. Не хочу. Ну ей богу, во мне уже нет для него места.
– Опять осуждаешь? А может, опять неправа? Откуда тебе знать, где проходит граница между тем, чего он хотел для тебя, и тем, чего достиг?
– Он обманул меня и выставил на посмешище, – сказала Эрика, – такое не прощается. Я была для него не более чем трудным случаем, который он использовал для своих научных наблюдений. Ну, может, еще чуточку жалел меня, думая при этом – вот, мол, какой я хороший. И все.
– Так вот, представь себе, что ты ошибаешься. Нет, нет, не прерывай, я терпеливо тебя слушала, теперь позволь уж мне закончить. Во-первых, голый факт: я видела Павла. Он очень несчастен. До откровения у нас не дошло, но можешь довериться моему инстинкту: отношение Павла к тебе на сегодня ох как далеко от отношения наблюдателя к трудному случаю. Впрочем, это дело не мое. Во-вторых, задумайся на минутку, как выглядит «история вашей истории». Павел поехал в чужой дом, увидел чужую, на редкость антипатичную девочку, которую судьба, а может, несчастный характер, безотчетная агрессивность обрекли, как злую собаку, на людскую ненависть. Он, не задумываясь, решил тебе помочь. Заметки о тебе были не более чем предлогом, с их помощью он надеялся лучше узнать и понять тебя. Он был упорен в своем желании оказать тебе помощь, хотя ты с первой же минуты только и делала, что мешала ему, отбивала всякую охоту. Чтобы помочь тебе, он решился пожертвовать многим; натянутыми стали его отношения с матерью, он старался, думал, комбинировал – словом, осложнил себе жизнь. Ты отвечала ему черной неблагодарностью. Подумай, ведь я же ничем не жертвовала. («Зато я полюбила тебя, – радостно подумала Эрика. – Ты первый человек на свете, которого я полюбила».) Попросту обрадовалась, что кто-то оживит мой опустевший дом. И вот – результат: удача выпала не Павлу, а мне. И только поэтому я в твоих глазах – хорошая, а он – плохой. Это как если бы оценивать врача по результатам операции. Никто обычно не принимает во внимание, что у одного врача – пациент, которого можно спасти, а у другого – обреченный на смерть. У одного больного крепкий организм, а у другого – слабый. Одна операция была сделана вовремя, а другая – слишком поздно.
– Мне она сделана в последнюю минуту, – тихо сказала Эрика.
– Так вот, это обычно не принимают во внимание («Не услышала, что я сказала? Не захотела услышать?») и судят только по результатам. Пациент спасен. Пациент умер.
– Между врачами тоже бывает разница, – успела вставить Эрика.
– Если бы Павел не принял тогда в тебе участия, – не дала сбить себя Ядвига, – мы бы с тобой не сидели сегодня тут, рядом. Это, бесспорно, его рук дело. А может, именно то, что мы сидим рядом, и предрешило спасение пациента?
Эрика не ответила, хотя последняя фраза Ядвиги проникла ей в самое сердце. Значит, услышала. И согласилась с нею. Это верно: знакомством с Ядвигой она обязана Павлу. Если бы не он, она не уехала бы из Вроцлава, не поселилась бы у матери Павла, не поехала бы в горы, не сломала бы ногу, никогда не смотрела бы на это лицо, в котором сейчас была вся ее надежда. Это верно. Павлу она обязана Ядвигой. Одно это и важно, а остальное – вычеркнуть, забыть.
Она протянула руку и взяла со стола свой альбом. И снова, как уже много, много раз, начала с того же самого – с параллельных волнистых линий. На этих волнах двумя-тремя штрихами обозначила один корабль и заколебалась – карандаш застыл над бумагой, – где рисовать второй.
Голова ее склонилась набок, и Ядвига видела только опущенные ресницы – не накрашенные, не ограждающие доступ ни в какие крепости. Она поднялась, обошла столик и встала за креслом Эрики.
Загудел гудок Мирковской бумажной фабрики.
– Через год я выхлопочу тебе стажировку в Миркове как проектировщице, – как бы мимоходом сказала Ядвига. – Рукой подать. Можно выходить из дому, заслышав гудок.
Эрика не подняла головы, коснулась карандашом бумаги. И услышала голос Ядвиги:
– Ты к нему несправедлива. Что-то ведь причитается ему за то, что мы обрели друг друга…
Эрика передвинула карандаш и тут же, совсем рядышком с первым, нарисовала профиль второго корабля. Потом подняла глаза на Ядвигу – та моргнула в знак одобрения.
– Ну вот, на таком расстоянии они могут не только услышать свои сирены, но и увидеть друг друга.
– Нет, увидеться они не могут. Ты забываешь, что плывут они ночью.
– Но ведь скоро рассвет, – серьезно сказала Ядвига.