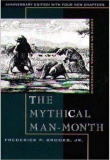Текст книги "Встречаются во мраке корабли"
Автор книги: Зофья Хондзыньская
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц)
– Ну, знаешь, если бы все так рассуждали…
– Все меня не касаются, я за себя говорю. Приобрела ребеночка, изволь кормить. Я пока что несовершеннолетняя. Вкалывает, так пусть, по крайней мере, знает, ради кого. И так ни гроша не дает. Я ужом извиваюсь, чтобы выудить на сигареты, на кино. А зверюшкам ни в чем нет отказа. Зверюшки… У них тут прав больше, чем у родной дочери.
Павел помолчал.
– А тебе не приходило в голову самой уйти отсюда? Не унижаться до милости?
– Я же толкую тебе, никакая это не милость. Я не хипарь какой-нибудь, чтобы воздухом питаться и по свету бродяжничать. Это мой дом, и я не намерена отсюда убираться. Тут я хочу иметь все, что мне положено.
Значит, бегство исключено – и на том спасибо.
– Но если она, как ты уверяешь, не желает давать тебе то, что положено, где же твое самолюбие?
– А где написано, что у меня должно быть самолюбие?
В самом деле, нигде не написано. Попробуй-ка тут втолкуй ей. Она упряма, это ясно, и убеждена в том, что к ней тут несправедливы. Он знал из опыта, что говорить о самолюбии и чести людям, начисто их лишенным, – все равно что разъяснять музыку глухим. Абсолютно безнадежное и бессмысленное занятие.
– А ты не хотела бы стать независимой, самостоятельной, иметь деньги, ну, скажем, на путешествия: захотела – поехала.
– Может, когда-нибудь и поеду. Мне не к спеху. Хочу, чтоб было приятно и удобно.
– А тут тебе что – приятно и удобно?
– Неприятно, это точно, но относительно удобно. Няня меня обслуживает, нет-нет да сунет чего-нибудь.
«Обслуживает»… Шестнадцатилетняя соплячка!
– Честно говоря, мне не очень-то понятно, как можно так жить. Мать твоя работает, и, кажется, много…
– Ох, много, много… Попрекает меня этим с утра до ночи. Она с ног валится, а я… Ну и так далее. Ничего другого не слышу, надоело до смерти.
– Но это же факт.
– Ну и что? Разве все факты интересны?
– Надоело, а пользуешься.
– Удивительное дело, все одну и ту же пластинку крутят, подосланные, неподосланные, у всех одни и те же аргументы. Могу продолжить за тебя: недостойное поведение… раздражает… хоть кого может из равновесия вывести, вот если б я переменилась, то она… если б помогла ей… Да помоги я ей хоть разок, она тут же на голову сядет! Тебе и невдомек, сколько эти самые зверюшки, – язвительно произнесла она, – требуют заботы и сердца! Водичку Кикочке. Молочко Фифочке. Таблеточки Шкварочке. Капли Пипочке и т. д. и т. п. – круглые сутки. Она способна завалить работой целый полк солдат. А вот прибрать, купить что-то – тут ее нет, а нянька уже едва ноги таскает… Только начни что-нибудь делать, и пойдет как по маслу. И то, и другое, и пятое, и десятое… А зачем, когда можно ничего не делать?
– Вот именно.
Наступила минутная пауза. Эрика, почесывая голову, смотрела в окно.
– И не скучно так лежать целый день? – спросил Павел.
– А работа, по-твоему, развлечение? Может, ты и любитель…
Закурили. Сомнений не было – он наблюдал последствия какой-то глубокой травмы, что-то тут явно произошло.
В этот момент раздался звонок. Павел взглянул на Эрику, она не шевельнулась.
– Кто-то звонит, – сказал он.
– Пусть себе.
Ну и нервы! Сколько раз он зарекался, когда занимается, не подходить к телефону! Где там – разве выдержишь? Первый звонок пропустишь, ну, второй, а уж на третий срываешься с места как оглашенный. Вдруг и в самом деле что-то важное – болезнь, телеграмма…
– Ведь это может быть что-то важное: телеграмма, несчастный случай.
– Со зверюшкой? Еще раз придут. Она будет дома – откроет.
– Ну, знаешь ли, у меня характер слабый.
Он быстро сбежал вниз. За калиткой стояла пожилая женщина.
– А доктора нет?
– Нет.
– Может, передадите ей цветочки? – И она протянула ему сквозь прутья маленький жалкий букетик астр. – Передайте ей и скажите, от Зимородка, мол, с благодарностью. И еще скажите, что мы век помнить будем.
– Что? – спросил он.
Еще не отдавая себе в том отчета, он начинал собирать информацию для дела «мать-дочь».
– И вы еще спрашиваете? Да это же золотой человек! Как увидела, что я… Сами понимаете, пенсия у меня, живу небогато. Кот – вот и все мое общество. Так и живем: то он со мной картошки поглотает, то я с ним потрошков, вместе как-то перебиваемся. И тут, знаете ли, вдруг беда с ним приключилась. Вечером, ночью вернее, часов этак в одиннадцать, поперхнулся, видать, закашлялся, а потом словно бы задыхаться стал. К кому другому я, может, и не осмелилась бы, а уж к ней… Зимородка за пазуху и сюда. Возилась она с ним полночи, уколы делала, лампой грела. И всего-то денег – сто злотых взяла. А потом я еще два раза прибегала, так она ничего – ни гроша. Как есть ангел, все тут знают.
Тетка прямо захлебывалась от восторга.
– Во всем Вроцлаве ее знают! «Ангел» говорят. И надо же, чтоб такую святую женщину так господь покарал. У нее, знаете, дочка есть, – приложив палец к виску, она выразительно покрутила им, – не все дома, рехнутая.
Павел почувствовал прилив злости.
«Она больна», – хотел было он сказать, но спохватился, что это будет медвежья услуга.
– Не повторяйте всякой чепухи. Уж настолько-то вы доктору обязаны.
Она подозрительно глянула на него и, решив, вероятно, что он родственник, быстро проговорила:
– Прошу прощения, вообще-то люди черт те что болтают. Так передадите цветочки-то? От Зимородка, мол. Она поймет, от чернуленьки. А Зимородок он потому, что зимой родился, вот я и назвала его так. Скажете? От Зимородка.
* * *
– Давно пришел? Видишь, как я поздно. Голодный небось? Просто уму непостижимо, что творилось сегодня в лечебнице, – ад, чистый ад! А потом пришлось еще забежать к одной моей приятельнице, с сыном у нее что-то неладно, совсем духом пала, просила зайти, как тут откажешь? А ты что делал? В городе был? Посидел в садике хоть немножко?
Павел рассказал о визите пенсионерки «от Зимородка». Сузанна сразу же вспомнила ее.
– Душераздирающее было зрелище. Она как безумная этого кота любит. Я из кожи вон лезла, чтобы его спасти. Сдохни он, у нее, верно, сердце бы разорвалось.
– Так и так когда-нибудь сдохнет, – философски покачал головой Павел.
– Я ее уговаривала взять другого, пока Зимородок жив. Но она и слышать не хочет. «Как можно, говорит, это же предательство!» Знал бы ты, сколько души люди вкладывают в своих зверюшек…
Он смотрел на нее, худенькую, нервную, излучающую благожелательность, всегда готовую сочувствовать, помочь. Звери, приятельница, Зимородкина пенсионерка – а тут, всего в двух шагах, душная прокуренная комната с дырой, выжженной в занавеске, развороченная постель… Как это совместить? Как понять?
– С Эрикой познакомились?
– Да, говорили с ней.
– Ну и как? – Она задавала вопросы, не глядя на него.
– Очень мило побеседовали.
– Она неглупа и очень способная, прекрасно рисует. Призналась тебе, что в школу не ходит?
– Призналась? Скорее, похвасталась. Похоже, она очень гордится этим.
– Гордится тем, что я оказалась тут бессильной. Что поделаешь, не будем об этом. Я не имею права так, сразу, взваливать на тебя свои заботы.
– Напротив, давайте поговорим об этом. Не только потому, что я психолог и хотел бы докопаться до корней, но надо же искать какой-то выход, она выглядит просто больной.
– Она и есть больная. Я была с ней у психиатра, у невропатолога. Ни в какую не желает лечиться, таблетки спустила в уборную. «Больше не пойду, говорит, и точка».
– Но она же не всегда была такой? Моя мама помнит ее прелестным ребенком.
– Так оно и было. Но после развода с мужем я как-то упустила ее. Сломлена была, замкнулась в себе. А когда опомнилась, было уже поздно. Эрика ненавидит меня, потому и ведет себя так. Это демонстрация, возможно, неосознанная, но всегда направленная против меня. Дома все ей не по вкусу, днем не ест, ночью всегда голодная, глотает какие-то запретные лекарства, чтобы не располнеть. Понятия не имею, где она их добывает? Не хочет ни с кем говорить, никого видеть… А я совсем бессильна, все уж, кажется, перепробовала. Да что там говорить, сдалась я.
Куда делась вся ее энергия, бодрость, оживление, возможно, впрочем, и наигранное. Подперев голову рукой, она стала рассказывать о нынешней Эрике, какая она равнодушная, неприязненная, почти враждебная.
Краем глаза Павел наблюдал за своей собеседницей. Чувствовалось, что она затронула главную тему своей жизни. Павла давно увлекала психология, изучение душевных травм и их странных последствий, различного рода комплексов, трудноуловимых, закамуфлированных человеческих реакций, внезапно ломающих закономерную линию жизни. Нечто подобное он наблюдал и тут. Нынешняя Эрика сформировалась под воздействием шока – сильнейшего потрясения, изо дня в день менявшего ее личность. Но что было этим шоком? То, о чем с таким чувством вины вспоминала ее мать? Или что-то другое? А может быть, совпадение многих обстоятельств? И так ли уж необратимо все это? Неужели и впрямь поздно?
– У вас нет порошка от головной боли? – В комнату вошла няня. – Мигрень у Эрики.
– Не удивительно, по целым дням окна не отворяет, не ест, а знай дымит да кофе пьет… – Потухший, полный смирения голос ее набрал вдруг силы: – Погодите, няня, что это с вами? Почему вы тянете ногу? А ну-ка подойдите поближе.
– Да ничего особенного, малость болит под коленом…
– Господи, да у вас желвак вздулся! Надо немедленно завязать.
И она стрелой выбежала из комнаты.
Сидящая со спущенным чулком старушка многозначительно постучала себе пальцем по лбу.
– Что важнее – мои вены, которые, почитай, лет уж десять как вздулись, или ее больное дитятко? Господи помилуй, как есть сумасшедший дом. Может, сходите в ванную, а? Эричке надо бы порошок передать. У пани Зузи на всех, кроме нее, и времени и сил хватает, а девчонку прямо аж скрутило от боли. Вон там стаканы, водички ей тоже надо бы занести.
В ванной он столкнулся с Сузанной, достававшей бинт из аптечки.
– Не носи ты ей никаких порошков. Того гляди, наркоманкой станет. С утра до ночи глотает их, так и отравиться недолго.
– А может, у нее и вправду что-нибудь…
– Хочешь, поднимись к ней. Я туда не хожу.
Идя по лестнице, он слышал мягкий, приятный голос Сузанны:
– Прошу вас, няня, немедленно ложитесь. И лежать до завтрашнего вечера. Что? Ни в коем случае. Не будет – сойдет и сама себе купит. А вам, няня, запрещаю, ясно? Запрещаю.
* * *
Неся из кухни супницу, Сузанна приостановилась у лестницы и громко крикнула:
– Ужин!
– Сбегать за Эрикой?
– Она слышала, а придет или нет – не угадаешь. Садись, Павлик, у меня с самого утра во рту ничего не было, кроме трех чашек кофе. Ну и денек сегодня выдался! Операция за операцией. И ужасный случай с борзой под наркозом…
Она прервала рассказ – в комнату молча вошла Эрика. Но есть не села, а спокойно закурила сигарету. Павел бросил взгляд на Сузанну, но она и глазом не моргнула – то ли привыкла, то ли решила не поддаваться на провокацию. Эрика пускала дым прямо в нос Павлу. Молчание затягивалось. Чтобы прервать его, Павел лихорадочно искал тему для разговора и в конце концов спросил, как у няни с ногой, давно ли у нее вспухают вены и насколько это опасно. Сузанна тут же ударилась в подробные, изобилующие научными терминами разъяснения, а потом, как бы передавая эстафету, спросила его об интернате, нашел ли он то, что искал, попался ли достойный внимания случай.
– Не знаю еще, – буркнул Павел, не желая вдаваться в такого рода разговоры в присутствии девочки. – Завтра надо будет получше осмотреться. А вы не досказали об операции. Ну и что было дальше?
– Пес сдох под ножом. Диафрагма лопнула. Ужасное чувство испытываешь, когда животное умирает на операционном столе. Знаешь ведь, что твоей вины здесь нет, и все же чувствуешь себя убийцей… А этот еще на диво красив был… Я не суеверна, но, знаешь, после неудачной операции никогда не берусь за следующую. Или на другой день откладываю, или прошу меня заменить. Впрочем, не только я, мои коллеги тоже…
Павел исподлобья наблюдал за Эрикой. Лицо ее заслоняли волосы, но он не сомневался, что она иронически усмехается.
До чего неприятно говорить о чем-либо в ее присутствии! Молчаливое неодобрение просто парализует.
– Думаешь, конец на сегодня? Как бы не так. Надо еще в институт забежать. В полдень я вырезала желчный пузырь обезьяне из зоосада, надо бы взглянуть, как она там. Еще, чего доброго, не выдержит. Старая уже, слабая, сердце сдает…
– Бедная зверюшка, как бы ей помочь, – донеслось из-за завесы волос, – что бы такое сделать для нее…
Сузанна собрала суповые тарелки и молча вышла на кухню. Эрика тихонько захихикала, но Павел поднял голову, лишь услышав ее разозленный голос:
– Опять макароны? Ты что, откармливать меня взялась этой пакостью?
– Не нравится – не ешь. – Сузанна глотнула слюну, Павел понял, что она решила ни в коем случае не дать вывести себя из терпения.
– Должна же я что-то есть. Может, будешь все-таки любезна принять к сведению, что я не намерена круглосуточно кормиться макаронами.
– Во-первых, мы едим не только макароны, во-вторых, ты прекрасно знаешь, что у меня нет времени бегать за продуктами, а няня больна. Купишь мясо – будем есть мясо.
– Для этих мерзких зверюшек ты как-то умудряешься фарш добывать. За ним тоже, между прочим, надо сбегать. Для них, по-твоему, стоит, а для меня – нет.
– Да ведь они, в отличие от тебя, не впиваются в меня когтями! – взорвалась вдруг Сузанна.
И, помолчав, добавила:
– Прости, пожалуйста, Павел. Догадываюсь, что ты не приучен к подобным сценам.
Павел что-то пробурчал себе под нос. Да, Маня в такой атмосфере, пожалуй, и получаса не выдержала бы. Впрочем, он тоже с трудом выдерживал. Пил чай – в полной уже тишине – и прикидывал, что по меньшей мере четыре дня ему все же придется еще пробыть во Вроцлаве.
* * *
Кушетка была удобная, но свет уличного фонаря бил ему прямо в глаза. Павел вертелся, пытался лечь и так и сяк, чтобы оконная рама заслоняла фонарь, но это не удавалось, фонарь вылезал то с одной, то с другой стороны. Разнервничавшись, он встал, отодвинул кушетку и поставил ее перпендикулярно к стене. Свет больше не мешал, но спать уже не очень хотелось. Он закрыл глаза; сперва возникли грязно-зеленого цвета занавески в комнате Эрики, все в безобразных треугольниках и квадратиках, потом они сменились цветными, словно бы точечными узорами. Это была любимая его игра. Особенно здорово получается, когда смотришь на яркий, разящий свет. Мириады точечек роятся, пробиваются куда-то в глубь мозга, меняют цвет, копошатся, клубятся и постепенно уступают место каким-то неясным образам. Озеро, тростник, спина Альки. Она сидит перед ним в каяке и ожесточенно машет веслом. Вот Алька оборачивается, и Павел видит ее лицо, но словно бы стертое, отраженное в воде, неживое. Он делает усилие, чтобы уловить истинное выражение Алькиного лица, и тогда вдруг весь кругозор заполняют большие серые глаза Эрики, они ширятся, ширятся… Тут раздался резкий звонок.
Павел зажег свет, взглянул на часы: пол-одиннадцатого.
Сузанна не преувеличивала: даже ночью нет ей покоя, верно, придется бежать сейчас к четвероногому пациенту.
Он услышал ее шаги – часу не прошло, как она вернулась домой, едва успела небось раздеться и лечь, – а потом мужской голос:
– Доктор Чубовская здесь живет?
– Да, слушаю вас. – Голос у Сузанны был явно сонный. – Случилось что-нибудь? Несчастный случай?
– Несчастный случай? Да, пожалуй, что и так. Я – отец Адася.
– Адася? Простите, не понимаю.
– Вы, доктор, не пытайтесь, пожалуйста, скрыть это дело. Я всыпал ему по первое число, век будет помнить, – и сопляк во всем признался.
– Простите, но тут какая-то ошибка, я в самом деле не знаю никакого Адася и понятия не имею, о чем вы говорите; прошу вас, покороче, пожалуйста, я с шести утра на ногах, просто засыпаю на ходу.
– Вы что, шутите? Не знаете, что дома у вас творится? Да ведь мой мальчишка четыре дня тут прожил.
– Какой еще мальчишка? В моем доме? Право же, это какое-то недоразумение. У меня гость сейчас, но он из Варшавы, а больше никто тут не живет.
– А дочь Эрика есть у вас?
После минутной паузы Павел услышал голос Сузанны, теперь не столь уж уверенный:
– Есть. Но что она…
– Ну так нечего мне очки втирать. Из-за доченьки вашей вся детвора распустилась. Она в школу не ходит, а они что – хуже, что ли? Им-то зачем контрольная, если у Эрики можно спрятаться? Как что, прямиком к ней. Знают, что здесь всегда укрыться можно, вот и прогуливают почем зря. Соседа моего дочка в мае тут два дня пробыла, а сын мой целых четыре дня на чердаке околачивался.
Пришедший явно колебался между уважением к доктору и возмущением Сузанной как матерью Эрики.
– С позволения сказать, никак в толк не возьму, как это вы ничего не знали? Ведь этот притончик в прошлом году уже был, а тут после каникул опять открылся. Эрика и одеяла им даст, и хлеба, и в карты поиграет; Эрика то, Эрика се, чего им бояться? Как у Христа за пазухой!
– Не верится просто.
– А вы, доктор, волоките сюда свою ягодку, поговорим по душам-то, оно все и выйдет на чистую воду. Я лупить мастак, ни один отец не сумел из отпрыска своего выбить, где они прячутся, а я вот выбил. Она им подсобляет, а они за нее – горой. Эрику пальцем не тронь. Ишь вождя себе нашли. И так-то уж дети нынче бездельники, лодыри стали, распустились вконец. И то сказать, строй-то наш все для них делает, учителя их боятся, где уж тут требовать! А уж если такие вот сопляки – один да другой – знают, что им и укрыться есть где… Они ж паразиты, такое для них – находка. Простите великодушно, что заставил вас волноваться… Всем известно, как вы работаете, но надо ж конец этому положить.
– Понять не могу, зачем ей понадобилось?
– Исключительно для деморализации. Она не учится, почему же другие должны учиться? Да что там говорить! Простите, доктор, что я вас ночью разбудил, но у меня аж в глазах потемнело от ярости…
– Ухожу я рано, возвращаюсь к ночи. И сказать по правде, не очень-то знаю, что у меня дома творится. Мне очень неприятно… Но теперь уж я этим займусь. Уверяю вас, ничего подобного больше не повторится.
Хлопанье двери, шаги возвращающейся в комнату Сузанны. Движимый каким-то внутренним чутьем, Павел приоткрыл дверь, Сузанна остановилась. Лицо ее выражало уныние и отчаяние.
– Ну, что скажешь?
– Хочу попросить вас. Не говорите об этом с Эрикой. Предоставьте это мне, ладно?
– Тебе? А что ты хочешь делать?
– Пока еще не знаю. Постараюсь как-то с ней договориться.
Она взглянула на него.
– Может, и вправду попробуешь, – неуверенно сказала она. – Признаться, я вообще не знаю, как к этому приступить. Возмутиться, запретить… Все это выеденного яйца не стоит, раз я не в состоянии принять меры. Интересно, знала ли об этом няня? Должно быть, знала, иначе как бы она могла…
– Да не все ли равно – знала, не знала? Главное, как-то договориться с Эрикой.
Сузанна провела рукой по лбу беспомощным, так не свойственным ей жестом.
– Знаю, Павел. Только я в это не верю. У меня нет больше сил. Я ничем не могу ей помочь.
Минуту они стояли в молчании.
Наконец, натянуто улыбаясь, Сузанна сказала:
– К тому же он разбудил меня в тот самый момент, когда начало действовать снотворное. Я редко его принимаю, но сегодня настолько была измотана, что иначе ни в какую бы не заснула. Голова кружится, подташнивает. К чему все эти разговоры? Бессмыслица. Делай что хочешь, благословляю тебя. – И минуту спустя: – Спокойной ночи, Павел.
«Не могу ей помочь». Что же будет с Эрикой? Кто ею займется? Неужели Сузанна не понимает, что стремление верховодить детьми вызвано потребностью самоутверждения, потребностью увидеть хоть в чьих-то глазах восхищение собой, поклонение, доверие, которых ей так недостает…
В соседнем дворе залаяла собака, сперва коротко, потом протяжно, это было похоже на вой, он слился со скрежетом тормозов далекого ночного трамвая. Окончательно разбуженный, Павел лежал, сплетя руки под головой. Он был немного голоден, но не хотел шебуршиться в уснувшем доме. Вспомнился вдруг «Ночной ковбой», фильм, который казался ему апофеозом веры в человека, апофеозом дружбы. Мелодия из этого фильма словно бы наплывала и тут же откатывалась. Как – пока неясно, но он попытается поговорить с Эрикой, помочь ей. Порой ему крайне важно было убедиться в том, что вера в человека – вовсе не признак наивности, а желание помочь ему – вовсе не ерунда. Именно такого рода мысли безжалостно высмеивала Алька. Сегодня, к примеру, она бы уж точно высказалась: «Ну, разумеется, только тебя тут и ждали. Враждующие мать и дочь страдают и мучаются в городе Вроцлаве, но тут является Павел… и все действующие лица спасены. Не стыдно, осел ты этакий, старый и глупый осел, за что ты берешься? Прекрати ты это раз навсегда и не суй свой нос куда не следует».
Нет, неправда, надо, наверняка надо, только удастся ли? Но как не попробовать, раз есть надежда! Полно, есть ли? Опять ушла эта мелодия, радость жизни звучит в ней наперекор всем печалям; всегда вот так, вспомнишь и тут же забудешь…
* * *
– Можно?
Он приоткрыл дверь. Она сидела на кушетке и монотонным движением, в котором ему «профессионально» что-то не понравилось, расчесывала щеткой свои длинные волосы. Мерзкие зеленые занавески опять были задернуты, дыма в комнате полным полно. Обычная, как видно, обстановка.
– Садись, – сказала она почти любезно. – Вон там сигареты, бери.
– Я пришел кое-что предложить тебе. Оденься и покажи мне, хоть немного, Вроцлав. Идет?
– Не идет.
– Разговор закончен?
– Закончен.
– А можно узнать, почему?
– Там ветер. Ненавижу ветер.
– Зато тут хоть топор вешай. Ну, напрягись, пошли на полчасика, свежим воздухом немного подышишь.
– Так о чем речь? О моем дыхании или о твоем Вроцлаве? Похоже, о моем дыхании. Пионер – всем ребятам пример. Ни дня без доброго поступка. Терпеть не могу, когда кто-то, упиваясь собственным благородством, вламывается в мою биографию.
– Это я-то вламываюсь в твою биографию? Да сиди ты тут хоть до скончания века! Я как-нибудь сам по Вроцлаву похожу. Авось не заблужусь. Привет.
– Погоди.
Он обернулся без улыбки, что, как видно, подействовало – она сказала примирительно:
– И нечего дуться.
В эту минуту дверь отворилась и вошла няня.
Вынула промасленный пакетик из кармана.
– Творожничка тебе принесла. Сама поешь и гостя угости.
Эрика приняла пакет без слова благодарности, няня повернулась и вышла.
– Не любишь ее?
Эрика пожала плечами.
– Да нет, почему? Плевать, в общем-то. Пьянчужка старая.
Он молча взглянул на Эрику. Пьянчужка? Это еще что? А Эрика – вопрос явно вертелся у нее на языке – вдруг выпалила:
– Вчерашний скандал слышал? – Детская гордость была в ее голосе.
– Я же не глухой. Тот тип на весь дом орал.
– А почему ничего не говоришь?
– Чего говорить-то? Захотелось тебе в вождя поиграть, в детстве это бывает.
– Когда?
– Теоретически в раннем детстве.
Видимо, он попал в самую точку: Эрика была задета за живое.
– Так вот, ошибаешься, никакая это не игра в вождя.
– В таком случае прости, но я и вправду не понимаю.
– Мне казалось… Просто я хотела им помочь.
– Пионерочка? Ни дня без доброго поступка?
Он говорил совсем не то, что хотел, но одно знал твердо: если Эрика сочтет его трепачом – все пропало.
– Так вот, если тебя интересует мое мнение…
– Нисколько, – буркнула она себе под нос, и Павел с радостью отметил, что в чем-то она совсем еще соплячка.
– Так вот, если тебя интересует… – начал он снова (молчание), – то ты скорей не помогла им, а навредила. Прогул – это ведь, знаешь, спорт, эмоция. А они что? Тоже мне подвиг – решиться на прогул, зная заранее, что пристанище тебе обеспечено. По-моему, отсутствие риска лишило затею всякого смысла. Какое же это бегство, если человек знает, что ему есть куда податься, что его накормят, спрячут, оставят ночевать? Разве что ты для себя это делала. Для забавы.
– Но они меня за это… – Она осеклась, но он мог бы поклясться, что в воздухе повисло иное слово, чем то, которое он услышал: – Они меня за это… уважали… Знаешь, как им нравится, что я сумела себя поставить, не захотела ходить в школу и не хожу.
– Тоже мне… Ребячество, игра в индейцев.
– Ты в самом деле так считаешь? – в голосе ее послышалось разочарование.
– Конечно, ты жаждешь популярности, поклонения… Признаться, я не очень-то понимаю, как можно радоваться поклонению таких сопляков. И за что! За то, что ты держишь их на чердаке в пустом доме. Согласись, няня-то ведь не в счет. Дешевка. У меня другое предложение… – Он прервал, абсолютно уверенный, что Эрика не спросит какое.
Она не спросила.
– Я приехал сюда на неделю…
– Кстати, зачем, собственно, ты приехал, старик?
– Скажу, когда буду уезжать, ладно?
– Почему, когда будешь уезжать?
– Так мне удобней. Ну вот, я приехал сюда на неделю и хочу предложить тебе одну игру.
– А именно?
Павел заколебался. Черт возьми, еще высмеет, чего доброго.
– Они называется… Ну, скажем… «Встречаются во мраке корабли…» Это слова из одного стихотворения… Плывут они с разных сторон, одни в огромном, пустом океане, а минуя друг друга во мраке, вдруг слышат свои позывные.
– Ишь поэт.
– Подают сигнал друг другу: «Не грусти. Ты не одинок. Я тут, близко».
– Ну и загнул… Я, мол, одинока, да? Мне нужны чьи-то сигналы? Спасибо за такую игру, ищи другого любителя.
«Быстрая. Сразу схватила суть», – обрадовался Павел и деловито закончил:
– Здесь нет никакого риска ни для тебя, ни для меня. Просто условимся. На неделю. Скажем, неделя дружбы. Понравится – продолжим, не понравится – разойдемся, как в море корабли. Сегодня среда. Во вторник вечером я уезжаю.
Вместо ответа Эрика взяла в руки альбом и на чистой его странице нарисовала множество волнистых параллельных линий.
– Твое море, – с усмешкой сказала она.
А потом, в самом уголке странички изобразила малюсенький кораблик с большим султаном дыма.
– Это я… – сказала она. – А ты… – Рука ее направилась в другой конец странички, но Павел схватил руку с карандашом и перенес поближе.
– На таком расстоянии ничего не слышно… Слишком далеко.
– Зато видно.
– Ты забываешь, что плывут они ночью.
А когда она, держа карандаш над страничкой, заколебалась, он сказал:
– Словом, предлагаю тебе кратковременную дружбу. Ну, по рукам?
– А если я не знаю, что ответить?
– Не знаешь? Наконец-то ты чего-то не знаешь! Браво, Эрика! Первая фраза без позы. А впрочем, неважно, что ты знаешь, а чего нет. Важно – хочешь ли?
– А если не сумею…
– Попробуем. Авось получится.
– Ладно уж. – Она протянула ему свою большую и не слишком чистую руку. – Попробуем.
Они немного посидели молча. Когда Павел собрался спуститься за сигаретами, Эрика, как бы невзначай, спросила:
– А как звали того поэта?
Его так и подмывало спросить «какого», иначе говоря, засчитать один-ноль в свою пользу, но это было бы свинством.
– Лонгфелло [1]1
Лонгфелло, Генри Уодсуорт (1807–1882) – крупнейший американский поэт, переводчик и литературовед.
[Закрыть], – сказал Павел.
– Он жив?
– Нет. Давно умер.
* * *
– Что это? Ты один? Почему в темноте? А Эрика?
Она подошла к штепселю, комнату залил свет. Павел протер глаза.
– Эрика? Нет ее. Кажется, в кино пошла.
– А на что? Ты, случайно, не знаешь? Есть фильмы, на которые она способна по пять раз ходить. Погоди, шить что-нибудь принесу, а то я заболеваю, когда сижу вот так, сложа руки.
Павел сразу это заметил. Полнейшая неспособность Сузанны позволить себе хотя бы минутную разрядку свидетельствовала о том, что нервы у нее на пределе. Через минуту она вернулась и, пояснив, что юбку свою решила подкоротить для помощницы – «У нее ноги очень красивые, а она вечно их в брюках прячет, просто жалко», – тотчас принялась за работу.
Павел с минуту смотрел на ее проворные пальцы, вспоминая большие, еще детские руки Эрики. «Интересно, какие у нее ноги? – подумал он. – Тоже ведь всегда прячет их в брюках».

– А ты, случаем, не знаешь, на что она пошла?
– Кажется, на «Love story» [2]2
«Любовная история» (англ.).
[Закрыть].
– Так я и думала. Если не ошибаюсь, восьмой раз.
– Стремится жить выдуманной жизнью.
– Ты так считаешь?
– Абсолютно не сомневаюсь. И обо всем этом хотел бы поговорить с вами.
Он видел, что у Сузанны не лежит душа к такому разговору, но твердо решил не отступаться.
– Слушаю тебя, – наконец сказала она.
Павел сел, положив ногу на ногу, закурил. С минуту он подыскивал слова, потом спокойно начал:
– То, что вы устали от Эрики, – ничуть не удивительно. Понятно и то, что вы не видите способа помочь ей.
– Ты же понимаешь, это от отчаяния. Просто не знаю, как к ней подступиться.
– Я тоже не знаю, но поскольку я человек, так сказать, посторонний, мне, пожалуй, это легче, чем вам. Ясно одно: с ней надо как молено больше говорить на самые разные темы. Дать ей выговориться. Это я и хочу сделать. Говорить о себе – разумеется, если чувствуешь хоть капельку доверия к собеседнику – само по себе уже терапия. Но мне нужна ваша помощь. Чтобы не промахнуться, чтобы с самого начала не оттолкнуть ее, я должен знать кое-какие подробности ее жизни. Вашей жизни. Вот об этом мне и хотелось поговорить с вами, ладно?
Сузанна взглянула на него.
– Ты думаешь, это что-то даст? Такое переливание из пустого в порожнее…
– Вовсе не переливание из пустого в порожнее. Это необходимо, поверьте мне.
Сузанна еще колебалась. Наконец сказала, заставив себя улыбнуться:
– Я столько наговорила уже разным психологам и психиатрам, а результат… – Она махнула рукой. – Ну, да ладно, бог с тобой.
Павел откашлялся и, не глядя на нее, прибавил:
– Заранее извиняюсь, мои вопросы, возможно, будут вам не очень приятны. Разрешите начать?
– Начинай. Только бы хоть как-то это пригодилось…
– Так вот, сперва вопрос, касающийся вас. Скажите, вы всегда были такой целеустремленной, энергичной?
Сузанна удивленно взглянула на него.
– Какое это имеет отношение к делу?
– Сам не знаю. Хочу как-то восстановить для себя картину детства Эрики. Какой была ее мать, отец. Кто ее воспитывал, вы или муж?
– Вместе. В то время мы так дружно, так согласно жили… Пожалуй, я была тогда не столь энергичная, более мягкая, что ли… Это уж потом жизнь заставила.
– А Эрика, кого из вас она больше любила?
– Пожалуй, Олека. Дочери обычно больше привязаны к отцам. Хотя не знаю… Ты спрашиваешь о времени, которое я уже и вспомнить не в силах, была тогда девочка с ямочками на щеках, толстенькая, с густыми темными кудряшками, ласковая, этакий образцово-показательный ребенок.
– А вы смогли бы установить, в какой именно момент она так резко переменилась? В момент вашего развода?
– Нет, перемены я заметила раньше. После ухода из дому бабы Толи.
– Это ваша мать?
– Мать моя умерла во время родов. Воспитывал меня отец. Баба Толя была моей кормилицей, а потом нянькой. Когда вспыхнула война, мне было три годика. Отца забрали немцы, и тогда Толя (это Эрика потом назвала ее «бабой Толей») забрала меня к себе в деревню; заботилась обо мне всю войну, одевала, кормила. Потом я уехала в школу учиться, но мы переписывались, я приезжала к ней, она на свадьбе моей была. Когда родилась Эрика, Олек захотел, чтобы к нам приехала няня, та самая, с которой ты здесь познакомился. Но няня тогда жила у его сестры, малышей там нянчила и приехать не смогла. Ну, я и написала Толе. Никогда не пойму, в чем тут дело, Толя ведь была сама деликатность, а Олек с первой же минуты почему-то невзлюбил ее. Он становился просто невыносимым, категорически требовал, чтобы я отослала Толю обратно в деревню. А Эрика с первой же минуты буквально влюбилась в нее. Мы оба с Олеком не принимались в расчет, существовала только Толя.