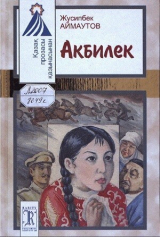
Текст книги "Акбилек"
Автор книги: Жусипбек Аймаутов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
Если в подлунном мире и существует настоящая мужская дружба, то она та, что связывала Бекболата и Акбергена. И намертво скрепляла ее одна страсть – охота, без нее, как без воздуха, жизнь немыслима; все отнимала охота: руку приложить к хозяйству недосуг, даже для любовных угех минутку было жаль; отец Бекболата так и называл их – «пара свихнувшихся». При всем при этом у них были совершенно разные характеры.
Случались обстоятельства, в которых Бекболат вдруг начинал проявлять неуместное упрямство, или терялся, или впадал в крайнюю раздражительность, Акберген никогда не терял разума, всегда разряжал нужным словом накалившуюся обстановку, умел, в общем, найти выход. И в затруднительных ситуациях Бекболат частенько прибегал к советам Акбергена. Жить бы ему спокойно да ладненько, но вот благодаря другу он все время попадал во всякие передряги, и Бекболат чувствовал свою вину. Акбергену же в голову не приходило уклониться от сваливающихся на него из-за Бекболата неприятностей, если я могу, считал он, выстоять, поднять, исхитриться во имя друга, то так, значит, и должно быть. Без Акбергена тот же азарт Бекболата уже сто раз сгубил бы его, но не будь Бекболата, кто тогда сам Акберген? Никто и ничто. Они дополняли друг друга, составляли одно целое, если это можно сказать о копыте и подкове.
«Где счет, там дружбы нет», – не раз услышите за дружеским застольем. Не верьте, всему есть свой счет. И друзей, не ведущих свой счет, мы не встречали. Просто список личной выгоды и потерь заполняется глубоко под кожей, и о нем не принято говорить. Если друзья уверяют, что не знают и знать не хотят, кто кому и чем действительно обязан, то, пожалуй, или оба очень хитры или оба – безнадежные кретины. Нет никакой вечной, ни к чему не обязывающей мужской дружбы. Потому как нет такого человека, кто готов был бы напрочь забыть о своих интере сах, если мы речь ведем не об упомянутых уже кретинах.
В городе Бекболат и Акберген только и успели перекинуться парой слов о здоровье да о житье-бытье родных, с вечера так и не получилось у них в доме у Толегена поговорить по душам. Вот только сейчас в седлах в степи завязался душевный разговор. О чем же Бекболат? Конечно же, об Акбилек. Но заговорил прежде все о тех же птицах. И все никак уразуметь не мог, как же так не уследили за беркутом… Наконец Акберген отрезал:
– Нам что, в те дни до птиц дело было, что ли?
Бекболат немедля согласился:
– Да, сумасшедшие были дни. Словно звезды от нас отвернулись… Вроде снег лег ровно, а глянь, там следы зайцев нечеткие… Кто бы мог подумать, что такое несчастье свалится на меня?
– Е, на все воля Бога… Она тоже несчастная, – ответил Акберген, угадывая мысли.
Что ты имеешь в виду, что значит «несчастная»? Оттого что попала в лапы русских, или что?.. – спросил, внимательно вглядываясь в лицо друга, Бекболат.
А как ее назвать по-другому? И так все ясно, люди говорят… Обесчещена.
Бекболат стал злиться и с раздражением заметил:
Да кому вообще удалось тоща чесгь-то свою сохранить? Так получилось.
Е, судьба. Кто бы мог подумать, что не видать ей платка невесты?..
Бекболат усмехнулся, понимая, к чему клонит друг.
Ты к чему это?
Да ни к чему, – улыбнулся Акберген.
Понятно: не решился сказать о том, что теперь и речи не может бьпь о женитьбе на Акбилек.
Что у тебя на уме? Мне сгьщигься нечего! – недовольно воскликнул Бекболат.
Лицо Акбергена застыло, морозно все-таки… С трудом, но твердо проговорил, еле шевеля губами:
– И не думал тебя стыдить. Сам знаешь, мне это ни к чему. Просто не знаю, что сказать…
Сам-то что думаешь? Ты прежде чем сердиться, объяснил бы мне, непонятливому… Что теперь нам делать? Даже представить себе не могла башка моя черная, что такое возможно на этом белом свете…
После такой тирады сердце Бекболата смягчилось. Обнял друга, хотел даже поцеловать, чего в жизни никогда не делал, да передумал.
Прежде – Бог, а затем ты, мой друг, ближе всех ко мне. Никогда ничего от тебя не утаивал. И сейчас не собираюсь. Кроме тебя мне и посоветоваться не с кем. Думаю я о ней… Мне бы об отце порасспросить тебя, о матери, а я об Акбилек… и не говорить о ней не могу, и говорить не рад. Да ты и сам видишь… Ладно, дела обстоят так…
И заговорил, начав чуть ли не с юношеских грез о прекрасной девушке; как, увидев Акбилек, сражен был наповал… целую поэму сочинил на ходу. А завершил ее так:
Что случилось, то случилось. Написано, что ли, на моем лбу, что я неудачник? Хотя… не знаю. Жениться все равно надо. А искать новую невесту, отца отправлять свататься… целая морока. На все воля божья, как бы там ни было, люди что хотят, то пусть и говорят, а я сам по себе… хочу на ней жениться, – и, вздохнув, замолк.
Пока Бекболат говорил, Акберген с понимающим видом кивал и поддакивал: «Е, е», мол, прав ты во всем. А когда замолчал, то принялся каяться и уверять, что с этой минуты с ним заодно. Но в отличие от Бекболата говорил не столь пространно и эмоционально, а с расстановкой. Подчеркнул:
Если ты так задумал, то что тут сказать против? Друг-то один, как говорят, врагов много… Вот их-то надо бы нам опасаться, надо нам подумать, все взвесить, вде отмолчаться, что кому сказать, подвести все так, чтобы верно все было… Твоя любовь – твой закон.
Закон, конечно, крепкое слово, но все равно Бекболат чувствовал, что он должен оправдываться даже перед самым близким другом:
– Как Бог распорядится… а мне остается ждать. Не моя вина в том, что случилось. Беда
как с неба упала. Кто от такой прикроется? Если говорить начистоту, много ли в той округе женщин, которых русские солдаты не потискали? Целые армии прошли: белая, красная, черная… Но что-то я не слышал, чтобы кто-то из них заявлял себя порченой бабой. И в нетронутом гнезде найдешь расколотое яйцо. Земля и та трескается… А сегодня все, чем мы дорожили, изуродовано клинком, – показалось, что тут-то он уж окончательно уложил друга своими аргументами на обе лопатки.
«Че сть изуродованного», – подумал Акберген, но спорить дальше не стал.
– И все же, что скажут люди? А наши дома как на это посмотрят?
– Люди уже сказали, нечего им больше добавить. А у меня лишнего уха нет выслушивать все, о чем болтают люди… Те, кто своих дочерей и сестренок сами не уберегли, наверное, рады слышать об Акбилек. Позлорадствуют чуток, ну и пусть им. Ну а те родичи, кто хоть чуть питает к нам сочувствие, не осудят меня пока. Со стороны же Акбилек тоже промолчат. И вообще, лучше жениться на Акбилек, чем на Бочке какой-нибудь.
Друзья рассмеялись. Была у них в ауле старая дева – бестолковая, крикливая, кривоногая, с вздутым животом. Взяли все же ее в жены, радуйся тихо да рожай детей, нет: разговора не было, чтобы кривоногая не заявляла, что вышла замуж непорочной девицей. Дразнили эту страшную, как смерть, женщину недоросли Бекболат и Акберген с каким-то бессмысленным остервенением, донельзя безжалостно.
Оставшийся путь до аула джигиты проговорили только о женщинах. Тема для молодых мужчин бесконечная. Наших двух героев она неспособна утомить, особенно когда речь у них зашла о леших в общении особах. Нам же она, признаться, уже скучна. Так что не станем дальше ее развивать.
Джигиты треплются, гогочут до слез, довольны.
У Бекболата чуть легче стало на сердце.
Балташ вошел в кабинет.
Накрытый красным полотном стол. Чернильница из серого пятнистого камня, стаканчик для ручек, подсвечник, скрепки. Обитое бархатом кресло. Мебель полированная. Стол – хоть шатер на нем раскрывай. Справа – портрет Ленина, слева – Сталина. На столе телефон. Протянул руку – электрическая кнопка. Нажал пальчиком, по звонку бежит, склонив голову, секретарь.
Вот в какой кабинет вошел Балташ.
И кресло, и стол так ладно приставлены, не хуже запряженной коляски: «Садись и жги!».
Балташ с хлопком установил портфель на стол, разгладил щеки ладонью и, сев в податливое кре сло, откинулся на спинку. Сдвинул пиджачный рукав с пуговичками и посмотрел на часы. Де сятый час. Придвинул к себе лежавшую на левом краю стопочку бумаг и принялся последовательно стричь по ним пером, как стригут баранов. На одном листке выносит резолюцию под углом: «Рассмотреть», на другом: «Проверить», на третьем: «По ставить на совещание», на следующем: «Нет финансирования», не забывая и такие решения, как «Заслушать», «Вернуться к вопросу». Постучали в дверь.
– Можно?
Просившийся – заведующий финотделом, уездный финансист Штейн. Присел и принялся водить руками, как фокусник, в которых то появлялись, то исчезали бумаги. Как так случалось – непонятно, но, не соглашавшийся с ним по всем вопросам, Балташ, в конце концов, расписывался: «Не возражаю», а случалось, ставил свою подпись, едва успев произнести: «А?..». Балташ по финансовой части не мастак. Ну не доходит до него смысл странных слов: «бюджет», «дебиг-кредиг», «квартальный план». Как ответственный работник он опасался допустить какую-то служебную оплошность, но всегда вылезет бумажка, в которую она могла прокрасться, а как, каким образом – представить себе не мог. Однако и оспаривать доводы таких
специалистов с фамилией, оканчивающейся на «…штейн», он не осмеливался. Ловки. И тут вроде никаких зацепок. Намедни он попытался проанализировать сам какой-то счет, и так раскладывал и этак. Сразу в глаза бросались фальшивые цифры, но Штейн как начал трещать да пересчитывать, что вышло ровно наоборот, все колонки цифр сошлись, у такого счетовода «дебиг-кредиг» всегда сойдется.
Как только Штейн вышел из кабинета, Балташ почесал в затылке и произнес:
– Черт знает, всегда найдут какую-нибудь причину, сволочи, чтоб деньги заполучить.
Начался прием. Одному просителю он неохотно позволял подать руку, перед другим вставал твердо на каблуках, затем с достоинством садился вновь, кому-то подписывал бумажку, кому-то отказывал сурово.
В какой-то момент в кабинет заскочил Тыпан и, склонив, как джейран, лоб, обстоятельно пожал своей холеной мягкой ладонью Комиссарову руку с преданной любовью.
– Как здравствуешь? – и осторожно улыбнулся.
Все-таки со вчерашнего вечера тянулась некая неопределенность и с утра принялась его бе спокоить: может быть, под влиянием спиртных паров сказал что-то лишнее, не так повел себя… Оттого и крутился мелким угодливым бесом. Не преминул на всякий случай озадачить:
– Сегодня у вас доклад, – и протянул несколько листков бумаги.
В Балташе все рухнуло до прямой кишки. Вы думаете, испугался? Или оттого что сам знал неважную оценку тому, что наработал? Нет. Он не раз делал доклады без всякого ущерба для своего кресла, да важные персоны стояли за ним. Просто любой доклад вызывал в нашем видном служащем должностной трепет. И не знать его заднице покоя, пока он не выступит, не отстреляется, не отобьется. Сделать доклад на совещании – это, я вам скажу, не легче, чем пройти по тонкому волосу моста из преисподней в рай.
Балташ велит:
Подготовьте все материалы в должном порядке.
Будет исполнено, – кивнул и вышел.
Кажется, дело поставлено на свои рельсы, но пред окладный хаос тревожит нутро Балташа, вздымается к горлу, просит трибуну. Лицо Балташа суровеет. Таким его и застал, войдя в кабинет, курносый пучеглазый парень. С ходу:
Как поживаете, товарищ? – и протянул руку над столом.
Рожа и развязность, с которой была протянута рука этого степного казаха, не понравились охваченному служебной тревогой комиссару. Балташ, глядя мимо него, произнес:
– М-м-м…
Вошедший оказался Мукашем.
Балташ знал причину появления Мукаша. Каким бы ни был замечательным человеком проситель, но то, что он проситель, уже не вызывает к нему больших симпатий. К тому же вчера Акбала ясно дал понять, что с такими, как Мукаш, предстоит еще разбираться и разбираться. Посему Балташ не предложил ему присесть, но и не выгнал сразу. Мукаш имел наглость сам подойди к столу и сесть на стул. Балташ чиркнул по нему взглядом. Грудь Мукаша – колесом, глаза буквально едят начальство: вот я весь, готов к борьбе за власть Советов. За этим видом последовало закономерное требование:
Давай, товарищ! Какое решение приняли по мне?
По глазам видно – знал уже, что члены бюро не возражали против предоставления ему
новой должности.
Что тебе? Где хочешь служить?
Как, где служить? Служить можно только на благо народа.
Хочешь работать среди аульных масс или в городе?
Для города у меня образования маловато. Правильно будет среди аульного народа.
А в среде народа кем?
По нынешним временам каждый желает быть волостным. Мы тоже желаем быть на такой должности.
Э-э, значит, хочешь стать волостным?
А почему мне им не быть, если мне по плечу? Раньше волостными были все баи… Нынче наша власть, нам и быть волостными, – и заулыбался.
Не нравятся Балташу ни его слова, ни его самоуверенность. Спрашивает:
Ты с какой целью вступил в партию?
Этот вопрос представился Мукашу явной попыткой отделаться от него. На его лице обозначилось выражение: «Ты с какой горы свалился, меня проверять?», но язык помягче ворочается:
– А какая могла быть цель? Вступили, чтобы защищать бедных и выдвигать их на службу,
отнять скот у богатых и раздать его бедным. Мы – угнетенные. Были и батраками. Таскали на шее ярмо, горбатились на богатых. Разве не наступил сегодня наш день? – и выпучил глаза.
Балташ подумал: «А прав был Дога, этой сволочи лишь бы хапнуть, не важно, ще и у кого». Так уж устроена его природа. Сидит Балташ в своем кресле и взвешивает ситуацию: то добавит гирьку партийных принципов, то убавит. Что-то не уравновешивалось, пришлось поразмышлять вслух, вдруг проговорится, сволочь, и сам решит свою судьбу:
– Если бы партия заранее знала о твоих целях, то на дух тебя бы не подпустила к массам… Многих ты обидел… – стушуется или нет?
Однако Мукаш, известно, не из пугливых. Дерзко так, вставая, спрашивает:
– Выходит, для меня должности нет?
Балташ предложил:
– Милиционером будешь?
Мукаш покачал головой:
– Не буду.
Каков наглец!
– Не будешь, так пошел отсюда, – и отмахнулся от него рукой.
– Посмотрим! – хлопнул дверью Мукаш.
Вышел, выматерил Балташа, вскочил в седло и направил лошадь к зданию партийного бюро. В знакомом здании он направился к товарищу Иванову, к худому старому партийцу. Перед дверью товарища Иванова маялись несколько человек. Мукаш сразу за ручку двери, но тут его потянул за плечо и сдвинул назад русский с детским личиком: «По очереди». Делать нечего, сложил камчу, руки за спину, и, уставившись в стену, принялся терпеливо ждать. Перед ним какой-то одетый по-татарски учитель. Откуда же учителю знать, что перед ним стоит будущий волостной! Лезет с вопросом:
– Товарищ, ты с каких мест?
– Чего тебе? – вздернул подбородок Мукаш.
– Просто подумал, если из Торбагатая, то могли бы вернуться вместе. Я там учителем…
Мукаш посчитал лишним отвечать, лишь щелкнул языком о нёбо и отрицательно покачал головой.
Все-таки учигелишка прошел перед ним. Но вот наступила и его очередь. Бодро вошел в кабинет.
– Мукашка! – воскликнул Иванов и пожал ему руку.
Мукаш, размахивая камчой, принялся, как мог, излагать историю о том, как ему не дали должность:
– Разве Советская власть, как говорили, не за бедных? Если за бедность, то я и есть самый бедный из бедных. Да кто больше меня боролся за Советскую власть? А этот что из себя строит? Чего нос задирает этот Балташ? Что от того, что учился, не имеет права меня так посылать. Он меня не назначил, найдется такой, кто назначит!
– А он что?
– И слышать не хочет. Какой-то буржуй, видать.
Как буржуй? – воскликнул Иванов, потянулся за телефонной трубкой и запросил у коммутатора товарища Балташа.
Мукаш стоит и слушает.
«Какой материал?.. Бросьте, бросьте… знаю… пустые слова… оставь, пожалуйста, так не годится…»
Слушает, но не понимает, ще надо о ставить и для чего не годится. И все же по недовольному выражению лица Иванова, по его же стам видел, что секретарь за него.
Иванов со стуком навесил трубку на телефонный аппарат и произнес:
Жди. Завтра рассмотрим на совещании. Волостным в Сартау быть тебе.
Мукаш не к месту сказал: «пожалыста», крепко пожал руку и, опасаясь, что слишком пережал Иванову косточки кисти, вышел наружу.
На улице он встретил своего давнего знакомого, побывавшего и агентом, и милиционером, и инструктором. По-русски толкует получше Мукаша, шустрый парень. Разговорились:
Поздравляю! Стал волостным!
Это кто сказал?
– Сартауские ребята говорят.
– Еще нет.
– Ойбай! Если так – знай, есть люди, которые за тебя горой, спрашивают про тебя.
–Кто?
Приятель увлек как-то сразу размякшего Мукаша в больничный двор к Блестящему. Больничный арестант, давненько дожидавшийся Мукаша, обнял его и принялся скороговоркой льстить ему да костерить всех его врагов, прежде всего Абена Матайина:
– Ты на меньшее, чем должность волостного, не соглашайся! Что бы там ни было, все равно мы тебя поставим в Сартау волостным. Ты только врежь по байскому главарю, этому Абену! Нужен будет толковый совет, так ты не думай – меня спроси! Мы с тобой, да мы все для тебя!
Блестящий, по причине своей «болезни» не имевший права выходить за пределы больницы, велел бывшему инструктору: «Прими товарища Мукаша как гостя у себя, выполняй все, о чем он ни попросит». Тот отвел Мукаша в дом своего знакомого на городской окраине, велел сварить мясо для гостя, напоил самогоном и коня не забыл накормить. Сунута была Мукашу в карман и «мягонькая», и нашлась для него податливая бабенка. Мукаш тянет к ней губы. Мукаш доволен, он уже волостной! И давай бахвалиться и планы строить! Товарищ Иванов у него на побегушках, весь скот бая Абена перегонит на городские мясные базары – мешками деньги складывать будет, потому что власть!
На следующий день снова к Иванову.
Иванов совсем не тот, не стал его приветливо, как вчера, величать: «Мукашка!», и руку не пожал, а холодно поздоровался и спросил:
– Кем хочешь работать?
Мукаш растерянно повторил свою просьбу.
Иванов покачал головой:
– Агентом станешь?
Мукаш агентом быть не желает. Еще бы, ведь со вчерашнего дня никто его, кроме как господин-товарищ волостной, не называл.
Иванов сухо то ли прокашлял, то ли произнес:
Если так, то возвращайся домой. Понадобишься – вызовем.
Мукаш и не помнит, как оказался на улице.
А случилось вот что: Балташ немедля переговорил с Толегеном, тот встретился с Догой и Тыпаном. Нашли своего человека в ЧеКа и направили одного из топтунов вести наблюдение за Мукашем. Тот все скрупулезно отразил в отчете: куца ходил Мукаш, с кем встречался, о чем говорил, у кого гостил, с кем пил, с кем спал. И с утра этот отчет ЧеКа попал на стол Иванова, и тому было отчего оторопеть. Ни о каком вопросе Мукаша на бюро партии и речи быть не могло, осталось только согласиться с предложением проверить прежнюю службу Мукаша. Товарищ Иванов покашлял и подумал: «Черт с ним! Не стоило лезть в эти их казахские дела».
Ошарашенный Мукаш поспешил к Блестящему и изложил ему все свои неприятности. Узнав мнение Иванова, тот не стал, как вчера, суетиться вокруг несостоявшегося волостного. Только утешил:
Здесь действует одна родовая банда. Ты пока иди по своим делам, ще ты наследил, прикроем.
Мукаш проболтался в городе еще пару деньков, пытался сунуться то в одну контору, то в
другую – ничего путного из этого не получилось, пришлось несолоно хлебавши возвращаться восвояси.
Часть третья. ТОСКА
Ну вот, прошло дней пять, как Акбилек вернулась домой. Все, чем была она занята: встречала под черным платком женщин, являвшихся к ней с сочувствиями, рыданиями, горе стными вздохами и охами, слезами, льющимися, как вода из кумгана, ею же наклоняемым над руками все тех же соседок. Накроет скатерть, угощает, сама скорчится, разве что кусочек лепешки съест, бесцельно кружит по степи и снова часами сидит в сторонке от всех с низко
опущенной головой.
Все иначе, чем было прежде.
Моего Чубарого далекий след,
Мамы-душеньки шелк-амулет.
Разошлись мы с ней навсегда,
Радость скрылась на сотню лет.
Перед дверью открылся ров,
Лишь гуси там найдут свой кров.
Маму-душеньку я потеряла,
Тоской полна, сижу без слов
Таким плачам научили тетеньки добрые, люди придут, надо собраться с духом, попечальней поплакать, понадрывней. Как велели тетушки, так Акбилек и поступала. На самом деле строчки «Моего Чубарого далекий след…», «Перед дверью открылся ров…» представлялись ей нелепыми, даже пустыми, лишенными смысла. Но плача и плача, она заметила, как между тоской, угнез-дившейся в ее сердце, и этими бессмысленными словами стал потихоньку протягиваться мостик.
Вначале удивлялась: «Святые, ау! И как бабы плачут такие плачи, когда сердце так и стрянет в горле?»
С той минуты, как она увидела дядюшку Амира, а затем и отца, женщин аула, она словно онемела, связать и двух слов не может, все пряталась по углам. Через пару дней научилась все же у тетушек траурным песнопениям, царапала свое лицо и не бегала от всех. Прежнее поведение представилось ей уже ребячеством, несуразной глупостью. Правда, мысленно успокаивала себя: «Разве непонятно было людям в тот первый день, как я по-настоящему сгорала от стыда, ведь не сдуру же пряталась от каждого лучика света, молчала, как немая?»
Как только она вошла в аул, бабы подхватили ее под мышки и, падающую, потащили к отцу. Цеплялись, рвали, тянули каждая к себе, словно в козлодрании, и она, трепыхаясь, как птенчик, в цепких руках тех, кого когда-то даже не замечала, обессилела, чуть с ума не сошла. И кричат со всех сторон: «Дорогая, ай!», «Светик наш, ай!», «Слезинка ты моя!», «Зоренька наша!», «Любимица-душа моя!», душат в объятиях, гладят, орут в лицо одно и то же; мыли личико ее, крепко перехватив за тоненькую шею, руки чуть ли не вывернув, кормить принялись: «Ешь, кушай, дорогая!» – и висели над ней, сами почти падая в обморок, жалели, ухаживали. Неужели нет среди них таких, кто, скрепя сердце, позволил ей, постыдно вымолившей себе жизнь, ступить начистую землю родных отрогов? Напрасно она, напрасно выжила, ведь кто она теперь, если не облизанная псом посудинка, ясно самой себе: падшая и телом, и душой…
Как она сейчас своими грешно исцелованными губами прикоснется к святому лицу своего отца? Гнева Божьего не страшась, войдет в благословенный, как мечеть, отчий дом? Ножками, тисканными неверным, пройдет по полу, на котором расстилают молитвенный коврик? Как протянет за столом обслюнявленные поцелуями руки свои, обнимавшие кафира, к семейному блюду?
Что ж ты об этом раньше не думала! Стоило вспомнить! Предала порхавшую душу свою, святые, ау! Что теперь думают обо мне? Поздно, да разве найдется хотя бы один человечек, кто верил, что я вернусь все такой же чистой, как прежде? Никто и не задумается, что им моя душа, а подумают, лишь увидев: «Да это та… девка, что побывала под толпою русских!» А может, и в лицо отцу моему такое бросят!..
Но как бы там ни было, Акбилек доверилась всему доброму, что творилось вокруг нее, всех ощущала родными: меня жалеют, меня еще любят. Но вот в ауле, так душевно принявшем, отзвучали последние: «Дорогая!», «Светик наш!», расплескавшееся перед ней море тоски вроде как отступило, тягостные мысли, мучившие ее и колотившиеся в висках в час приближения к аулу: мерзкая, грязная, сучка последняя… вроде как покрылись пеплом, стали забываться. «Зря я нагнала в голову столько черного тумана, зря думала, что станут брезговать мною люди,
презирать, укорять… Я осталась все той же доченькой…» – и успокоилась.
День идет за днем.
Все – шорох листьев, плеск воды, храп верблюдицы – убаюкивают Акбилек, укачивают, словно укрывают покрывалом и сворачивают тоску… где-то рядом звучит поминальная молитва по давно умершему соседу, достойному человеку: «…оллаху ягду… во имя Аллаха… мы рабы Аллаха…», неся и ей успокоение. Двужильна женская натура. Но все равно нечто тяжелое пластует душу, напластовывается, напластовывается…
Жизнь течет, благословлявших спасшуюся доченьку поубавилось. Меньше стали готовить. А раз так, поменьше стали заглядывать в дом и соседские бабы. Не отходила от Акбилек только любившая ее тетушка Уркия. Именно она после гибели матери Акбилек управляла домашним хозяйством. За всем уследит, везде успеет. И за детьми присматривает.
Спрашиваете: какие дети? Надо же, о них и не упомянули, ау. У Акбилек были ведь еще двенадцатилетний братишка Кажекен и семилетняя сестренка Сара. Акбилек, признаться, стала больше горевать не о своем горюшке, а о том, что они остались сиротами. Кажекен любитель поиграть, вечно носится где-то с мальчишками. А душенька Сара, на диво красивенькая, как прилипла к Акбилек, сядет рядом с ней с растрепанными волосами, так и сидит, не шелохнется. Ей, бедненькая, ай! Несутся очередные женские стенания – Кажекен в дверь не войдет. А Сара, стоит Акбилек зарыдать, тут же плачет вместе с ней. Кажекен оставался прежним недорослем-непоседой, а Сара притихла, похудела. Чуть станет легче на душе, Акбилек старается выстирать все платья сестренки, подлатать, оторванные пуговицы пришить; голову ей вымоет, устроит ее на свои колени и расчесывает частым гребешком, выглядывая вшей.
Отец и прежде был не склонен к долгим разговорам, теперь же замолк совсем. Разве что спросит работника: «Верблюды вернулись?» или кратко распорядится: «Тог тюк в дом». Иногда подзовет Кажекена, усадит его на лошадь и велит пригнать телят. С вернувшейся Акбилек так и не заговорил ни разу. Вначале избегал даже смотреть в ее сторону. Прежде только стоит дочери отойти, тут же беспокоился: «А где Акбилек?» Подзовет ее к себе и что-то спросит, а если вовсе не о чем было говорить, просит помочь матери. Иногда Акбилек позволяла себе не слышать, что ей велели, а садилась рядышком с отцом. А он поцелует ее лоб: «Дорогая, укутай поясницу, пуговичку застегни, кругом сквозняки», – и больше ему ничего не надо, сидит довольный.
Ни слова ласкового, ни взгляда, ничего не осталось. Акбилек оправдывала его про себя: «Тоскует по маме… Чужие в доме, вот он и молчит…» – но что от этого, все равно молчание отца и обижало, и огорчало ее. Стало казаться, что он нарочно избегает ее, и ее присутствие с ним в одной комнате тяготит его, словно между ними протянулась змея. Нет брода к нему, не протиснуться в спрятавшую его нору. Оставалось лишь ждать: когда сердце отца оттает, когда он снова улыбнется, когда промолвит хоть словечко… Сидит и без всякой надежды ловит черными глазами взгляд отца. И кажется ей: стоит ему лишь взглянуть на нее, то и то ска исчезнет, и счас-тливей она туг же станет. Но даже лицом к ней не обернется.
Тоска.
И на степном бугорке нет спасения от тоски, выйдет с Сарой, прижмет ее к себе, а слезы так и катятся бусинками. Сестренка не понимает, отчего так Акбилек заливается, смотрит на нее с испугом: «Перестань… перестань». Акбилек соберется с духом, вытрет слезы, погладит сестренку по головке. Постоит так, и снова дождь слез.
Тоска Акбилек все разрастается. Разбухла настолько, что уже не вмещается в ней. К кому обратиться? С кем поделиться? А кто есть? Разве что знавшая ее с детства тетушка Уркия.
Уркия – жена Амира, племянника Мамырбая. Амир считался глубоко верующим человеком, слыл тихоней. Уркия замужем за ним десятый год, а самой двадцать семь лет. Замечательная женщина, вот разве что не дал ей Бог своих детишек. Мать Акбилек доверяла только ей детей, когда отъезжала, скажем, погостить в дальний аул.
Кто же, как не тетушка Уркия, самая любимая после мамы, вспомнит об Акбилек? Идет, ищет ее. Однажды, найдя ее под голой сопкой, присела рядом: «Ну что?» И рассказала Акбилек ей о своей обиде. Та выслушала ее и сказала:
– Дорогая, ничего такого я не видела, как можно тебя не любить?.. И он любит. По-своему.
Сказала, но догадывалась, что стал к дочери аксакал относиться прохладнее. Понимала: ничем ей не утешить Акбилек, и, опустив голову, принялась скручивать росшую рядом траву. Задумалась, не зная, сказать ли Акбилек о своей догадке или нет. Акбилек ее опередила:
– Я же замечаю. Увидит меня и сторонится. Словно от чужого человека. Почему ты не видишь? Ты, конечно, видишь. Вчера мы с Сарой тихо так сидели, он зашел, увидел нас и тут же вышел. И ты тут сразу вошла. Ты знаешь, но не говоришь мне. Боишься меня огорчить… Ты думаешь, я ничего не понимаю?.. Ты единственная, с кем я еще могу поговорить. Неужели и ты пере станешь быть со мной откровенной? – произнесла Акбилек и заплакала.
А вместе с ней заплакала и Уркия. Говорит сквозь слезы:
– Сердечко мое, ау! С каким лицом стала бы я от тебя что-то скрывать… Если я что и вижу, то, правда, боюсь тебя огорчить… Ой, ай! Что мне делать!.. Да что же это такое, милая!.. Кто знает, что у таких больших людей, как он, в голове?.. Милая, ау! Пойми и его. Ты думаешь,
он не понимает, почему людей так и тянет в ваш дом? Кто ни придет, так таращат зенки свои на тебя: «Какая она теперь, после русских? Изменилась? Или нет? Интересно, интересно… как там у русских делается?» – сглотнула слезы. – Как уставятся на тебя, так у меня в груди все так и жжет… А что у него в груди творится, представляешь? Говорит,
осуждает, а у самой Уркии такие же вопросы так и крутятся в голове: «Что они с тобой делали?» Так и подмывает спросить, да опасается, вдруг рот перекосится. Но прежде страха – так жаль бедняжку, нельзя, нельзя обижать ее, бедную, родную…
Акбилек изумилась, слезы тут же высохли в расширившихся глазах, словно прозвучало нечто совершенно фантастическое. Опять, как сельпо Карашатскому ущелью, пронеслись перед ней все прошедшие там дни.
– Никто не верил, что ты вернешься живой… Мы сами уже потеряли всякую надежду…
Думали, русские – что от них еще ожидать – убили да бросили тебя. Ведь я своими глазами видела, как они убивали тетушку. Но нет такого местечка, даже самого страшного, самого темного, где Бог не спасет, если решит спасти. Ты живи, теплится душа в теле, что еще надо…
По выражению лица Уркии Акбилек угадала, как той хочется услышать от нее всю историю от начала до конца, за что, за какие это достоинства русские сохранили ей жизнь. И хотя прежде Уркия ни о чем таком ее не расспрашивала, Акбилек сама готова была посвятить ее во все свои тайны, что было – то было. «Но что туг рассказывать? Если бы что-то хорошее случилось…» – и прятала в себе все свои воспоминания. Теперь решила, что пришло время выложить, все как было, и начала свой рассказ. Уркия внимательно слушала ее. Вскрикивала иногда пугливо: «Ой, святые, ай!» – еще бы, только представь дуло, направленное на тебя, волков, пощелкивающих клыками… Когда Акбилек закончила свое повествование, покачала головой и проговорила жалостливо:
– Милая, ай! Милая! Что только ты ни перенесла…
Акбилек потребовала поклясться не пересказывать








