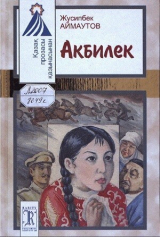
Текст книги "Акбилек"
Автор книги: Жусипбек Аймаутов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
Ветерок колышет завесу на ее лице, но не смеет сдернуть вовсе, о! это среди девушек и неве сток ступает сама Акбилек с блестящими глазами. Мир с нетерпением ждет начала… гул, голоса…
Ее вводят в юрту молодоженов, наполненную ее приданым: коврами, сундуками, посудой, кипами одеял. Все так же скрываемая завесой, Акбилек присаживается в окружение подружек. Входят пожилые женщины: «Желаем взглянуть на невесту». Раздается чей-то властный глас: «Открой лицо!» – и одна из девушек поднимает завесу перед вставшей Акбилек. Акбилек – как лик луны, как солнца свет. Женщины восхищены. «Удачи тебе, милая! Садись, светик!» – и Акбилек, шурша шелковым подолом, вновь садится.
Свадьба завершилась. Люди расходятся. Акбилек в юрте новобрачных… Она – невестка. На ней головной убор юной жены, одета в легкое одеяние. Сидит у деревянной кровати и кроит белыми пальчиками белоснежную рубашку мужу. Рядом возлежит Бекболат и перебирает струны домбры. Звучит мелодия прекрасного кюя, она волнует, и Акбилек, улыбаясь, горячим взором всматривается в лицо супруга, мысленно восклицая: «Душа ты моя, ау!» Бекболат отвечает ей улыбкой и протягивает к ней руку. Теряясь, смущаясь, Акбилек близится к нему. Муж обхватывает ее плечи, целует в раскрытые губы, очень нежно в лебяжью шею. Они встречаются взглядами. Смотрят друг на друга, не насмотрятся…
Возможно, уже кипит утренний самовар в доме родителей, а в юрту молодоженов еще не заглядывало солнце, попытается Акбилек позволить солнечным зайчикам спрыгнуть на шелковую ширму, а супруг спешит уже снова обнять, заласкать, смешит – не отпускает. «Довольно, солнце мое!» – говорит Акбилек, встает, одевается и, захватив медный кувшин для подмывания, идет к сопкам.
Резвящиеся, не отстающие друг от друга верблюжата, детишки, удерживающие жеребят, пока идет дойка их гривастых мамаш, девочки-девушки, собирающие в окрестностях аула кизяк… Акбилек посматривает на всю эту картину и не спеша возвращается в свою юрту. Успевшая справиться со своим омовением, теперь же она сама льет воду на руки мужа, снимает с ширмы расшитое полотенце, протягивает супругу…
К вечеру муж возвращается на иноходце с притороченными к седлу утками-гусями и с соколом на руке, а она стоит у белой юрты и смотрит на него, ожидая…
А вот и время перекочевки. Акбилек закатала рукава, подпоясалась, разбирает юрту. Кочевье двигается своим порядком, чуть отставшие девушки и невестки увлекают едущую на серой лошадке Акбилек в свой смешливый круг, и начинаются розыгрыши, да кто лучше поет. И едут вот они дальше поющей и хохочущей стайкой, а к ним подъезжают дружно их мужья, да у каждого на руке сокол…
Акбилек стала мамой. Родила любимому замечательного мальчика. Муж со своим приятелем Акбергеном, конечно, на соколиной охоте, а она у колыбельки целует растопыренные над ней пальчики младенца, уложит на ладонь его хрупкую спинку, приподымает к своей груди и кормит. Папочка перед отъездом на охоту в изголовье сына прикрепил оберегающие перья филина, а теперь она идет с сыном к нему навстречу.
Воскликнет: «Посмотри, папочка, на своего птенчика!» – а ребеночек, уже сладко посапывая, спит. Папочка все же поднимает высоко сыночка и вдыхает младенческий запах мужского достоинства наследника…
Утром, как только заглянула Уркия, Акбилек поспешила спросить:
– Уехал?
Уехал, – ответила та.
Поспешность ее объяснялась чувством стыда за то, что в письме она звала к себе жениха, вдруг успею забрать письмо обратно.
Кажется, прошло еще четыре-пять дней. Старика дома нет, Акбилек, держа за ручку Сару, стоит перед окном. Пастухи загоняют скот в сараи, доярки приступили к дойке, над углом крыши сарая виднеется белое пятно. Это платок Уркии.
Акбилек отослала Сару подозвать брата.
– Дай ушко, – и принялась нашептывать что-то Кажекену.
– Правда?
А что же еще?
И что же нам делать?
Остановится у нас…
Неудобно перед отцом не будет?
Нет, ой-ай! Мы же не вместе будем, что зде сь нехорошего?
Надо баранчика зарезать.
Миленький, ау! О чем ты? Конечно, надо, мы всегда его принимали совершенно замечательно.
Сердце Акбилек куда-то улетает и парит. Прошла в комнаты. Зажгла лампу. Стала заваривать чай. Расправила сбившиеся края половиков. Повесила аккуратно молельный коврик. Все никак не найдет себе места, пройдет туда, заглянет сюда: все ли устроено, прибрано, да чисто ли в углах. Словно от пыли на сундуках зависит все ее счастье. И кажется ей, что самовар замызган, рукава Кажекена запачканы, лица, платки доярок грязны, скатерть в жирных пятнах.
Дорогой, ау! Как ты рукава запачкал! Если можно, не подтирай нос рукавом, не будь, как эти всякие!
Попробовала нажаренные поварихой баурсаки и ей:
Ты бы лицо свое чуток вымыла, ау! – показалось ей, что на грязнуле платок потрепан, тут же отдала ей покрывавший мамину голову недолго ношенный кимешек.
Пристала и к чабанам:
– Скучно целый день пасти в степи овец?
Чабаны оторопели: «К чему это она?»
С чего это скучно? – только и ответили.
Хочется Акбилек всем помочь, за всех заступиться, всех пригреть, как неразумных птенцов под своими крыльями. Чтобы все были, как она, счастливы, переполнены радостью. Ни о ком она ничего плохого не думает, никого не желает обидеть. Ответ чабанов «Как это скучно?» она готова объяснить присущим им невежеством и думает: «Что же им остается, бедным, как только пасти и пасти этих скучных баранов, без просвета, без ожиданья встречи с любовью? Устают, и только».
Вечернее чаепитие тянется и тянется, кажется, длиннее целого дня. И крошку Сару все не клонит ко сну. Всматривается во тьму за окном, торопит часы на стене. Убрала посуду, постелила детям, вышла наружу. Прошла на кухню и велела поварихе: «Как там мясо? Закипело? Мы рано ляжем, спать хочется». Вернувшись, искупалась с душистым мылом, тщательно вымыла и лицо, и подмышки, и живот. Целый ритуал очищения. Скрывая от следившими за ней черными глазками Сары, достала платье новобрачной, завернула в мамин платок и сунула под свое одеяло.
Пока варилось мясо, Сара уснула. Кажекен пристроился рядом с чабанами и заставил рассказывать сказку о ведьме с медными когтями. Подали мясо. Есть Акбилек не хочется, а пастухов не устает просить съе сть еще. К концу ужина пришла Уркия.
Тетушка, покушай мясо!
Уркия:
– Только попробую, – и отведала мясо с лепесток.
После ужина, уложив Кажекена спать, Акбилек вышла
с Уркией во двор, встали перед окном и принялись советоваться – как следует встретить гостя, где встречать. Уркия считала, что ей прежде надо проводить Акбилек к себе домой, там и встретить гостя, там и угостить молодых. Акбилек, стыдясь столкнуться с дядей Амиром, сослалась на то, что не может о ставить детей одних дома, и отказалась. Хотя права Уркия, как замечательно было бы вдвоем с суженым посидеть при свете лампы за одним дастарханом и вглядываться, вглядываться в его лицо! Судили-рядили, в конце концов Акбилек, убедившись, что браг с сестричкой крепко спят, согласилась пойти в дом дяди, все-таки не проводить же ночную встречу у себя дома!
Дети видят сны, а Акбилек нарядилась в платье и камзол невесты, капнула на себя духи, набросила на плечи шелковый чапан и тихо ступая, осторожно открыв дверь, переступила порог с дрожью в коленях.
Яркий месяц. Снег сияет, как серебро. Горят звезды. Между двумя домами ясно виднеется протоптанная дорожка. Эта тропинка – словно путь, ведущий в рай. И кажется, шагни по нему – и окажешься перед дверью, за которой самая прекрасная, самая сладчайшая, самая счастливая жизнь. И с каждым шагом врата счастья все ближе. Оглушительно стучит сердце. Навстречу вышла Уркия.
– А дядя Амир где?
– В прихожей. А вас я устрою в дальней комнате.
Ой, Аллах, ай! Неужели Акбилек будет суждено сегодня сидеть рядом с ним?
Уркия распахнула дверь. Суньтесь с лампой к спящему в темноте человеку, непременно, проснувшись, заслонится от едва мерцающего фитилька. А тут свет хлынул прямо из райских врат! Акбилек как отбросило назад, оробела, замялась – глаза долу.
– Заходи, дорогая, заходи!
Его не видно. Но вся комната наполнена его присутствием. Акбилек, держась за тетушку, вошла мелкими шажками под шорох платья. Смотрит, а все вокруг Бекболата сияет лучами зари! Акбилек присела в сторонке. Не смеет взглянуть на него, смотрит на пол.
– Как живешь-поживаешь, сестренка? – первым ее поприветствовал Акберген.
– Благодаренье… – смогла чуть шевельнуть губами Акбилек.
Стало тихо.
– Желаем тебе узнать в жизни все хорошее, что обошло вашу мать! Все в руках Бога, нам остается лишь покориться Его воле. Пусть у вас все поскорее наладится как надо! – высказал свои соболезнование и пожелание Акберген и бросил взгляд на Бекболата.
Бекболат промолчал.
Акбилек промокнула скомканным шелковым платочком глаза. Бекболат молча смотрит в сторону.
К этому времени подоспела Уркия с мясным блюдом и поставила на расстеленную скатерть перед дорогими гостями. Ополоснули руки водой из ее кумгана. На блюде полбарана – с де сяток самых значительных долей, среди них грудинка – угощение, подаваемое только жениху.
Се сть выше и ближе к жениху Акбилек никак нельзя, чудится, что между ними кто-то уже широко развалился. Так и замерла почти у дверей. Акберген вынул свой ножичек и вопросительно глянул на Бекболата: «Нарезать?» Тот кивнул.
Для свата, примите! – произнес Акберген, желая Первому передать опаленную и проваренную до студня голову барана сидевшему в другой комнате дядюшке.
– Ойбай, кушайте сами, дорогие! Прежде жених – так уж положено, а там посмотрим! – запротестовала Уркия.
Однако, видя, что Бекболат невнятно отговаривается, как заика, она отнесла голову мужу, отщипнула ему на зубок и вернула на место. Уселись вокруг скатерти вчетвером и принялись е сть. Уркия, посматривая на Акбилек, все повторяла:
– Дорогая! Садись ближе! Что ты так смущаешься перед Бекболатом. Зде сь ближе, чем он, тебе человека нет. Душа поет, милая, правда? Так поет, так радостно, так ведь?
Акбилек робко и покорно колыхнулась, якобы сдвинулась, ничуть не приблизившись ни к аппетитной баранине, ни к желанному Бекболату.
– Вот так и следует вам сидеть рядышком, бок о бок! Никого из старших нет, перед кем следует стыдиться своих чувств, – поощрил и Акберген.
Понимая, что эти двое не отстанут, Акбилек еще подвинулась, и так отчаянно, что краешек подола ее расшитого чапана коснулся колена Бекболата.
«Угощайтесь, кушайте», – о чем еще говорить за дастарханом? Молчание понятно: приступив к мясу, немели даже такие болтуны, как Алдеке, что же требовать от скрытно приехавшего, таившегося Бекболата. Все чинно, благопристойно, все учтивы, внимательны, проникнуты глубоким уважением к сотрапезнику, ну дальше некуца! Ты, наверное, решил, что они мясо едят? Заблуждаешься, все они вкушают нечто, известное как «довольство». Странное это блюдо: не сыт, не бит и прячешь стыд, а доволен.
Бекболат краешком глаза поглядывает на невесту. Видит – Акбилек стала еще краше, исчезла девчачья угловатость, плечиками округлилась, светится вся. Сердце хвастливо забилось, улыбка прячется под усами, какая у него суженая! Акбилек робеет немножечко, щеки раскраснелись. Смущает и то, что пальцы его напоминают ей руки Черноуса, куда же дальше – срам, да и только. Надсадные воспоминания о днях в ущелье тревожили ее, как назойливые осенние мухи. Понятно, Бекболату не дано о них и догадаться. «А вдруг почувствует?» – обе спокоенная Акбилек, приглаживая прядь волос, слегка откинулась и посмотрела на Бекболата; взгляды встретились. Его глаза говорили: «Люблю только тебя». Даже в сумерках в пытливых очах угадывалась негасимая нежность, опрокидывающая в обморок. И глаза Акбилек отвечали: «И я готова отдать тебе всю себя». Как в ее черных зрачках не вспыхнуть огоньку любви, словно искре от удара огнива об кремень. И свет негасимой любви переполнил обоих…
После застолья Уркия повела с собой жениха и невесту к двери и с прибаутками выпроводила их. Оставалось только дойти до погруженного в темень дома Акбилек. Но не успели влюбленные пройти и сараи, как ноги стали у них путаться. Шаг ступить нельзя, встали. Ладонь любящего легла на талию любящей. Акбилек с вызовом запрокинула голову, вовсю сияет полная луна. «Желаешь целовать – целуй!» – говорили, улыбаясь, звезды с небес. И когда клинкам подобные усы коснулись ее медовых губ… нет, не в силах мы обрисовать всю картину лучше, чем поэт Абай:
Горячее дыхание,
Плеч касание,
Перст замирание,
Неясное желание,
Лиц мерцание,
Беззвучное лобзание,
Опьяненье…
О чем говорят двое пылающих страстью влюбленных на узкой кровати, в чем убеждают друг друга? Не мы пишем – они, до самого рассвета перешептываются: «шу-шу», этот шепот – перо, строчащее роман, чувств море – чернила, ласк небо – бумага…
Но не станем, как старые приживалки, прислушиваться в темной комнате к этому шепоту, потом сами у них спросите, о чем они шептались, если скажут. Что бы там ни произошло, чуть свет Бекболат был уже в седле. Акбилек рядом у стремени, кутается в чапан и желает счастливого пути.
После краткой встречи с Бекболатом то ска стала окончательно терять злую остроту. Понятно: то, что волнует сейчас, – важнее важного. Только и думала о том, что есть в ее жизни, и о том, что будет. Мечталось о как можно скором возвращении Бекболата, без него жизнь теряла краски, все черно-белое… Прощаясь, так и не смогла, смущаясь, сказать ему об этом.
В один из дней подступила тошнота… и на сердце угнездилось беспокойство, и все тут. Тянет попробовать птичьи яйца. Поражается сама себе. Неужели как у беременных? Уркия слышала от брюхатых баб и рассказывала ей об их странном вкусе. Все – и долгое лежание в постели, и поиски яиц, и изменившееся поведение – указывало на то, что Акбилек носит в себе ребеночка. После ночи с Бекболатом прошло всего пять дней. Акбилек пожаловалась на свое недомогание Уркие, та подтвердила ее догадку:
Боюсь, дорогая, ты затяжелела.
Оставь, тетушка. Как я могла затяжелеть?
– Кто его знает.
– Ведь только-только?..
– Откуда мне-то…
– Разве сразу сказывается?
– Когда не один месяц.
– Значит, это случилось раньше…
– Если так, позора не оберешься…
С каждым днем Акбилек все больше убеждалась в своей беременности. И голенища сапожек ей стали узки, и живот округлился… Новые переживания, новые страдания. Не замужем ведь. И никому не скажешь, что была с женихом. К тому же, как посмотреть: от него ли… и что же ей делать… Секретничанья с тетушкой умножились. Стали искать спо соб избавиться от плода. Уркия принялась выспрашивать у всяких полумертвых старух о том, как вызывают выкидыш. Такое оказалось возможным при сильном испуге, при падении, при резком движении. Попробовала Уркия испугать Акбилек, выскочив перед ней из темного угла: «Ап!», заставляла прыгать, скакать, толкала в живот. Без пользы. Акбилек только совершенно потеряла аппетит. Слабость в ногах, рвота усилились. Все так и тянулось, пока однажды Уркия не произнесла:
– Знаешь, светик мой, ау! Мне кажется, и я беременна, стал мне противен вкус вареного лука, тошнит, выворачивает… И запахи…
– Тебе что! Ты ребеночка хочешь… Хочешь посмеяться надо мной, мало мне… – ответила Акбилек.
– Да что ты, милая, ау! Стану ли я!
Уркия действительно ничего не выдумывала. Сидит среди занятых рукодельем женщин, сама шьет, вдруг как вскочила, бросилась в прихожую, где ее и вырвало. Бабы за ней, там и обрадовали: видать, и ты затяжелела, наконец. Бог милостив.
– Видно? – только и спросила.
– Бог проявит милосердие, так трудно, что ли? – сладко заверили истомившуюся женщину товарки.
Пожелали благополучно разрешиться и незамедлительно разнесли по аулу, да что там – по всему уезду, что Уркия забеременела. Женщины поблагожелательней говорили: «Пусть будет ей бедной», а завистники мамырбаевского дома: «Да скорее наш дохлый пес ощенится, чем Уркия родит». Как бы там ни судачили, а глаз с нее не отводили. Смотри – не смотри, а живот-то ее через месяц-два стал выпирать.
С какого-то времени аксакал перестал слезать с седла. Заботы, дела, поездки по аулам, встречи. Да и неприлично аксакалу прятаться от людей с видом неутешного вдовца, особенно когда среди сородичей и тяжба, и споры не только не перевелись, а… шайтан небось лапу приложил, коль такое кругом стало твориться! К тому же, невозможно сохранить свой авторитет, если постоянно не обеспокоен своим значением, если зде сь не выскажешь свое мнение, там не заявишь: не ваша правда, а Бога Всевышнего. Иначе кто тебя будет продолжать величать «аксакалом»? Вот Мамекен и вынужден выезжать.
Какую миссию он выполняет – кто его знает; в этот раз вместе с сопровождающим человечком по прозвищу Стелька отправился в аул бая Абена. В этот аул люди не ездили без ве сомой причины. И нынешняя поездка аксакала, очевидно, тоже была не случайной. Прежде чем выехать, вызвал к себе аульного брадобрея приве сти в приличное состояние бороду, а затем затребовал у Акбилек чистую рубашку. В пиджачный кармашек на груди вложил сложенный в во семь раз душистый платочек. И заставил слугу, не жалея слюны, начистить сапоги. Давно не видела Акбилек таких приготовлений, видать, очень важное место собрался посетить отец.
Аул бая Абена Матай и на в тридцати верстах. Степняки обычно такое расстояние проходят не спеша, останавливаясь по пути то у родных, то у знакомых, дней за шесть добираются. Но не таков был аксакал Мамырбай, не ему тащиться кастрированным валухом. Проскакал весь путь до зимнего аула Абена, в котором не был, пожалуй, года два, за один дневной переход.
Дома зимовки Абена, стена к стене, выстроены в лощине с бурлящим родником. Вокруг источника – кусты. Окружает кустарник лес, подъезд к лощине холмист, а за нею и лесом – высочайшие белые горы. Меж сопок – камышовое озеро. Длинный дом Абена сразу за родником. А там – к горному перевалу прилепило сь одиноко стоящее с плоской крышей жилище его родственника ходжи Сатая.
Мамырбай миновал родник и приблизился к отгороженной с подветренной стороны байской коновязи. Строения – покоем, за широким въездом сразу загон для скота, способный разме стить в своих пределах не меньше пяти сотен лошадей. В тянувшихся сплошной стеной постройках на теневой стороне ряд ворот. Все они ведут в отделенные для овец и телочек хлева. Под крышей поперечной ухоже – кони. А солнечное крыло – жилье хозяев. Там комнаты самого бая, отдельно для двух его жен, отделены и женатые дети, есть и комнаты для гостей, уголки для работников и слуг, кухня и летняя кухонька, холодная – для хранения мяса…
Подходы к сараям чисто выметены. В загоне бродят две лошадки со спутанными веревками ногами.
Аксакал, привязав своего коня к столбу, хлопнул камчой по голенищу сапога и, отхаркивая, двинулся к низенькой двери, ведущей в байские хоромы. Погруженный в свои нелегкие переживания и к тому же отягощенный неиссякаемой слизью в гортани, крупный телом аксакал вошел в невероятно просторный коридор с гладкими стенами и как мальчишка замер в изумлении. А глаза не отстававшего от него Стельки, никогда в жизни не входившего в такое здание, выкатились шарами, челюсть отпала. Так и стояли бы они в изумлении с раскрытыми ртами, не зная, в какую из многочисленных дверей ткнуться, да из одной вышел молодой человек из прислуги, поздоровался и пригласил их следовать за ним. Аксакал, скрипнув порогом раскрывшейся перед ним двери, вошел в гостиную. Едва он присел на скамью, как слуга подскочил к нему, склонился и живо стянул с него сапоги. Стелька же так и стоял, застыв, как степной бал бал, в стороне. Надо же – для сапог нашелся обувной шкаф чуть ли не с комнату! Полы в доме намеренно уровнем выше, чем в коридоре, деревянные, потолки ровненько оштукатурены, выбелены. От двери отлично оструганные и подогнанные доски голые, в глубине комнаты они уже покрыты кошмой, коврами и одеялами. Между двумя окнами на дальней стене навис вентилятор. Стелька подумал: мельница, что ли? В нише у голландской печи – кованая кочерга, а под печной дверцей – блестит медью таз. Над самым почетным местом – торе, с перекладины свисают красный молитвенный коврик и два полотенца для омовения.
Мамырбая разместили в центральной из трех комнат для гостей. Слева комната была тоже уже заселена. Слышались невнятные голоса.
Вечерело. Молодой слуга зажег семь ламп, внес три голенастых стула из отполированной березы с резьбой и установил их в центре комнаты. Скрывшись, явился чуть позже со словами:
– Бай идет.
Аксакал подобрался, прочистил горло, поправил на себе жилетку, принял позу, достойную явления вельможи, и застыл. Вошел бай. Аксакал живо вскочил и с протянутыми руками бросился здороваться. Бай едва слышным голосом произнес несколько благосклонных слов.
Его сиятельство бай Абен был мужчиной еще хоть куда. Орел! Подтянут, рыжеватая борода расчесана по щекам, саблеус, носат, губа оттопырена, брови нахмурены, взгляд на белом лице непримирим. Осанка – как у батыра давно минувших славных времен. Рядом с ним аксакал Мамырбай кажется и не аксакалом вовсе, а так – пачкун.
Бай стоя протянул одну ногу за другой слуге, тот осторожно стянул с них сапоги и разгладил ладонями смятые вельветовые штанины. Сунув руку меж протянутых к нему ладоней Мамырбая, бай прошел мимо него и уселся на нежно выделанную шкуру черной козы.
Как дела? – только и спросил.
Аксакал в свою очередь принялся расспрашивать бая о его здоровье, о семье, о родных и близких, о его многотрудных заботах о мирянах. Тот же на все вопросы отвечал кратко:
Слава Аллаху.
Помолчали. Бай снизошел все же, присовокупил:
Желаю и вам достигнуть Его милости!
Пусть так и будет! – возрадовался аксакал.
Бай приказал слуге:
Позови людей из той комнаты.
Велел, и тут же появились несколько человек. По реплике бая, обращенной к аксакалу: «Устраивайтесь поближе», тот понял, что он зде сь самый уважаемый гость, и заважничал.
Из приглашенных гостей – судья Имамбай, Алдекей, Мусирали. Остальные двое – их приятели. В этом же порядке они и уселись, ниже аксакала.
Пока го сти здоровались, перед ними расстелили скатерть, высыпали горками на нее баурсаки, в двух местах поставили белые тарелки с золотыми плиточками масла, внесли огромный желтый самовар. С двух сторон самовара присели двое слуг и принялись разливать чай в красные фарфоровые чашки, ровненько выстроенные на черном подносе. В разливании чая е сть свой порядок: всякая суета исключалась напрочь, напиток в каждой пиале соответствовал положенному уровню и качеству, каждая из них имела свой адрес и не сталкивалась с другой ни на подносе, под носиком самовара, ни плывя в воздухе, над дасгарханом, руки разливальщиков чая на виду, видите: чисты, усердны и открыты, смотри,” ибо так положено – сидевшим во главе стола чай подавался густой, цвета темного золота, сливки в них из отдельного источника, а у тех, кто сидел ниже Мусирали, чай синел, напоминая городские чаепития в Семипалатинске. Здесь
вам не мелкие торгаши, никто надувать не станет. Перед мусиралиями и баурсаки рассыпаны лишь кое-где, и к маслу дотянуться сложно. Бай, заметив, как наш Стелька гонялся за баурсаками, точно голодный волк, распорядился:
Пошлите на тот край.
Мамырбай бросил на своего человека тяжелый взгляд, полный укора: «Это ты, что ли, там охоту за баурсаками устроил, брюхо ненасытное?» Что возымело действие: баурсаки, как овечки при пастухе, чуть перевели дух.
За чаепитием беседовали на разные темы. В ту минуту, когда аксакал отирал сложенным платочком еще лишь первый пот со лба, бай перевернул свою опустевшую чашку, давая понять, что начаевничался. Оставшимся ничего не оставалось делать, как последовать его примеру.
Посуду убрали, скатерть опустела. Поглядывая на плотно сидевшего по-казахски бая, никто из го стей не посмел вытянуть ноги посвободней. Не вольничай. Разве что Алдекей не в силах был отказать своей слабости – вытянул из кармана черный рожок с насваем. Бай подал знак, и тут же прислуга выставила перед Адцекеем плевательницу с сухим песком на донышке. Такая же посудина была установлена и перед баем. Таким же, как Стелька, если вздумалось бы им заложить за губу насвай, пришлось бы бегать сплевывать натекающую слюну по ветру.
Алдекей принялся, чуть постукивая краем рожка о ладонь, ссыпать насвай. Мусирали туг же нетерпеливо заколыхался, как сова, увидевшая мышку, и протянул к рожку свою руку. Алдекей глянул на него отстраненно, покачал головой и прикрыл табакерку всей шириной ладони. Мусирали смутился, но не отстал:
Немножечко, немножечко…
Свой закладывай, – отрезал Алдекей.
Дай, говорю! – Мусирали стал напирать, потянул владельца вожделенного зелья за колено.
Здесь вмешался, улыбаясь, бай:
Что это Мусирали к тебе пристает? – спросил он Аддекея.
– Представления не имею, с чего этот пес слюни распустил, – как можно строже
произнес Алдекей, но не смог сдержать улыбки.
Мусирали, хоть и дожил до седин, был глуп, и обычно Алдекей, жалеючи, не задирал своего рове сника. Бай знал об этом, но ему явно было мало одной комичной сцены, посему сам начал подначивать Мусирали. А тот ничего не понимает. Пришлось байскую прихоть исполнять самому, Алдекей вытянул шею и заговорил:
– Как-то торговал наш Мусирали среди ногайцев всякой мелочью…
Почтенное общество заулыбалось, готовясь посмеяться от души.
– А в то время он уже был сватом Бокету. Бокет человек неразговорчивый: раз сказал, как отрезал. И тоща Мусирали завел себе другого собеседника – Исабая, подвизавшегося толмачом у калмыков. Ну, люди это заметили и в шутку говорят Бокету: «Ваш сват вроде и не замечает вас!» На что Бокет, заложив за губу хорошую порцию насвая, отвечал: «Батыра с батыром вместе увидишь на поле боя; оратора с оратором – на дискуссиях; муллу с муллой – на молитвах; собаку с собакой – у объедков. Что же остается делать бедному Мусирали, как только не приятельствовать с толмачом, хотя тот лает по-калмыцки, но лает и лай другого понимает, не то что мы. Вот и вся разгадка».
Почтенное общество захохотало.
– Ну, дает, ну, дает, ау! Чего он такое несет… Сам-то ты кто? – начал было оправдываться покрасневший Мусирали, как Алдекей, перебив его, завел новую байку:
– В стародавние времена приехал хороший хан в го сти к плохому хану. Плохой хан, недолго думая, и спрашивает гостя: «Е, хан, беременеют ли бабы ваши? Скот ваш обильно ли землю навозит?» Сидевшая в смежной комнате ханша туг же стала тянуть за веревку, привязанную к ноге хана. Плохому хану ничего не оставалось делать, как отправиться к супруге. У плохого хана был мудрый визирь. Удивленный поведением плохого хана хороший хан и спрашивает того визиря: «Почему хан ушел? И что означают его слова?» Визирь отвечает: «Когда хан спросил о беременности баб, он хотел узнать о численности вашего народа, а когда интере совался обильностью испражнений вашего скота, то желал узнать о зажиточности вашего народа. А покинул он нас, потому как решил, что вам недоступно понимание его языка». А когда хороший хан уехал, плохой хан спрашивает своего визиря: «Что сказал обо мне хороший хан?» Визирь отвечает: «Он с похвалой отозвался о вас», Плохой хан тут говорит: «У-ай, какая жалость! Рано дернули за веревку, я бы мог еще мудрее что-нибудь сказать!» Поймите и пожалейте нашего Мусирали, не его вина, что он глупости несет. Баба его виновата – ленива.
– При чем зде сь моя баба? Не умней меня…
– Умней или нет, я не знаю. Но вот поленилась она с тобой поехать и некому вовремя веревочку дернуть.
Почтенное общество опять залилось смехом.
Так это или не так, а уже побагровевший Мусирали завопил:
– Тоже умник нашелся!
Однако Алдекей и тут не позволил развить приятелю его столь смелый выпад:
– Приходилось слышать мне, как известный вам Сламбек решил задеть одно духовное лицо – ходжу Жанабила. Тоже знаком всем вам. Сламбек сказал вот что: «Имам… Обсуждался, говорят, один вопрос на высоком мажлисе и один из ученых мулл Ходжа Бахауддин и произнес во время своей речи слово из Небесной скрижали так: «Зулжалал!». Его решил поправить другой ученый, Таптазани: «Неверно говорить «зулжалал», правильней – зал жал ал». Бахауддин заспорил с ним: «зулжалал» – правильно!», задело его, и он предложил: «Давайте посмотрим, как это слово написано на самой ал-Лаух ал-Мах– фуз!» Посмотрели, оказалось: «зулжалал». Тоща Таптазани возроптал: «О Бог! Ведь «залжалал»! Что же, исправлять теперь, что ли?» На что Бог и отвечает: «Ты прав, конечно: «залжалал». Но этот Бахауддин – один из моих самых преданных рабов, не хотелось мне ставить его в неудобное положение, вот я и исправил на Скрижале залжалал на зулжалал». Вот и ответьте мне, ходжа: неужели Бог способен на обман? Ходжа Жанабил ответил Сламбеку так: «Когда умер Велеречивый Казыбек Каз даусгы, подошел святой Бек Мысык и трижды коснулся его тела своим посохом. Собрался сделать это четвертый раз, но тут кто-то схватил его за руку: «Ты что, с ума сошел?» Тогда святой Бек Мысык и говорит: «Зря ты остановил мою руку, ау! Теперь мудрость Казыбека-би передастся лишь трем поколениям от него. К сожалению, наш Сламбек, хотя и потомок Казыбека Каз даус-ты, но родился гораздо позже тех, отмеченных посохом поколений, не умник, .как и я, конечно, но, и дураком не
слывет. Вот деда нашего Мусирали тоже по сох коснулся, но только по голове и со всего размаха, да так, что сын и внук его совсем без мозгов родились…
Почтенное общество обхохоталось.
Мордастый, нечистоплотный, никудышный в партийных делах, прежде всего по причине
своей постоянной продажности, Мусирали – идеальная фигура для насмешек. Приехал он к баю проешь его заставить своего свата вернуть сбежавшую невестку сыну, к тому же дураку.
Позабавившись над Мусирали, бай повеселел и же стом велел одному из смуглых парней взять домбру. Этот придурковатый музыкант изобразил сценку, как казах с узбеком перепевают друг друга, чем еще более развеселил публику. Затем, снова по сигналу бая, придурок ухватился за углы своего чапана и, размахивая полами, раздувая щеки, выпячивая губы, принялся изображать птицу. Подлетел к тем, кто сидел ниже всех, закружил над ними, наскакивал и вдруг высунул над Мусирали то, что болтается у самцов между ногами. Ну туг все просто задохнулись от хохота. Придурок исчез и вернулся переодетым брюхатой русской бабой. «Баба» эта принялась кокетничать с каждым, неся какую-то чушь по-русски, выставляла зад, надавила на спрятанный под подолом пузырь с водой и давай поливать струей гостей. Опять же досталось тем, кто сидел ближе к порогу, а обильней всех, конечно же, был облит «бабьим соком» Мусирали. Сидевшие во главе застолья аксакалы от «бабьего крещения» только отмахались издалека, не в силах от смеха и слова произнести.








