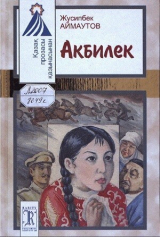
Текст книги "Акбилек"
Автор книги: Жусипбек Аймаутов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
Не скоро она вышла на мелководье, от края до края усыпанное круглой галькой. Течение неслось в ряби. Сняла сапоги, подтянула исподнее как могла выше колен, кожаные чулки под мышку и, осторожно ступая пухленькими беленькими ступнями по покатистым камешкам, перешла поток.
В полуверсте виднелась сопка. Решила взойти на нее и поискать глазами народ.
Взобралась, оказалось, за ней еще более высокие возвышенности. Акбилек принялась оглядываться по сторонам, выискивая дорогу. Впереди – холмистая степь, позади – гряда гор. Аул Акбилек располагался у подножия горного кряжа. Не восточней, а на юго-западе, горы не похожи на ее родные, они тянулись поперек тех дальних вершин. Значит, не отдаляясь от гор, а обходя их, следует шагать в сторону Мекки. Решив все это, Акбилек зашагала по перевалам, стараясь проходить по местам пологим, открытым.
Вздыбленная, безлюдная долина. Переплетенье бледных трав, заросли диких цветов, бугры, насыпи, красная супесь, заросшие провалы. Серые мыши, пестрые сороки, зайцы-русаки, жаворонки – кроме них и не увидеть никого. Люди, кто может показаться, ау! Безлюдная степь схожа с ожогом. И как пастухи пасут на ней отары и не умирают от скуки? Эй, оголенная безграничная пустошь! Печален вид одинокого путника в голой степи.
По еще сулящей спасение степи идет тоскливо Акбилек, коленки болтаются в голенищах. Кобчик несется за мышью, клекочет, прямо как орел. Там вдали взлетает и падает звонко жаворонок, пронизывает высь, не в силах, дрожа крылышками, замереть хотя б на миг. Голос
этой птички особенно тревожил, другие пели иначе, что случилось с бедняжкой? Вокруг нее носились по кругу, то приближаясь, то отдаляясь, еще четыре-пять пташек; хлопотали крохотные заступницы: подлетят, возмущенно пощебечут и отлетят в сторону.
В какое-то мгновение жаворонок безоглядно упал камнем, как в атаку. И Акбилек понеслась пулей к птичке. Место, куда устремилась она, густо покрыто травой. Акбилек спешит, присматриваясь. Крылатая крошка, канувшая в травяных зарослях, завозилась, зашебуршила там, углубляясь в заросли густых стеблей, колыша траву, расшумелась. Да что с ней, бедненькой? Подбежала, а там, распластав зелень, лежит упруго серая змея.
Змея вскинула острую головку, в ней – смерть, алмазные глазки впились в жаворонка, раздвоенный язычок мельтешит; змея, посвистывая, елозит боком, завораживая, то свернется, то протянется, испуская ядовитые пары, вот готова к прыжку. Жаворонок не в силах отвести глаза от посверкивающих змеиных глазок, суматошно машет крыльями, ничтожно вскидывается, собрался в комочек – и вниз, прямо под зубки змеи, и там трепыхается. Раз: «ап!»> и все дела. Ужасная змея, впившись пронизывающим насквозь взглядом в птичку, облизывается вилочкой языка, лежит и ждет, пока она сама не прыгнет ей в пасть.
Акбилек стало жаль жаворонка. Взяла и шестом своим влепила точно по отточенной злодейской головке. Прямо вбила ее в землю, узкое тело отчаянно задергалось. Бедненькая шашка чуть пришла в себя: шевельнулась, покрутилась по земле, встряхнулась, словно сбрасывала с себя нечто цепкое, взмахнула шумно крыльями и взлетела пушинкой в небо. Акбилек еще два раза врезала по шевелившейся змее и пошла себе дальше.
Шагнула и вспомнила слышанные еще в детстве слова: «Змея ест, заворожив, жаворонка». Как? «Сама уви– * лишь», – так и говорили. Интересно, что за магия в глазах у этой гадины? – удивлялась. Случай с жаворонком словно снял с нее усталость, зашагала бодрей, сердце билось сильно, отдаваясь ровным пульсом. Радовалась всё, что спасла жаворонка от верной гибели. И своей храбрости убить змею. Это добрый знак. Пташка такая беззащитная, за что же ей погибать?
Пташка, пташка – мое имя,
Перьев я комочек непростой,
Обижал меня мальчишка,
Стань же сам ты сиротой
Так проклинает птичка в детских играх. Ни в чем она не виновата. Доразмышлялась. А затем вопрос, заставивший ее снова задуматься: «А я перед кем провинилась?» ‘ Себя представила жаворонком, а обидчиков своих тварями ползучими. Я прибила губительницу птицы, непременно кто-нибудь убьет и моих обидчиков, и посчитала правильным свое решение.
Идет, размышляет так, вдруг впереди под сопкой мелькнуло беловатое остроконечное пятно. Акбилек испугалась и, втянув голову в плечи, тут же присела. Притаилась, не видно ее. Взглянуть, приподнявшись, боится, а вдруг русские, а прятаться дальше нет терпения – так хочется взглянуть: кто это там? «Если русские, все равно найдут, все кругом просматривается, будь что будет, гляну», – решила и, высидев еще малость, приподнялась и всматривается. Идет у подножия холма, словно в гонке, некто вертлявый, бормочет странное себе под нос, на башку словно сова нахлобучена. Пришла догадка, что нет у русских таких остроконечных шапок, стало легче на сердце, и конус на голове стал понятен: да это же обыкновенный дуана – и колдун себе, и знахарь, и божий человек. Вон и по сох у него в руке.
– Эй, дуана! – и не поняла сама, как воскликнула, как осмелилась окликнуть.
Дервиш встал, как конь на полном ходу, вскинулся, замер чуток, а потом, развернувшись, пошел прямо на нее.
Акбилек стала узнавать его: ноги измазаны глиной, острая верхушка белой шапочки увенчана перьями филина, по сох калиновый, обтянут сухим рубцом, в кольцах и колокольчиках, позвякивает, при нем же гадательная лопатка ягненка, с шеи свисают четки пророка Хизра, на боку нож, ноздри раздуваются, грудь нараспашку, кадык торчит, предплечья оголены, пальцы вытянуты, настороженно нахмурен, борода торчит пучками, расслабился, но бдит острее… Он, раз увидишь, завсегда узнаешь, – тот самый Искандер.
Кто же он, дервиш Искандер? Опасен ли он для Акбилек? И пока он осторожно передвигается к ней, попробуем рассказать, что за человек этот Искандер.
Нет на свете колдовских дорожек да горных перевалов, не исхоженных Искандером. Возьми хоть Усть-Каменогорск, хоть Боровое, хоть Семипалатинск, хоть Каркаралы – везде оставили след его голые ступни. Видел он и паровоз, и пароход. Даже песнь сочинил по такому поводу: «По-о-рахот-ау, по-о-ррахот!..».
Дома у Искандера нет. Куда приткнется к вечеру – там и приют ему. Расщелина какая, овражек поросший, полуразвалившаяся могильная старая стена ему жилье. У него-то и родичей
никого. Его родня – все казахи. Нет у него и скотинки. Все его состояние перед вами. К вещам он равнодушен. Дашь денежку, вот и приз, на который он устроит в первом же ауле борьбу, бега для детишек, Бродит он без сумы, не берет ни сладостей, ни сытного куска, ему дашь поесть что-нибудь, и он доволен. Придя к людям, прошествует на самое почетное место и возгласит: «Аллах – истина!» – выдаст на выдохе нечто нечленораздельное, постучит кругом, посохом поводит туца-сюда и уйдет прочь. Отдаст любому свои перламутровые бусы и перья филина. Впрочем, выпрашивают у него украшения все девицы да невестки.
Искандер неспособен к обману, не ведает, как можно лгать, никогда не думает о человеке плохо. Старших называет и отцами, и дяденьками. А к женщинам обращается: «мамка», пусть даже это только юная невестка в чужом доме. Весь род людской у него «дитятки мои», ни на кого никогда не повышает голоса. Ничего не отвечает обидевшему его человеку, только покачает головой.
Бывает, просят его:
Дуана, постращай вот этого озорника.
Отвечает, погладив провинившегося ребенка:
Оставь дитятко, моего хорошего, не пугай, не пугай!
Больше всех Искандер обожал детей. Явится Искандер, так детишки за ним вереницей, не отстают от него до самого его ухода. И собаки особенно отмечают его; правда, следуют за ним, лая и рыча. Идет, размеренно переставляя посох, и даже если какой пес вцепится зуба-1 ми в палку, ни за что не ударит животину. А если дети заняты учебой, то Искандер спешит поздороваться за руку с учащим их муллой, дети тут же сами вскакивают и тянут к дервишу свои ладошки. Искандер отпрашивает учеников у муллы и дает им волю. Иногда он остается ночевать в ауле, сядет на корточки у какого-нибудь дома вечером и протягивает согнутую правую руку торчащему, как правило, возле него малышу, и давай его туда-сюда вертеть-валить. Такая у него борьба. Ребятам интересно, выстраиваются в очередь на схватку с ним. Свалится мальчик, руку его отпустит и говорит: «Э, силач, упал», – а если тот устоит на ногах, то: «Э, силач, ты победил».
Искандер верит всему, что ему скажут. «Говорят, такой-то хочет видеть тебя, хочет, чтобы ему уголь принес из города», – говорят дервишу, а он: «А-а, вот как», – и отправляется к названному имяреку. В лютые зимние дни Искандер прошагал пятьдесят верст к какому-то шпану Исакаю, таща на своей спине к нему мешок с углем, был такой случай. Причем ходит он, рыхля пе сок или снег, босиком, такая уж душа у него, что нога его никогда не знались ни с какой обувкой.
Что Искандер любил, так похвалу. Скажи ему: «Уважаемый дуана, говорят, вы с пароходом соревновались?» – отвечает, довольный: «О, отец, было такое дело». Он и с иноходцем, и с запряженными в арбу лошадьми бегал наперегонки. Утверждал, что ни от кого не отстал. Бегу-честь – вот и все, чем мог он похвастаться, но видевшие его бег уверяли, что разве в скачках на длинные дистанции он оказывался позади коней. Бывало, взбредет ему в голову, так давай носиться у аулов наравне с жеребцами две-три версты. А спросишь: «Дуана, как ты не устаешь?» – отвечает: «О, Бог силы дает».
Так и носится Искандер, нигде не ища покоя. Зайдет по пути за порог какой, воскликнет: «Истинный!» – молитвенно ладонями проведет по лицу, и уже нет его.
Он не гадает, не предсказывает судьбу. Уверяет: «Грех это», – и головой покачает из стороны в сторону. Впрочем, не скажешь, что он был усерден в молитвах. Иногда во время намаза пройдет без омовения своих черных пяток к молящимся мусульманам, пристроится рядышком. Особенно-то ничего не произносит из сур Корана, но губами шевелит, что-то вроде как бы про себя читает. Время от времени возгласит: «Истинный!» – да издаст тоскливый звук, и все.
Болтать Искандер не горазд, ответы его коротенькие. А заговорит, то может и стишком ответить. Если хозяин дома вдруг скажет: «Дуана, нет у нас барашка для угощения», – то от него услышите такую скороговорку, к месту или не к месту:
Э, если вам не дан баран,
Значит, мудрость вам дана.
Мудрость ваша всем видна,
Значит, праздник свыше дан…
Никто не видел Искандера недовольным, с оттопыренной губой, как ни взглянешь на него: приветлив, улыбчив. И никто даже не задумывался над тем, отчего он такой, как оьется сердце в его груди, какая кровь течет в его жилах, какая энергия движет его тело. Только и тыкают ему: «Дуана, дуана», – да заметят: «Такой может все». Жизнь
Искандера – тайна. Конечно, Искандер человек. Но что за человек?..
Пожалуй, вот и все, что можно было рассказать о том, кто встретился Акбилек. Дервиш, подойдя к ней, произнес:
А, дитя мое, лучик мой, дорогая… Ты откуда?
Акбилек, не зная, что и ответить, смутилась, поникла.
Дяденька дуана… я… я… аксакала Мамырбая… – и замолкла.
Стыдно было ей признаться, что была под русским, хоть и помимо воли своей… отмолчаться тоже нельзя, что-то нужно сказать. Потерла лобик, захлопала ресницами и потупила в землю глаза… Пробормотала:
Я дочка аксакала Мамырбая… заблудилась… теперь аул свой найти не могу…
Дуана не стал интересоваться, как и когда она заблудилась.
Е-е, дитя мое… потерялась? Мамырбай, Мамырбай, Тауирбай, Суырбай… знаю, знаю…
возьму с собой, пригляжу за тобой, приведу домой, – и протянул ей руку.
Обрадованная тем, что дервиш не стал ее ни о чем расспрашивать, Акбилек с радостью последовала за ним. Искандер тащил ее за собой левой рукой, а правой переставлял посох: только и мелькают его, словно вырезанные из дерева, сухие ступни. Идет, идет, да и пожалеет в такт шагам: «Э, дитя мое, э, дитя мое, глаза набухли, ножки побила, голод терпела, сама пожухла…» А у Акбилек и слов нет сказать, только иногда посмотрит на торчащую пучками бороду странника или потемневшую под солнцем грудь его. Бородавчатые пальцы цепко держат запястье Акбилек. Спешит так, словно кто-то там далеко до отчаянья заждался его. Быстро уставшая, Акбилек не успевает переставлять ноги, вся перекосилась, как ребеночек, которого волочит за собой суровая мамаша. Наконец она не выдержала и взмолилась:
Дяденька дуана, не могли бы вы чуть помедленней идти…
Э, устала, дитя мое? – и, отпустив ее руку, зашагал не так быстро.
Впрочем, отмерял он шаги своими жилистыми ногами под бычий гул своей груди по-прежнему живо, так, что скоро до него и не докричаться. Отставшая довольно от него, Акбилек попьпалась попридержать его разговором:
– Дяденька дуана, а аул далеко?
– А, – остановился. – Дойдем, дойдем.
И опять рванул вперед. Акбилек совсем устала, но признаться в этом все стеснялась. И опять заговорила в надежде удержать путника:
– Дуана! – почти завопила.
На этот раз спросила, не встречал ли он в этих местах военных.
– Э, войско? Куча врагов, есть, есть, – пробормотал себе под нос дервиш.
Неудовлетворенная ответом, Акбилек спросила, в какой стороне находится ее аул.
– Вон под тем торчащим носом, – и указал на синевшую вдали гору.
Акбилек стало ясно, что сегодня ей не добраться до родного порога. Хотя бы до жилья какого-нибудь доковылять… Что дуане с его ходом близко, для изможденной, с и одл а м ы ваю гц и м и с я коленями Акбилек никак не достижимо. Он шагает, она бредет… Прошли уже столько… но все равно ей не дойти. Там, у самого горизонта, на склоне что-то завиднелось – то ли пасущаяся скотина темной масти, то ли потемневшие пни.
Солнце склонилось, готовясь к вечерней молитве.
Акбилек проголодалась, измучилась. Скинула наполненные болью сапоги. Совсем не осталось сил передвигаться и, не чувствуя ничего, просто села. Убежавший от нее на полверсты дуана, услышав ее истончившийся жалостный голосок, прыжками вернулся к ней. Понял, что она теперь и двинуть пальчиком не способна.
– Э, дитя мое, глаза набухли, ножки опухли… устала, небось? А, понесу дитя мое на себе. Давай забирайся! – и подставил свою спину.
Акбилек медлила, не решаясь и взобраться на него, и отказаться. Показалось неудобным ей, девице, карабкаться на хребет здоровенного мужчины. Сразу вспомнилось, как носил ее на руках Черноус, когда она у него была женой, прижимал, целовал… И вообще, не грех ли позволить своему телу, опоганенному ласками неправоверного русского, прижаться к спине божьего человека? Но дервиш терпеливо ждал, повторяя: «Забирайся, забирайся, дитя мое».
Родные далеко, сил идти нет. Пришлось от безысходности подняться, повздыхала, примериваясь, и протянула руки к плечам дуаны. Прямо-таки заставила себя обнять его вокруг шеи, а дуана ничего – вскочил, как коняга, и с возгласом: «Со мной пир мой святой!» понесся дальше. Посох свой передал Акбилек, а болтавшиеся по сторонам ее ноги он прихватил углами локтей, прижал, встряхнул ее для более прочной усадки и зашагал размашисто дальше по буграм и камням.
Акбилек представила себе, какая она сейчас наездница, и готова была рассмеяться и заплакать. Впрочем, была довольна. Прежде всего тем, что видела себя скачущей от русского. Там с ним не было даже надежды остаться человеком, там она смирилась и с муками, и с унижениями, и с бесстыдством, и с самою смертью. А в том, что едет на дуане, нет скверного умысла, тому залог – святость дервиша. Она желала лишь одного – добраться до аула, к отцу. Увидит его, обнимет с разлуки, помолится над могилой матери и сама станет, как мать, заботиться о родителе. Но как она ни успокаивала себя, все равно сердце ее сорвано, сдавлено петлей; кем? Сами помните. И при чем зде сь радость? И при чем зде сь спасение? Нельзя, нельзя взглянуть на все по-иному, глупость, что жизнь опять складывается благополучно, как ни крутись – со всех сторон наползали все те же черные тучи, закрывая свет, оставалось только переболеть болью, пережить…
Если о ставить чувство неловкости, возникшее у нее в начале нежданной верховой езды, по ее ходу Акбилек забыла, кто под ней, стало казаться, что ее, маленькую, несет на своей спине мама, и в памяти всплыли дни детства. На ней беленькое ситцевое платьице, под подолом красные штанишки, обшитые черным блестящим шелком, на макушке торчит хвостик волос; босоногая, миленькая девчушка, предпочитающая бег ровному шагу. Украсит козленка с белыми и черными завитушками бахромой и перьями филина, представит его как своего ко-няшку, и наперегонки с такими же, как она сама, детишками. Навалится со своей мелюзгой на мирно дремлющего отца, а он всполошится и под нависшими на его плечах, шее детьми шумно сдается: «Повалили, повалили!» Играли в прятки, затаиваясь за дремавшими верблюдами, пнями, валунами, в овраге… За домом устраивали из крытого треножника домик для куклы, сплетенной из ивовых прутиков, стелили тряпки под нее, а на головку навешивали кисею, ведь непременно к ней сватались, становилась она невестой, а они, как бывалые тетки, судачили по этому поводу, требовали выкуп у родственников кукольного жениха .. Нарезала лоскутки для платьиц заневе стившейся куклы из маминых отрезов, непременно ей за это влетало от матушки. Но все равно, как маме ее не любить! Прижмет к животу свою дочь, со смаком звучно поцелует в щеку: «Наглядеться не могу на мою беленькую-беленькую доченьку!..» Где теперь мама? О Создатель, кто и что вместо нее заполнит теперь гулкую пустоту? Кто прикоснется губами со вздохом к лобику Акбилек, коща она появится у родного дома? С кем она поплачет, кто утешит ее? Опять загоревала Акбилек, опять накатили слезинки. И заплакала бы, да вот прямо перед ними из травяного кустика с трепетом вылетел жаворонок и отвлек ее от слез. К этим минутам и солнце склонилось к горизонту, вечерело.
Наверное, не к месту, просто подумалось, что трудно идти дервишу с ношей. Через два-три перехода через сопки и овраги он сам снял Акбилек со своей спины, чуть передохнул, размял застывший хребет, вскинулся, как верховая лошадь. Акбилек хотела было дальше идти сама, но дервиш не уступил и снова заставил ее взобраться на него. Бог весть откуда донесся лай собак. Акбилек обрадовалась:
Добрались до аула!
Добрались, дитя мое, добрались, – ответил дервиш и подбросил ее еще раз выше по своей спине.
Акбилек показалось, что она почувствовала запах закипевшего молока, тонко переплетенного с дымком разгоревшегося кизяка под котлом.
Пришли, дядюшка дуана! Теперь я сама дойду.
Э, дитя мое, еще шагать нам и шагать, – заявил дервиш, и не думая опускать ее.
И когда почти стало слышно бульканье кипевшего молока, дервиш остановился.
Вот зде сь ниже аул, – объявил он.
Акбилек сползла с его спины. Размяла как могла одеревеневшие руки дервиша, попыталась размять его ноги,
да он отстранился, зато отряхнула края его чапана и снова пошла рядышком с ним.
Скоро на склоне горки показался прижавшийся к ней аул. Не сказать, что выстроен он был как завершенное поселение, в нем даже не проглядывался дружеский ряд, виднелось там да сям пять-шесть разбегавшихся зимовок. Внимательному человеку они словно заявляли, таковы, мол, и наши хозяева, держатся подальше друг от друга, без пользы для дела, без желания жить одним гнездовищем. У некоторых сараев угрюмо стоял скот. Видать, вот-вот начнут загонять его в стойбища. От крупного строения у земляного бугра густо валил дым. К нему двигалась некая тень от расположенного справа маленького жилища. Слева от склона пристроился сарай, перед которым виднелись какие-то предметы, не различить, что, но многовато. Акбилек, не зная, какой из домов выбрать, шагала по инерции, а дервиш предложил:
Пойдем в тот дом.
А чей он?
Богача Мусы.
А если мы пойдем к тому, что поближе?
Акбилек не хотелось идти в богатый дом, богатый – значит все в нем благополучно. И живут в нем непременно люди приличные. При ее нынешних обстоятельствах соваться в приличный дом было бы не совсем осмотрительно. В таком виде – и к приличным людям.
Не могли бы мы зайти в ближний дом? – повторила Акбилек.
Те, что поближе, сами голодны, а кушать тебе, дитя мое, надо, небось хочется… – громко произнес дервиш.
Что же от того… Нам же глоточек молочка, может быть, и местечко найдется, где можно прилечь, – не унималась Акбилек.
Да, даже божий человек вряд ли способен выковырнуть то, что взбрело в женскую головку. Не стал и Искандер-дуана упорствовать, теперь скажешь ли, что он был слабоумен, как считали?
Э, дитя мое! Ладно, ладно, – и свернул к первому же убогому жилищу.
Но как только он, развернувшись, было шагнул, Акбилек чуть ли не за ногу его:
– Вы не говорите там, дяденька дуана, кто я. Скажите, что собирала кизяк, заблудилась, а вы меня и нашли.
Дервиш нахмурился и произнес:
– Э, дитя мое! Разве хорошо врать? Лжец – враг Аллаха, – и пошел уже не спеша.
Ленивый пес, услышав стук дервишевского посоха, повел лишь ухом, а когда показалась и шапка чужого человека, то пришлось ему встать, дошло, что теперь не полежать, и он принялся усердно лаять. Тут и выбралась из-под коровы женщина в драных кожаных штанах под задранным платьем в обнимку с ведром, поправила сползший набок грязный белый капюшон замужней бабы – кимешек, из которого выглядывал лишь нос, и замахнулась ногой на собаку:
– Пошел вон, вон пошел!
Дервиш заложил по сох за спину и приблизился к ней:
– Эй, мать, мы Богом посланные го сти.
Баба не ответила, вытянула шею, стараясь разглядеть пристроившуюся за спиной дервиша Акбилек.
– А это что за девочка?
– Так можно остановиться? Разрешите?
– Ойбай, ау! Когда там богачи живут… Мы и гостей-то принять как следует не можем… – только успела проговорить, как к ней подскочила Акбилек:
Тетушка, да мы и скисшему
– молоку будем рады. Мы к вам и шли, знали, не обидите…
– Ойбай, дорогая, ау! Что ж, если пришли… ничего не поделаешь… разделите с нами что е сть, – подобрела женщина, услышав нежный голосок, готова была не только принять ее, но и обогреть, как сможет.
– Раз так, проходите в дом! – и повела незваных гостей в низенькое свое жилище. – Перекладину не заденьте. Пониже голову, туда, туда!
Хозяйка шла за гостями, указывая, как следует проскочить сквозь покосившуюся дверцу. Вошли. Акбилек потянула на себя прибитую к двери веревку, чтобы ^прикрыть ее, но та еще более накренилась и, как упрямая скотина, никак не желала сдвинуться с места. Оставила эту затею.
В комнате было темно, как в каменной пещере. Баба куда-то вела дервиша, слепо вцепившегося в нее, и Акбилек поплелась туда же.
– Кто это, мама? – раздался голосок ребеночка.
Под ногами Акбилек шуршало сено. Вонь тянулась
изо всех углов. Мерцала какая-то дыра, видимо, представлявшая собой нечто вроде окна. Акбилек неловко пристроилась рядышком с дервишем на какую-то подстилку, валявшуюся на полу. Здесь дервиш зычно вскричал свое:
– Истинный!
Акбилек вздрогнула, а баба от неожиданности на выдохе помянула задницу.
Ребенок заверещал, заплакал и, взывая к матери, устремился к ней. А мамаша ему:
– Заткнись! Возьми его, дуана! Ухо тебе отрежет!
Малыш тут же затих.
– Э, дитя мое, не плачь! Не отрежу, не отрежу, – успокоил его дервиш.
– И куда это делся треклятый светильник? – произнесла хозяйка, поводя руками вокруг себя, и, ворча, выбралась наружу. Скоро она вернулась, неся прокопченную крышку от металлического кувшина, криво установила ее на край печки, капнула масла на тлеющий фитиль, размяла огонек обветренной рукой. Затем ее руки вновь скрылись в темноте. Теперь она в упор смотрела на Акбилек. Опасаясь, что женщина ею вновь заинтересовалась, Акбилек жалостливо попросила:
– Тетушка, можно водицы попить?
– От воды водянка сердца случается, попей простокваши, – ответила та.
– Тогда мне простоквашу, разбавленную водой. В горле пересохло.
– Напою, дорогая, напою.
Баба принялась копошиться у печи, стуча посудой.
В этот миг из печи, как в сказке, показалась лохматая головка совсем уж маленькой чумазой девочки. Дервиш, прислонивший по сох к стене за своей спиной, внезапно наклонился и затянул-заныл что-то свое. Замарашка так и вытаращилась на него.
Баба поднесла Акбилек плоский темный ковшик, внимательно вглядываясь в ее лицо, а у той веки закрываются, пришлось придерживать у ее губ посудину. Пока Акбилек пила, она стояла и, посматривая в сторону дуаны, с хрустом почесывала свою ногу через дыру в подоле. Не успела она отойти, как Акбилек, нащупав позади себя то ли зимнюю шубу, то ли ватные штаны, в общем, какую-то домашнюю рухлядь, упала на нее и прикрылась чапаном. Как стала Акбилек валиться набок, дервиш подвинулся, а потом и вовсе встал и почти на ощупь выбрался из дома. Увидев, что ее го стья прилегла, вышла и хозяйка. Что там было дальше, Акбилек неведомо, провалилась в сон.
Во дворе баба насела на дервиша, выпытывая у него все о его спутнице. А услышав: «Дочка Мамырбая», произнесла, все поняв: «А!» То, что она уложила в своем доме дочку самого Мамырбая да угостила – новость столь великая, что не вместиться ей только в одной бабе, надо обязательно быстренько сбегать к Дойной верблюдице за горстью муки.
Что за нелепица! Станет ли нормальный человек выпрашивать у верблюдицы муку? Непременно баба побежала к соседке, известной как Боз-изен. Да, хватает казахам ума дать порядочной женщине такое имечко. Спасибо, что не дали кличку вроде Бут-жимас, с намеком, что такая никогда ляжки свои не сожмет. Однако, если желаете, расскажем, кто такая эта Боз-изен. Мы это запросто. Посудачить, потрепать языком для нас – одно удовольствие, так что, если начали, значит, понеслось.
А говорим мы о жене известного Мусабая. Каждая аульная собака знает, что прозвали ее Дойной верблюдицей за свойственную ей манию величия. Если бы даже степь заговорила вдруг о своей значимости, то и ей не переговорить Боз-изен; поток бахвальства до сих пор так и изливается из ее рта, несмотря на то что хвастунья постарела изрядно. Как ни старались недруги, так и не смогли разубедить Боз-изен в ошибочности выбора ее страсти. Тонкошеий муженек ее, затасканная борода, не смел и вякнуть, выслушивая супругу. Да, точно, бьпь бы Боз-изен не только первой и неподражаемой в ауле, а может даже и в полумире, если бы не путалась под ногами тут одна рыжая носатая сучка – женка Бирмагана, рта ведь не дает раскрыть! Женщины, прелесть, начнут ругаться, так такое наворочают… Хватит, пусть им!
Так о чем это мы? А-а, о той бедняцкой бабе, устремившейся к Боз-изен. Интересно, что это она не побежала к Рыжей, приходившейся, между прочим, ей родственницей? Есть, значит, в этом какая-то хитрость. Наверняка решила, воспользовавшись немыслимым случаем, подоить еще разок верблюдицу (надо сказать, такое уже удавалось).
Когда вошла соседка, Боз-изен укачивала своего светловолосого ребенка Ануарбека, которого Рыжая звала не иначе как ублюдком. Надо же – назвала сына в честь какого-то знаменитого турка, о котором и слышала-то краем уха! Как же еще, паршивого пса непременно назовут Волкодавом.
– Успокойся же, Ануар-жан! Поспи, миленький! – и ладошкой похлопывает плечико сыночка, поглаживает, одеяльце поправит, под бочок подоткнет, смотрит – не налюбуется.
Увидев, что у дверного косяка мнется соседская баба, Боз-изен важно нахмурила бровь:
– Кумсинай, ты по делу или так?
– По делу… Есть одно… – Кумсинай бочком-бочком приблизилась к Боз-изен.
Боз-изен расправила на плечах края кимешека, уселась поудобней и в ожидании более-менее свежих новостей подставила соседке ухо, угадывающееся под белой тонкой тканью накидки. Та стала нашептывать.
– А, оставь! – откинула голову Боз-изен, но тут же наклонилась щекой к собеседнице, азартно, как охотник к прикладу ружья. – Так она одна?
Но всласть поговорить не удалось, сообщили, что вернулся муж, и пришлось хозяйке встать и пройти в переднюю комнату. Вернулась с чашечкой муки, отдала ее соседке и сказала:
– Сама зайду.
– Зайдите, да смотреть не на что. Спит она.
Для Боз-изен возражение Кумсинай, что топот вши для уха. Не откладывая столь важное дело в долгий ящик, она поспешила в летнюю кухню, ще кипятила молоко ее свекровь, и, подмигивая, сообщила той все, что только сама узнала. Старуха попробовала на вкус молоко и принялась раскочегаривать огонь в печи. С видом, мол, мне все равно, Боз-изен поправила гриву под кимешеком и направилась искать мужа. Супруг, справив нужду на заднем дворе, возился со штанами: одна рука на поясе, вторая – под. Наскочив на него, Боз-изен выдернула его руку из глубин исподнего и ошарашила:
– Ой, ты слышал?!
Оповестив таким образом всех в собственном доме, Боз-изен рванула с этой новостью наружу, вышла и, важно сложив ручки калачиком на передке, двинулась по домам. Так она прошлась с треском по всему аулу и с быстро сложившимся хвостом в виде одной девицы и двух баб добралась до жилища Кумсинай.
Боз-изен хотя и не супруга большого начальника, но была в курсе всех событий, происходивших в волости, вмешивалась и в партийные дрязги, и вовсю крутила богатыми господами, ухо держала востро, до всего ей дело, общественная, значит, была личность. С мужчинами могла сразиться и в шашки, и в карты, за компанию табак заложить за губу, го сть у нее непременно запоет, а если разойдется, то и сама затянет с ним песню. И с молодыми она свой человек. Лишь один крохотный дефект присущ был ее персоне: на ней самой платье всегда в идеальном порядке, а вот до остальных женских забот ей дела нет. Новенькие одеяла раскиданы как попало, постель никогда не убирается, замусорена, вещи в беспорядке. Мерзкая Рыжая так и треплется о ней: «Задницу даже свою не подошьет!»
Рядышком с Боз-изен крутилась весьма схожая с ней красивенькая романтичная девица. Это Айтжан, что ли? Да, она. Свою Айтжан она нахваливает, просит помузицировать на домбре, песенки спеть, сводит с парнями и сама среди них, а дойдет во время шуточек до непристойных выражений, куца там этой Айтжан до нее самой. Так вот, выдала она недавно эту Айтжан замуж, теперь скучала без затей, а тут вроде как сам Бог послал такой удачный случай развлечься Боз-изен:
– Бог мой, нет чтобы зайти к нам, потащилась к этой несчастной Кумсинай, с чего бы это?! – идет и возмущается.
Боз-изен любопытно: что собой представляет девушка, на которую глаз положили русские? Чем хуже ее Айтжан? Как одета? Конечно, не те вопросы, Боз-изен важно увидеть, что с ней стало после русских? Это только и узнать. Русские заскакивали и в ее аул, бабы-девки попрятались среди скал, а она сама попала троим солдатам в руки, натерпелась от них. Одна девушка из нижнего в ауле дома тоже не успела скрыться и от таких дел помешалась, лежит до сих пор тихонько так у печки. Однако способно ли даже такое насилие изничтожить в женщине ее натуру в самом что ни на есть естественном чувственном смысле?








