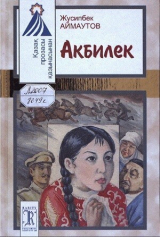
Текст книги "Акбилек"
Автор книги: Жусипбек Аймаутов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
– Да он же зде сь с Бекболатом охотился. Услышали женский крик и сразу в погоню…
– Убит пли еще жив?
– Пока жив, хотя кто его знает…
Приехавший оказался одним из тех, кто привез Бекболата в аул, там они наложили повязку на его рану и разъехались по разным сторонам.
«Да, смерть, она, это… хочешь не хочешь, а свое возьмет, как ни крути, ей в глаза смотришь, а она все равно подкрадется сзади, как юр, только и узнаешь, когда скосит… Ну, кто и что против нее выстоит?» – пошво-рил и, а назавтра, собравшись, старуху и похоронили, обращаясь к Мамырбаю с соболезнованиями: «Что поделаешь… надо терпеть, значит, пришло время…» И никто не посмел об Акбилек сказать больше, чем: «Страшнее смерти… надо надеяться!» Такая рана, что и язык не поворачивается назвать все своими именами. Ведь рана эта разорвала не только Мамырбая, а пролегла по достоинству всех, мучительно унизила.
А когда у собравшихся на поминки людей чуть перестало так болезненно саднить в душе ощущение, что во всем произошедшем и их вина, проистекавшая от рабской натуры, от нежелания защитить ни себя, ни ближних своих, то стали они сбиваться тесно, гадать и фантазировать всякий на свой лад. Одни:
– Родичи, кто-то мстит аксакалу. Кто-то свой. Иначе как бы они прокрались на крутом косогоре в аул, не сбились…
Им вторили:
– Верно говорите, искали бы баб, то таких полно в известных местах. И тут без казахов не обошлось. Откуда русским знать, кто и где живет? – заключили так.
Другие:
– Кто же такое задумал?
– Чьих рук это дело? – стали прикидывать в уме.
– Кто же так ненавидел аксакала?
– На пустом месте и сорняк не прорастет, если, конечно, в этом деле не замешаны жаманбайларовские.
– Оставь, да кто из них на такое осмелится? И потом, не враждовали они никогда. Наверное, кто-то чужой.
– Похоже, это дело на совести сторонников Курбан-кажи, стали партией, станут ли жалеть теперь не своих? – проговорили сбоку.
– Ну и чушь ты несусветную несешь! Что, партии у нас появились только сегодня? Таких дел у нас никогда не заводилось, поешь с чужого голоса, яичко целенькое хочешь поднести кому-то, дыню спелую… Не способен Курбан-кажи отдать на растерзание неверным дочь мусульманина. У него самого дети, как он Богу в лицо-то глянет? – заставил сжаться обвинителя белобородый мужчина с волчьим взглядом.
– По-моему, это дело за Абеном, – произнес человек с синеватым клювом на пятнистом лице, опрокинув на ладонь табакерку и рассевшись, как ему удобно. – В прошлом году подсунул русским свою лошадь с проплешинами, с тех пор кровь в нем как встала: «Эх, как бы еще такую штуку провернуть!»
– Эй, да что он может? Он же ни на что не осмелится без указаний таких, как Мукаш. Да если за ним никто не стоит, он даже задницу свою подтереть не способен, – снова непререкаемо заявил волчеглазый мужчина.
Перебрали всех, кто имел повод мстить аксакалу, набралось десять-пягнадцать лиц, перебрали всевозможные варианты, но одними предположениями никого не удалось зацепить за копыто. Дело осложнялось еще и тем, что подозревали одних и оправдывали других по причинам, далеким от сути дела, связанным с партийными конфликтами, родственными ссорами: некто не так взял, а тот не так отдал, один не поделился мясом украденного скота, второй оттого, что жена от него сбежала, или, наоборот, оттого что лип к чужим женам, дочерям, а кто-то отвечал за то, что болтал лишнее, – каждый плясал от своих болячек, выворачивая свое нутро. Один горло перерезал, другой кожу сдирал. Помимо тех, кто искренне утруждал себя на этом судилище, нашлись и такие, кто пришел тайно позлорадствовать над аксакалом Мамырбаем. Были и откровенные провокаторы, как тут упустить подходящий случай све сти счеты, если так хочется! Тех же, кто пришел выразить свое искреннее соболезнование горю аксакала, оказалось маловато.
То обязательное сочувствие, кое проявляется не только по отношению к друзьям, но и к врагам, выразили единственный сват, кое-кто из действительно доброжелательных людей да не сколько соседей, к которым особенно приветлива кумысом до краев чаш была хозяйка. Атак… хотя и сопереживали люди, а не могли избавиться и от неуместных мыслишек по сему происшествию.
Общество, разойдясь после похорон и всяких траурных церемоний, бродило в умственных поисках, прислушиваясь, переспрашивая и соображая, кто же все-таки устроил такую подлость. Потому как не с одним обрубленным Мамырбаем с недавнего времени нечто подобное стало приключаться, таким же образом пострадали еще несколько аулов. И скот утоняли, и аудъчан
плени-ш, грабили, унижали, жгли. У народа-то ушки всегда на макушке, как ни таись, как ни скрывай, а всегда есть человек, который что-то слышал, что-то знает, не так ли? Посудачили, потрясли слушки да приглядки сколько надо, и выпало, что в этом замешан не кто иной, как Мукаш. Спрашиваете, как раскрылось?
А вот так.
Нашелся один чабан, видевший, как в тот злополучный день ближе к вечеру Мукаш рысью несся к Кара-шату. Первая зацепка. Одна сношеница бабы Мукаша, когда та завредничала и не дала ей сито, говорила: «Как будто я не знаю, куда ты припрятала все добро-то людское! Побе сись у меня, повертись! Все знаю! Знаю, чей тот червленый ковер, и знаю, откуда у тебя взялись белый войлок и то платье батистовое…» Услышали и тут же послали к Мукашу неприметного человечка из дома Сулеймена, он вернулся и доложил: узнал ковер. Второе доказательство. Нашлась и хозяйка зеленого батистового платья и зеленой безрукавки. Третья улика.
Тут еще один малый по имени Суьгрбай уверял, что заметил, что пестрый конь Мукаша, по всему явно, провел всю ту ночь под седдом. Этот Суьгрбай особым доверием ни у кого не пользовался, но все равно… в ту же копилочку еще один довод – четвертый. И Тезекбай мулла заметил, между прочим, что Мукаш – любитель проводить ночи где угодно, но не дома. Человек он простодушный. С этим – пять. К тому же все помнили, как сын Мамьгрбая, собрав на Мукаша нужный материал, не позволил ему стать волостным, чем вызвал у претендента обиду. Так что, если это не Мукаш, то кто? «Мукаш, некому, кроме Мукаша», – так все и решили.
В поле зрения теперь у народа Мукаш. Что с ним делать? Как отомстить? Зарубят? Отдадут под суд? Или все же убьют сами? Дом сожгут и по миру пустят? Люди готовы были свершить и одно, и другое, а то и все разом. Однако не выпал случай. А случился факт, положивший конец многим планам. И факт состоял вот в чем.
Лишившийся и супруги, и дочери, Мамьгрбай с утра пораньше сидел на бугре в открытой степи и всматривался куца-то, вдруг видит, как несется к нему всадник со стороны соседнего аула, с развевающимися по ветру ушами зимней шапки, встал, поприветствовал с седла. А как поздоровались, так сразу и Доложил.
– Бай, слышали, что этой ночью произошло?
– Нет.
– Ойбай, такое творится
– Что, сердечный ты мой?
Благодаря Господу теперь вздохнем полной грудью…
Что-то с Мукашем?
Нет, ойбай…
Так говори!
Красные перехватали всех белых в горах.
Как? А где Акбилек?
Об Акбилек ничего не известно… Так сказать, всех поголовно схватили.
Так это… как узнали? От кого?
Приезжали с аула Туркулака. Там остановился отряд красных, и Мукаш заманил белых туда, и красные их там всех повязали. До того белые растерялись, что и не дернулись даже. Эти собаки против баб только сильны, а как прижмут самих, так сами – никто.
И как Мукашу уцается обманывать всех?
Нашел лазеечку, он же плут, известный авантюрист…
Так значит, он снова с красными снюхался…
Еще как! Теперь его снова ждет большое место.
Это-то и задумывал подонок. Святые, ай, что с Акбилек стало, а? О ней ты ничего не узнал…
Мамырбай коряво встал и, с трудом передвигая ноги, двинулся домой. И, торопя людей, отправил пятерых конных на поиски Акбилек.
Пусть эти всадники объезжают аулы, расспрашивают встречных в степи, а мы пока расскажем новости об Акбилек.
Стесненная и перепуганная, как джейранчик, Акбилек с полными слез глазами все думала и думала о матери, об ауле, отказываясь даже от крошки хлеба, застыв и скорчившись от голода, желая одного лишь – умереть, однако мотылек души все еще трепыхался в ее груди, не желал отлетать. Какую же капельку нектара крылатая душа выискала в этой поганой жизни, удивительно!
Человек живуч – смерть переживет, что ему неволя да застенки, ко всему привыкает, ему и на войне жизнь. Даже приговоренный к казни человек пьет, ест, видит сладкие сны, и жизнь его не утомляет. Не думаю, что есть на свете существо более живучее, чем человек.
Какой бы ни была Акбилек омертвелой, но и она постепенно сжилась со своей участью.
Прелесть бытия ли, страх ли, инстинкт самосохранения или страстность мужчины… как бы там ни было, велит Черноус: «Целуй», – Акбилек прикасается к его лицу губами, «Смейся», – скажет и видит растянутый в улыбке рот, просит: «Поговори», – и она бормочет заученные и непонятные для нее русские слова: «Люблю тебя».
Почти месяц Черноус не отходил ни на шаг от Акбилек. Так и бродил с ней по зеленым горным лугам, по лесу, то ведя ее под ручку, то обнимая за талию, то вплетая ей в волосы сорванные цветочки и собирая для нее сладкие ягоды. Вел ее к родникам на покрытых кустарником склонах, снимал с нее сапожки и мыл ее ножки и целовал их, щекоча ей пятки черными усами. А если Акбилек уставала, нес ее, устраивая ее голову на сгибе одной руки, а под коленями утвердив другую. Сам поил ее чаем, кормил со своей ладони, сам взбивал и стелил постель в самом отдаленном месте жилища и, устроив ее с собой под серой шинелью, так те сно прижимал ее к себе и так жадно и долго впивался в ее губы, лаская все ее тело, что сердце Акбилек поднималось к горлу, пульс учащался горячо, сгорая, она закрывала глаза и, забыв саму себя, слабела и открывалась ему…
Что было затем, и не помнила сама… Словно оказывалась в другом мире.
Готовность Черноуса убить любого, кто прикоснется к его кызымке, преклонение перед ней, доходящее до щенячьей радости лизать ей ноги, утомительное нежелание отойти от нее даже на шаг, взгляд, наполненный топящей нежностью, слова, вроде как стихов, были непонятны Акбилек. Разве так измываются или унижают? Или он действительно влюблен в нее?
Если не так, то, может быть, его поведение можно, наверное, объяснить лишь только тем, что он давно не видел женщин? Додумать дальше она была не в состоянии, особенно если помнить, что, как бы ни близок к ней был Черноус, все в нем – от запаха до жеста – оставалось для нее чужим. Они были настолько разными, насколько отличаются друг от друга земля и небо, но когда их тела сливались, все отличия вроде как исчезали. Время от времени Акбилек, считая, что мужчина не должен так пресмыкаться, пыталась найти оправдание его коленопреклонению перед ней и находила, надо сказать. Он – мужчина, муж ее, но ведь неправоверный! Не так сидит, не так молится, не так говорит, пьет водку, ест свинину, воняет табачным дымом. И как она позволяет его грешной груди прижиматься к ее белым грудям?!
В сумеречный час одного дня сидения в ущелье русские, возбужденно переговариваясь, принялись собираться куда-то: чистили и заряжали винтовки, осматривали упряжь, седлали коней. Как раз в это время Акбилек возвращалась с Черноусом с прогулки по ле сной чаще. Она сразу поспешила скрыться в лачуге, свернулась там на солдатской подстилке и, вздохнув, вспомнила аул, прижимаясь лицом к решетке коша. Сквозь прореху кошмы было видно, как Черноус направился к толпе русских, деловито и споро собирающихся в путь, и заговорил с ними. Вернулся он нахмуренным, со сжатыми губами, осмотрел затвор своей винтовки, вогнал в нее патрон, стал собирать свою одежду, поднял свое седло… А когда Акбилек подняла голову и посмотрела ему в лицо с немым вопросом: «Ты куда?» – тревожно бросил на нее взгляд. И хотя длился он лишь мгновение, был он настолько тяжел, что Черноус тут же опустил глаза, смутился. Через какое-то время он вышел и вернулся уже с толмачом. Тог перевел его слова:
– Мы уходим воевать. А ты что делать станешь?
Акбилек изумленно уставилась на него, не зная, что и ответить. А когда прозвучал вопрос:
Где бы ты хотела быть? – Акбилек уронила голову, пожала плечами и плачущим голоском:
А вы не отвезете меня обратно в аул?..
Черноус отрицательно качнул головой и спросил:
Хочешь поехать с нами?
– На войну?
– На войну, – произнес Черноус и положил ей на плечо руку.
Акбилек замотала головой:
Тогда оставьте меня здесь.
А ночью не будет тебе страшно?
Если и будет, то все равно… останусь… а вы вернетесь? – вырвалось у нее.
Это невозможно, – ответил Черноус дрогнувшим голосом.
Как только смолк разговор, вошли еще трое русских. По их мимике и резкости голосов Акбилек поняла, что над ней нависла самая ужасная угроза. Черноус сердился на них, прищурив глаза, говорил сквозь зубы и заставил их смертельно побледнеть, русские задергали шеями – принялись оттягивать пальцами воротники, словно как от удушья.
Акбилек догадалась, что он им ответил: «Не отдам вам на растерзание», – и с благодарностью уставилась на Черноуса. После ухода тех русских Черноус сел и резким поворотом головы велел и толмачу выйти вон. Какое-то время он сидел, опустив лицо вниз и растирая ладонью капли пота на лбу, затем, тряхнув рукой, вскочил и протянул ее к Акбилек, словно просил: «Пойдем». Она тут же поднялась.
Черноус взяв Акбилек за руку, вывел ее из коша и повел вправо, в сторону кустарника вокруг родника.
Порывистый жужжащий ветер. Безлунье. Плотная тьма. Темные, ледяные, всклоченные облака стадом скрыли вершины гор, а на небе черная голодная курица торопливо выклевывала зернышки звезд. Вместе со звездами гасли и лучики зажегшейся было надежды. Полное то ски сердце Акбилек угасало вместе с ними. Заблестевшими глазами она все всматривалась в лицо Черноуса. Лицо его потемнело, глаза налились кровью, ноздри трепетали. Шаг его тверд, что особенно не нравится, сердечко все сжимается, и душа ушла в пятки. Углубились в чащу, а когда оказались на поляне, густо окруженной деревьями, Черноус остановился, постоял неподвижно, всматриваясь в глаза Акбилек, обнял, прижал к себе и трижды поцеловал ее в губы. Затем он отошел от нее на пять-шесть шагов, но прежде его ладони, легшие ей на плечики, жесткостью своей словно велели: «Стой так». Перехватил с плеча винтовку и направил ее на Акбилек. Она с визгом, протянувшимся в стон, кинулась прямо на ствол. Целившаяся рука Черноуса вздрогнула, и винтовка упала на землю.
– За что? Чем я провинилась? Дяденька-а-а! Что я сделала?.. – Акбилек зарыдала, с дрожью во всем теле повиснув у него на шее. – Поцелуй меня, пожалуйста… Ласково.
Черноус приподнял руки и вяло обнял ее, похлопал по спине ладонью – сжалился. И снова принялся всматриваться в ее лицо, поднял винтовку и вернулся с Акбилек в лагерь. Там он подозвал толмача и объяснился:
– Я люблю тебя, ради тебя душу погубил, не хочу, чтобы тебя кто-то любил после меня.
Акбилек оледенела до самой крохотной косточки. «Ой, Создатель! Нельзя, нельзя верить русскому! Все это время он вел себя как любящий муж, а, прощаясь, решил убить, любит… любит только себя! Черствость… черствость, что ему кровь пролить?! Сам жить хочет… но ведь и я не хочу умирать! Пожалей…» – такие мысли пронеслись в ее голове и в последний миг она нашлась:
– Не убивай меня! Позволь мне жить! Может бьпь, когда-нибудь я снова стану нужна тебе, ведь ты не знаешь? Мне приснилось, что я шла за тобой и звала тебя в город. Ты возвратишься живой и вернешься к своим… поверь мне.
«Добрые пожелания – половина успеха» – простенькая пословица, но согревает любое сердце, особенно – идущего на смерть. Черноус воспринял слова Акбилек как хороший знак и, словно принимая ее предсказания, поцеловал ее в губы.
В сумерках, приятных лишь в теплых домах у уютных ламп, русские, повинуясь гортанному приказу, вскочили в седда и гуськом потянулись из узкой горловины ущелья. Вместе с ними стала отдаляться от Акбилек и ее тень, навек перепуганная, униженная и развращенная мужскими ласками. И пока доносилась до нее дробь конских копыт, она невольно вдыхала: «А-а…» и выдыхала шепотом: «Алла…»
Акбилек одиноко бродила по оставленному лагерю русских, как приблудный щенок, но одиночество ее не тяготило. Умереть, скитаясь в безлюдных горах, ей казалось предпочтительней, чем от пули. До последнего звука удалявшихся всадников она все не верила: «Создатель, неужели Ты спас меня?» Затихло. И она, бросив им вслед горсть песка – как похоронила, с облегчением вздохнула и наконец огляделась вокруг.
Промозглая лохматая груца туч уже черным двугорбым самцом накрыла белые горные вершины, растеклась непроглядным мраком по всем склонам. Вот и приглядывавшая за ними звезда поспешила скрьпься с небес, как робкий пастух, увидевший крадущихся к его стаду лихих воров.
Хладная мгла, ау! Как в ней разглядеть черный туман, клубящийся в душе Акбилек?
Осенняя листва! Что гукаешь, кого ты, пожухлая, пытаешься убаюкать, ау?
Перепелки, ладно вам на крепких ветвях, беспечны, беззаботны, ау! Хорошо вам призывать и надеяться на отзывчивость кромешной ночи. Вам ли утолить тоску в сердце Акбилек? Иль уверены, что вам дано донести до Бога жалобный плач истерзанной белохвостым сарычом уточки, сломленным крылом тыкающейся в землю среди покосившихся пустых кошев и все еще глядящей в небо?!
Тучи, ау, отчего вам не рассеяться?!
Листья, ау, чем, шурша, разлетаться по земле, укройте лучше печальную красавицу!
Студеные ветра, не петляйте беспутно, а донесите отцу весточку о доченьке его, брошенной в гиблом провале.
О бездушные природы формы, ай! Язык ваш алтайский израненной красавице незнаком! Пропала не пожелавшая считаться с хмурыми вашими личинами и угождать вашей воле прекрасная заложница! Доверилась богу Алтая и вот пропала!..
Ночная чернь сгущалась. Акбилек ужасалась. Над ее головой пронеслось нечто, многое числом. Дрожь охватывает Акбилек. С треском что-то взлетит, заколышется в траве, зашуршит в кустах, заухает – Акбилек замирает, прикрывшись ручками, словно вот-вот схватят ее неведомые чудища. Приляжет – нет сна. А сидеть совсем страшно. И двинуться куда-нибудь боится, к тому же легко можно заплутать и покалечиться в темени… Но все равно из головы не идет острая мысль: уйди отсюда скорее. Но куда в .полночь? Не решится никак. Мерещатся ей родные чертоги, в них вещи казахские, посуда казахская… Рядом вроде как жилище – кош, казалось бы, уже привычный, но шагнуть она туда не в состоянии, как бы ни жутко было под мрачным небом.
Не представляя, что теперь делать, Акбилек сидела, сгорбившись, съежившись, пугливо озираясь по сторонам. Похоже, на ночь напластовалась еще одна ночь. Даже корыто, валявшееся тут перед близким кошем, не виднелось. Создатель, ай! Скоро ли заря?!
В какой-то момент показалось, что из лесу доносится завывание. Так жутко. В ближайшем распахнутом и скрючившемся ведьмой коше завозились какие-то тени. Акбилек приходилось за
аулом у отар слышать волчий вой: тот же звук. Быть не может, ай! Неужели волки?.. Что мне делать? Перестань, не решатся волки, откуда им знать, есть ли в кошах люди, и русские с ружьями такие страшные – побоятся… Или они поняли, что эти покинули лагерь? Когда эти были здесь, волки и пискнуть не смели…
Косяк двери коша тихо скрипнул. Вроде кто-то показался. Но беззвучно. У страха глаза велики, но все равно не видно ни зги. Встать бы – не получается. Завывания вновь стали слышны, все отчетливей и отчетливей. Вой все нарастал. Потрясая горы, сметал все иные звуки. Руки Акбилек сами по себе дотянулись и вытянули из-под войлока коша один из шестов. Перехватив двумя руками березовую палку длиною в сажень – переломит любой хребет, она встала за лачугу. Кому как не ей встретить волков во всеоружии, больше ведь, действительно, некому. Завывания вроде стали стихать. Положив свою дубит” на землю, Акбилек чуть перевела дух, но, оказалось, рано успокаиваться. Донесся всплеск воды со стороны родшпса,..
Кто это?.. Человек? Зверь?.. Все равно, кто. Акбилек, присев, снова ухватилась за шест. Затаила дыхание, замерла.
Тут и вспыхнула в черной пелене пара круглых глаз. Красные-красные, пылают огнем. Акбилек вскочила и оказалась в коше, вдавилась спиной в самый дальний краешек. А что ей оставалось делать, если палка выпала ад ее рук еще у входа в кош. Осторожно поползла, вытя-руку наружу и принялась шарить ею по земле… гладь: два огонька умножились в четыре. Если бы так! За ними вспыхнула еще пара багровых пятнышек. Шесть горящих волчьих зенок виделись Акбилек как шестьдесят. Пречерная ночь наполнилась одними горящими глазами. Они мерцали, то притухая, то вновь разгораясь, мелькали, близились…
Неужели все взаправду?.. Уже шуршит трава под ними.
Там-здесь, вот они…
Ойбай, ай! Свора волков!
Куда же мне теперь?!
Берегись, вот они колышут пологи коша, обнюхивают землю…
Ой, Создатель, ай! Неужели найдут?..
Ой, святые, ай! Один из серых нашел у потухшего очага кость и вгрызся в нее.
Представь себе только, что стало с Акбилек!..
Она дышать не смела, так и застыла.
Скоро в открытом проеме коша, скрывшем Акбилек, появилась, урча, волчья морда…
Прорезавший ночь отчаянный крик Акбилек заставил волчару отскочить в сторону, на секунды подарив надежду на спасение, но хищные глаза вновь полыхнули, пасти оскалились, урчание усилилось. Волки бросались то вперед, то крутились на месте, рокотали утробным гулом. Акбилек, понимая, что звери непременно кинутся на нее, решила опередить их, стремительно выкатилась кубарем к ним навстречу, схватила палку и с криком принялась размахивать ею по сторонам: все равно ничего не видела.
Время от времени она слышала особенно злобный рык. Иногда от удара шестом то ли по подвернувшемуся хищнику, то ли по кошу сладостно отдавало в руки. Кружение все быстрей и бешеней. Акбилек, обезумев, машет и машет палкой. Волки сомкнулись вокруг нее. Акбилек лупит, волки увертываются, Акбилек колотит, волки напрыгивают. Акбилек молит Бога, волки бе сятся. Акбилек пищит… волки рычат… Акбилек вопит, волки воют… Так и билась она с ними, долго…
Акбилек почти уже задохнулась на нервном срыве, в горячке и метаниях, гибнет, нет спасения… «Сейчас упаду, сейчас, сейчас вцепятся, растерзают, съедят…» – неслось в голове, как вдруг под ее ногами что-то ярко вспыхнуло. Волки отскочили. Оказалось, угли костра – чай попили, а угли до конца не погасли… Акбилек тут же принялась раскидывать их по кругу своими ногами. Чудо! Огонь, зола и потаенно чуть тлевшие веточки вспыхнули с новой силой. От разгоревшегося костра волки и отступили разом.
Акбилек поспешила подбросить в полымя тут же валявшиеся заготовленные сухие ветки, кору. И ветер уважил, раздул костер высоко, словно оправдываясь: «Я, вообще, был на твоей стороне, видишь?» И чем ярче разгоралось пламя, тем тусклее становился огонь в волчьих глазах. Прежде смерти огня не умрешь. Погаснет пламя, и жизни Акбилек суждено будет угаснуть. И как зде сь не зашаманить самой?
«Взлетай, мой огонь, взлетай! Разгорайся, мазда, разгорайся, дай огня, дай! Трусливые звери, немое вражье! Вот огонь, вот ружье! Прочь, не приближайтесь ко мне! Вам гореть в огне! Обожгу, опалю!» – скакала и выкрикивала в полубезумии до самого рассвета Акбилек: «мазда-мазда» и спаслась.
Стряхнул Алтай с морщинистых чресл своих темную ночь с кровавыми глазами и
чудовищными клыками, тонко прочертил на свинцовом небе в таявшем лунном свете черты солнечной, сказочной красавицы Кунекей. Небесный купол на восходе насыщался белизной, вершины гор засияли позолотой. И лишь открылись врата зари, райские да красные, Акбилек, пугливо оглядываясь назад, пошла. Подпоясалась веревкой от войлочного покрова, прикрывавшего дымоход коша, и пошла в найденных в коше солдатских сапогах, ей голенища – по пояс, в руке – ночной шест. Кого она собиралась колотить им еще – неизвестно, как бы там ни было, прихватила с собой.
Вспыхнула заря, опомнился и ветер, тучи распались. Взлетевшие с гнезд жаворонки устремились к скалам, требуя от каменных громад плату за право первыми лицезреть солнцеликую Кунекей. Жаворонки, ау, попросили бы вы у нее за Акбилек. Впрочем, не надо, она и так идет, сияя. Лицо ее озарено. И впереди у нее лучистый день! Тотчас она забыла страшную длинную ночь, смертельную пляску с волками, постукивает себе с камня на камень подковками армейских каблуков, не угнаться!
Акбилек неслась, как звук буквы «Э». Торопилась к своим, насмотрелась на русских, чужих, гадких, хотели убить ее – вот какие! И не было у нее иного пути, чем проскользнуть сквозь ушко иголки. Позади нее – безлюдные горы, горы, полные чудовищ: медведей, волков, албасгы, кабанов с одним глазом во лбу. Впереди – узкая тропинка, и на ней хватает зверья: никто не даст гарантий, что ночные клыки не встретят ее на предстоящей дороге.
Кто выведет ее, если не она сама? И двигает тяжелые сапоги мамина неженка, забыв о еде, сне, усталости, желая только увидеть краешек родного аула.
Торопливо удаляясь по склону горы, Акбилек бросила последний взгляд назад. Лагерные коши внизу выглядели покосившимися, ненастоящими. Но лес горный тот, та поляна, то тенистое местечко, те катящиеся камни – все свидетели ее унижения, там поизмывались над ее девичьей честью. Упадет на них взгляд, и тут же охватывает ее жгучий стыд, в котором все вме сте: и чувство вины, и отвращение. Так обделается щенок на чисто выметенном половике хозяйки, возьмешь его за холку, ткнешь его но сом в его же пакость, так он мордочку воротит, скулит, пытается пятиться назад. Вот и Акбилек, как тот щенок. Не хотела ничего видеть, отвернулась. Как ни торопилась Акбилек, все равно скалы, валуны, каменные изломы скрывали от нее родное плоское лицо степи. Но настал час, когда солнце поднялось над всем горным хребтом на вышину копья, и задыхавшаяся Акбилек выбралась на самый краешек каменной ловушки, увидела туманное степное пространство. Обрадовалась, словно оказалась у родного порога. И пришла в такое восхищение – дай крылья, взлетит!
Колени подгибались, в лодыжках захрустело. Ничего, потащилась дальше. Стараясь не размахивать руками, спустилась по склону в низину. Хруст в ногах вроде как чуть стих. Все надеялась, что у нее еще остались силы; действительно, по ровной земле идти вроде как полегче стало, а взошла на еще одну сопку, ноги налились свинцом, заныли, кости словно переломились.
Где ее неутомимые ножки, скорые в играх в догонялки, как у зайчика? Сглазили ее или что-то еще хуже подступается к ней? Представить страшно, ай, вдруг судороги! Хоть показался бы какой-нибудь аул, если не аул, то одинокий казах, если и казаха не станет, то хотя бы животное какое. Но холмы бугрились и выглядели лишь одними преградами, и более ничего и никого не видать.
Пройдя очередную пустошь, Акбилек наткнулась на протянувшийся поперек обрыв… Божья милость!.. Река, река! На противоположном берегу тянулась дорога. Значит, люди близко! Акбилек, напрягая остаточки силенок, зашагала быстрее. Река оказалось узкой, с плеском перекатывала в каменном овраге круглые камешки. Вышла к ровному бережку, стянула сапоги, сняла с себя ча-пан, камзол, подобрала подол платья, закатала рукава, умылась, воду попила. Горло совершенно пересохло, очень устала. Утолив жажду, облегченно вздохнула.
У кромки воды Акбилек просидела достаточно долго. Думалось ей: «Вот вода течет и замирает, течет и замирает, и нет ей конца, ничто ей не грозит, и не знает она смерти. Ничего не чувствует. Выпью я ее или нет – ей все равно, напоит и плохого человека, и хорошего. Она тоже Божья благодать. Милосердие Его! А мне не досталось!»
Всю жизнь перед ее глазами протекала вода, а вот такие мысли не приходили никогда. Сама удивилась тому, как они пришли ей в голову. Наклонилась к водной глади у ног и увидела свое отражение. Волосы оказались взлохмаченными, поспешила уложить, смачивая водой, пряди. Захотела расчесать их. Но не стала, подумав: «Ради кого прихорашиваться?» Встала, оглядываясь по сторонам в поисках укромного места поблизости, чтобы там чуток передохнуть. Оказалось – отсидела ноги, пощипала раза три икры, бедра, вроде как прошло.
Слева бросилась в глаза неглубокая промоина в крутом берегу. Не задумываясь особо, Акбилек надела камзол, накинула на плечи чапан и, волоча за собой свою дубину, двинулась к ней.
Там, у заводи, можно затаиться. Сзади – стена каменной глины, впереди – вода, справа – заводь, слева – стекший с обрыва вал. Села, обхватив колени руками, и, сгорбившись, посматривала на воду. Стало припекать, лоб становился все горячее.
«Вот – река. А где же люди, живущие здесь? Разве не принято к осени селиться у рек? Да и дорога вдоль берега… Ой, наверное, тутошние бежали подальше от русских! Все остервенело сорвано вокруг! Теперь они никто!.. Сколько девушек, таких же как я, бедняжек, сгинуло! Но такое, как со мной, вряд ли с ними случилось. Других я не видела на кошевой стоянке… Или они их сразу убивали?.. Русские, ох, безжалостны к людям! Не буду поминать проклятых, вдруг снова явятся! Почему они не вернулись? Может, с кем-то столкнулись? С кем они воюют так? Может, с окраинными казахами? Нет, зачем казахам с ними воевать? Что они хотят? Или хотят всех казахов уничтожить, а дочерей их, жен, скот весь забрать себе? Тогда почему они скрылись все сразу? Достаточно троим-четверым с винтовками отправиться, чтобы ограбить целый аул… И
уходили они, таясь, оглядываясь по сторонам, как вспугнутые. Или все же нашлась на них управа? Кто их враг? Ой, святые, ай! Что-то говорил отец про «белых, красных». В этом дело? Красные тоже русские? Они тоже девушек хватают – и в бега? Если русские… то, наверное, такие, как Черноус. Он хотел меня застрелить. Ох-ох, головушка моя! Создатель, ай! Что мне делать?!» – погадала, погадала и оставила.
Вода течет, плещется чисто… Акбилек смотрит на прозрачную воду, а укачивают ее мутные мысли. Убаюкали, веки закрываются. Опасаясь заснуть, страшась неожиданного, Акбилек открывает и открывает слипающиеся глаза. Ничего не выходит: солнышко пригревает – раз, плеск воды, вопрос без ответа – два, да к тому не спала ведь всю ночь, прошагала все утро и полдня, уморилась…
Просыпаясь, Акбилек, вздрогнув, мгновенно подняла голову. Испугалась, еще бы! Оказалась бог знает где, чуть ли не в яме у какой-то речки. Тут же вспомнила, как бежала из мрачного горного ущелья. Вскочила. Солнце склонилось к горизонту, стало сумрачней. Вглядываясь, осмотрела тот берег, внимательно – этот, поискала брод, ноги снова болтались в сапогах. Ходит то туда, то сюда. Брода нет. Мерит глубину воды своим шестом, везде глубоко.








