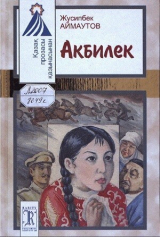
Текст книги "Акбилек"
Автор книги: Жусипбек Аймаутов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
Заходит Боз-изен со свитой под крышу Кумсинай, в уголке кто-то, свернувшись, лежит. Вряд ли дуана, он, кажется, бродил ще-то там, за домом, откуда доносился собачий лай. Боз-изен передала спутнице лампу, подошла к лежавшей и приподняла с ее лица край чапана. Акбилек спит, посапывая, струйка слюны протянулась от края чуть приоткрытого рта.
– Э, бедняжка!
Кумсинай сунулась сзади:
– А что вы хотели? Пусть поспит.
Боз-изен подняла чапан на спящей выше, оглядела костяные пуговицы платья, чуть ли не под подол заглянула, ощупала все карманы, потрогала кожаные чулки. Закончив свои манипуляции, поправила растрепавшиеся волосы и заключила:
– Девушка, со всех сторон девушка!
Стали обсуждать и чапан из шелковой ткани, и безрукавку, расшитую полудрагоценными камнями, и батистовое платье, одна говорит: «Платье, как у Айтжан», вторая не согласилась: «У Айтжан получше». Пришлось самой Боз-изен высказаться, по ее мнению выходило, что женщины ничего не понимают в вещах, у Айтжан все в пять раз качественней да богаче. Айтжан и умнее. Те же русские за ней не угнались, спаслась от позора. Да и самой ей повезло (то, что она затяжелела тоща от кого-то из них, не в счет).
Покалякали, нарастабарились женщины, вдоволь наболтались и разошлись – каждая к своему казану.
Дожидаясь жену, Мусабай что только ни передумал, да так ни к чему и не пришел в своих мыслительных потугах, скособочившись на постели, ну прямо как арабская буква د. суть в том, что был он из скоробогатеев и чувствовал себя еще в новом состоянии достаточно зыбко (еще вчера был среди городской бедноты, как, впрочем, и его жена). А поднялся благодаря своей супруге, ее станом, можно сказать, все нажито. А туг в прошлом году пропали у него две кобылицы и обнаружились на пастбищах Мамырбая, да дотянуться до них он так и не смог.
Непременно должен был Мамырбай прикрыть своих, даже если их дела являлись очевидным конокрадством, иначе как он будет выглядеть перед своими людьми-то, как удержит под собой? А теперь его дочка попала к нему, как тут не отыграться, вот какая темная идейка бродила у него в голове. Припрятать девчонку, так весь аул уже знает про нее. Даже если свои не донесут, выдаст Бирмаган. Этот работник все лето ссорился со всеми мужиками, к бабам лип, как смола. Да еще его рыжая баба… А если отве сти ее к кому-нибудь подальше? Тоже никак не утаишь. Всем известно, что разыскивают Акбилек. Может, подсунуть ее под какого-нибудь парня для пущего позорища? Только какая от этого прибыль? Нет, надо выдумать такой болезненный ход для Мамырбая, чтобы знал… Но что тут выдумаешь? Вот проблема – тяжеленькая проблема. Тут и жена явилась и давай рассказывать, какая красавица эта Акбилек, да так расписывала ее, что и у него появилось похотливое желание. Да что он мог, минуя Боз-изен?
– Да какое мое дело до ее красот! – только и воскликнул в сердцах.
– А кто сказал, что есть тебе до нее дело? – туг же поставила она его на место.
Оставалось Мусабаю так и лежать на боку, пыхтя да пуча глаза. «Подвинься!» – пихнула его баба, легла к нему спиной и пригорюнилась, вспомнив давний неразрешимый вопрос: «И как я вышла за этого дурня?»
В полночь попробовали разбудить Акбилек к чаю, но она так и не проснулась. А утром раскрыла глаза – дом полон людьми. Посмотрела направо, а там сидит дядюшка ее двоюродный Амир.
– Дорогая моя! – воскликнул Амир, челюсть его задрожала, руки растопырил.
– Дядюшка! – только и воскликнула Акбилек, прижалась щекой к его плечу и зарыдала.
Приехавшие из родного аула вместе с Амиром двое парней переглянулись и, как ни пытались придавить хрипы в горле, не сдержались и сотрясли ревом свод обиталища Кумсинай. Звуки эти подвигли и женщин прийти в волнение, и они хором запричитали, даже Боз-изен горе стно прислонилась к печке и вздохнула:
– Иначе как!
Но все равно собравшихся женщин не удовлетворила развернувшаяся сцена, они посчитали, что Акбилек недостаточно горько плакала, не было в ее плаче ярких интонаций. Не смогла отчаянно запричитать первой, как принято даже на обычных проводах или там похоронах, упоительно, с надрывом вынести красным словом прячущееся сердечко свое, чтобы переполнившая ее то ска выплеснулась более-менее приличной агонией, а так простенько зарыдала, и все тебе.
Ну не научилась Акбилек причитать, как положено, казалось ей, что до первого горя – прощанья с родительским домом – ей ой как еще далеко, все ребячилась в пятнадцать лет… Голосила лишь раз при быстро обмякшем теле матери, а потом горевать о своей головушке пришлось тихо-тихо… Понятны ли были вообще причины ее такого простенького поведения – неизве стно, но, видя перед собой всего лишь плачущего ребенка, были они весьма разочарованы.
Постояли-посидели они, молча поплакивая за компанию, да переглядываясь, пока Амир не объяснил свое скорое явление:
Как только вестник из этого аула ночью появился, сон как рукой сняло, вскочил на первую попавшуюся лошадь – и сюда.
Стало быть, пока Мусабай обсасывал свои мстительные мысли, Бирмаган посадил на самого быстрого скакуна своего человека и отправил к Аману, не глядя на наступившие сумерки. Рыжеволосая жена Бирмагана тоже не в стороне, поболе других проникнувшись сочувствием к Акбилек, оказалась ближе всех к ней и в сей миг, взяв ее за руку и стараясь не пялиться на нее, произнесла:
Услышали, так жаль стало тебя, больше чем родную дочь. Что мы еще могли?
А один из приятелей Амира:
Вот как родство у родственников-то проявляется, – сказал и уставился нагло на Боз-изен, словно давал понять: «Верховодила вроде как недавно, ну и что ты сейчас?»
Знал, конечно, о столкновении Мусабая с Мамырбаем. Еще бы, видать, он лично знался с угнавшими лошадей у Мусабая барымгачами. Услышав о родственных предпочтениях, Рыжая тут же зацепилась за сказанное и, дернув плечами, добавила:
Э, да о чем гут и говорить… Мы, как некоторые казахи, за чужое дерьмо не цепляемся…
Но Бирмаган не дал ей разогнаться, тут же оборвав липший бабский наскок:
– К чему толковать об этом!
Но даже перепалка меж супругами не обрадовала Боз-изен. Видать, не удастся ей вставить тут свое решающее слово, помрачнела, сжала плоские губы. Разве пришлось бы ей такое тут терпеть, если бы этот похрюкивающий кабан не послал ночью вестника на коне? А рыжая баба его… Сучка вонючая! Не пересчитать ее пакостей!
Кумсинай принялась заваривать чай. Аульчане вышли размять ноги. Рыжая стала приглашать Акбилек к себе, Амир же, воздав благодарения Богу, заговорил о возвращении домой. Тут и Бирмаган стал навязываться с гостеприимством, но го сти заспешили.
Если так, оседлаю для Акбилек своего гнедого иноходца, да и сам доставлю ее к отцу как полагается! – заявил Бирмаган и вышел.
Такой поворот событий окончательно сразил Боз-изен. Вернулась домой и:
Жизни тебе не видать, обжора! Сидит себе, как силой нечистой придавленный! – давай грызть мужа.
Мусабай отмолчался.
У своей коновязи Бирмаган, накинув на седло гнедого красивое одеяльце, посадил на него Акбилек, сам героем вскочил на кобылку и рядком с ней и Амиром двинулся в желанный всеми путь.
А дервиш отправился по своей дорожке.
По дороге Амир заговорил о том, как хорошо, что вовремя встретился дервиш, мол, и от дуаны есть кое-какая польза, бродит там и сям да везде, однако не одобрил его склонность к нищете, счел зазорной его привычку и зимой, и летом зазря ходить босиком. Попозже рассказал о захваченных белых, о Myкаше.
Ехавшая с низко опущенным лицом, Акбилек прислушалась. О пленении белых тут только и услышала… Поняла, и кем был тот человек, подошедший к ней, прятавшейся, скорчившись, той ночью в яме, и велевший перед уходом куда-то: «Полежи пока тут». Мукаш! Вот кто указал русским на нее. Перебрала все прошедшие дни и краешком памяти коснулась Черноуса. Миг – и вновь он перед ней: с ласками… с винтовкой… И удивилась, что жива, что едет с родными дядями домой. За сим странным удивлением навалилось чувство стыда. Теперь она не прежняя Акбилек, теперь она обслюнявлена, потоптана, измарана… Прежде девственно чистое, как молозиво, тело изгажено, пропитано грехом, меж нетронутых, белоснежных ее грудей свил гнездо ворон, не девица – курва. Невинное прежде сердце продрала червоточина грязная, нет оправдания.
Ой-ай! А как же мой нареченный? Откажется… конечно, откажется! К чему ему объедки русских! И если откажется, то кто подберет? Для людей я, как язва, гнойная язва! Ведь все это ты знала, знала! Наверное, у меня с головой что-то такое… Почему меня той ночью не разорвали волки так, чтобы и ноготка от меня, бесстыжей, не осталось?!
Все станут только отворачиваться от меня! От девки, истасканной, старой девки. И кожа вот – вся в морщинах, груди вроде как висят, спина кривая, бедра как расплющены… Губы бледные, вся холодная. Смотрелась в зеркало там, у русских, – лицо расплывшееся было такое, вроде и бельмо появилось… Чуток лишь пожила, а уже старуха!
Бог мой, Бог мой!.. Отчего я не пропаду куда-нибудь прямо сейчас, не погибну как-нибудь! Пусть конь споткнется подо мной, а я под копыта его без звука! Или провалилась бы подо мной земля и сглотнула бы меня! Можно и так: налетела бы черная туча и молнией меня ударила! Если и это невозможно, тогда пусть ведьма на меня налетит и меня задушит! Ну, если и так не случится, то как только приведут меня к отцу, пусть упаду, хлоп ресницами, и все, лучше умереть, чем жить и помнить!
Акбилек оглядела небо – нет, не появилась на небесах вызываемая ею грозная туча; взглянула вниз – земля как земля, даже не вздрогнула; ударила в конские бока пятками в надежде, что он понесет, споткнется, – вредный конь и не думал с ног валиться, как шагал себе спокойно в ряд с другими лошадьми, так и продолжал идти. Акбилек взглянула на близких дядек. А дядьки на нее и не думают глазеть, смотрят вперед, легонько подгоняя лошадей камчами, стремена под подошвами сапог у них лишь поскрипывают: «Когда наконец с нас сойдут?»
Акбилек решилась посмотреть, что там впереди. Взглянула – вот и аул. Увидела родные строения – слезы навернулись. Вон завидевшие их издалека женщины заспешили к ее родному дому. Вон и собаки с отцовского подворья забрехали. Вон даже телочки-соседки потянули в ее сторону, мыча, мордочки. Вот и до нее донеслись бабьи стенания.
Израненной душе вроде как и легче стало среди звуков запричитавшего хора, захотелось с ними зарыдать, сиявшее солнце скрылось за пеленой слез. Как в тумане, надвинулись на нее седовласые люди, старушки поддержали за локти, целовали ее в лоб и повели куда-то, а там поставили перед огромным-огромным человеком. Отцом. Акбилек плачет и плачет…
Бедняжка Акбилек! Кому как ни тебе заливаться слезами? Лишилась ты мамы, носившей тебя в чреве своем и вскормившей тебя терпеливо, как аруана своего верблюжонка! Потеряла ключик к завтрашнему, казалось бы, неминуемому счастью, опрокинулся и откатился прочь от тебя золотой котел, разлилось золотое масло. Юное девичье сердце перестало биться – обуглилось. Ве сенний бутон твой, не успев распуститься, завял, стал трухой. Светлая душа твоя покрыта пеплом. Плачь, исцелись слезкой! Смой слезами тоску! Море наплачь! Пусть штормит то море! Пусть вздымаются соленые волны! Пусть обидевшие тебя канут в них, и каждая капля в наплаканном тобой море пусть станет им ядом. Пусть все, кто ими любим и кто любит их, в вечном трауре стонут, как ты.
Часть вторая. РАНА
Винтовочная пуля вырывает целый кусок мяса – кулак вместится. Не залечишь, запустишь рану, прощайся быстренько, схлопотал такую вот пулю, человече, спасенья нет.
Свинец разворотил плечо Бекболата, да так, что рана зияла пещерой. «Пулю надо вытащить… Жвачка травяная – от тысяч травм да ран…» – лезли все с советами, пока приехавший из города телеграфист не заявил: «Не покажете врачу, умрет». Решили везти на лечение. В городе нашли сына Мамырбая, больше и некого. Толеген, почти родственник, принялся бегать по всяким городским конторам и добыл направление в больницу.
Бекболат отлежал в больнице где-то около двадцати дней. Видать, врачи отменно его лечили, через пару недель рука ожила, рана стала затягиваться. Со временем вроде как и прижился в больнице, и хотя царила кругом одна скука, стал привыкать к ее серым простыням, невыносимой вони испражнений, к растительной еде, несмотря на то, что жуть, как пучило от нее живот.
Настал день, когда доктора наконец разрешили ему самому сходить по надобности, Бекболат вышел наружу.
По двору передвигались туда-сюда, переговариваясь, светловолосые матушки, одетые во все белое, с белыми опять же повязками на руках, несут какие-то бутылочки, полотенца, чайники, тазы. С матушками, совершая обход больницы и отдавая какие-то указания, общался по-русски врач с тонко закрученными усами и гладко прилизанными, как телочкой, волосами, тоже в белой хрустящей одежде. И больничные стеньг, и потолок, и полы гладкие, словно рубанок по ним прошелся; выметено, чисто кругом – комару не за что зацепиться. Видя весь этот порядок да к тому же чувствовавший себя день ото дня лучше, Бекболат думал: «Как тут больному не поправиться? Никак нельзя иначе».
На ногах Бекболата ничего приличного – ободранные башмаки, одет в желтый халат с брезентовым воротником, голова повязана белым платком, тащится, подрагивая, как продрогшая в воде мышь, мимо доктора.
Врач спросил: «Куца собрался?» – впился в него глазами и, видимо, вспомнив, что сам разрешил больному встать, произнес: «Ладно, шагай дальше», – и подмигнул ему.
Ковыляния по больничному коридору и больничному двору, видать, чуть укрепили коленные суставы Бекболата, и тело все вроде окрепло.
Бекболат, приоткрыв ворота, выбрался на улицу. Век бы не видеть больничные углы и ветхую постель, пропитанную невыносимым запахом лекарств, перед глазами – сверкающий всеми красками день, воздух – звенит, а лишь взглянул на голубое небо, так словно заново родился, сам лицом посветлел и мысли прояснились, повеселел, взял да и двинулся в родные места. Так захотелось увидеть поскорее своих. А если о делах сердечных, вспомнилась Акбилек. «Я вот свет божий увидел, поправился. А какие страдания терпит она? Выплакивает в неволе глаза? Или убили ее русские? Или обнимает русского? Или они все разом…» – спешил и встал, как на краю крутого бездонного обрыва, все тело охватил зуд, на верхушке сердца словно оборвалась нежная жилка. Как стала рана чуть затягиваться, эти мысли не покидали его ни днем ни ночью, и чувствовал он под собой пропасть, и сердце сотни, тысячу раз разрывалось, но в этот раз сердцебиение как-то по-иному ощущалось. Вновь он мысленно видел Акбилек, но в бескрайней степи, наполненной вольным и беспечным течением живого мира, мимо реальности виделась она ему цветущим стебельком.
В больнице Бекболата два-три раза навестил Толеген, обходительный, складный парень. Придет и спросит сочувственно: «Как рана? Как себя чувствуешь? Как аппетит?» – вел разговор только об этом. Толеген как-никак – родной брат Акбилек, что смущало Бекболата и мешало ему спросить о ней. А тот сам не заговаривал о сестренке. Пытаясь окольными вопросами выведать хотя бы что-то, Бекболат расспрашивал его о том, что люди нынче говорят, но Толеген отвечал просто: «Да в общем все как прежде… Ничего такого особого не слышно…» – и об Акбилек ни словечка. «Ну что за тип, неужто так и не съездил, не проведал отца? Ведь мать убили его родную, сестренку похитили, должна же и у него душа болеть. Или такой он на самом деле? Очерствел, что ли, здесь в городе? Какой прок от такого сына бедному отцу?» – думал Бекболат, глядя на него, но как бы ни беспокоили его эти мысли, не стал ни в чем его упрекать. А тот поговорит еще с лечащими врачами, заглянет на прощание и уйдет опять. Была, мол, се стренка, да вся вышла. «Что ему нужно от меня? Что он тогда ходит?» – ломал себе голову Бекболат, так и не поняв, что это за человек такой, этот Толеген. Эта его скрытность заводила Бекболата в тупик и вьгзьгвата неясные опасения.
Теперь вставшему Бекболату особенно нетерпелось как можно быстрее узнать все, что случилось с Акбилек… У кого и как? Встретится ли какой-нибудь казах? Вчера с постели показалось, что в коридоре прошел казах, мелькнул в проеме двери и исчез. «Интересно, кто такой? Как он зде сь очутился? Впрочем, разве нет в природе казахов, заходящих к докторам?» – и, опираясь на стеньг, побрел следом, миновал угол… Добрел до задней двери больницы… а там на ступеньках сидят двое в лисьих треухах и беседуют о чем-то. Наткнувшись на них, Бекболат обрадовался:
– Ассалаумалейкум!
Казахи повернули головы и бросили на него острые взгляды. Один из них, как и положено казаху, ответил на приветствие. Другой же, обутый в русские сапоги и одетый в отлично сшитый чапан смугляк – тот еще подарочек! – сверкнул задиристыми глазами и оттопырил губу. Над гладеньким, как луковица, лицом нависает аккуратный черный мат ахай. Бекболат поздоровался еще раз. Тот нехотя ответил на приветствие, словно говоря: «Тебя-то кто звал?» С появлением Бекболата казахи замолчали. Но скоро, думаю, им самим стало неудобно: обладатель сапог спросил имя у Бекболата. Услышав, как его зовут, парень заговорил приветливей:
– А, так это вы тот самый Бекболат? Присаживайтесь, – и подвинулся, приглашая сесть. – Вы ведь тот, кого недавно подстрелили?
Бекболат спросил:
– А вас я знаю?
– А я Блестящий из такьгровских, – ответил парень таким тоном, словно всем на свете должна быть знакома его блестящая физиономия, усмехнулся и погладил чисто выбритую голову, подчеркивая особую значимость своего блеска. – А его зовут Мусатаем, родня нам.
Бекболат сказал Блестящему:
– Е, кое-что вроде слышал о тебе.
Блестящий дернулся и тут же впился в него глазами:
– И что же вы обо мне слышали?
Бекболат с чуть заметной заминкой ответил:
– Слышал, что грамотный, шустрый парень.
На эти слова Бекболата Блестящий ответил:
– Слышал, небось, как мы схватились вот из-за слез народных с Абеном Матайиным? Что будет – один Аллах знает, – и резко вытянул шею, как ястреб, завидевший уточку.
Бекболат сделал вид, что понял его:
–Е.
«Е!» – и ни звука больше.
Нашелся ворон на орла! Кто Абен, а кто он? Тот – лев, а этот – мышь. Баю Абену семь волостей смиренно в рот заглядывали. Не Абен разве ездил в Петербург и в го стях у самого царя побывал? Да как вздумал он биться с таким, с какого такого блеска своего, с какой такой силушкой? Несерьезный, видать, парнишка… вот и все, что пришло на ум. Но Бекболат не стал высказывать свою оценку заявленной схватки, он соскучился по другим новостям и стал осторожно выспрашивать о другом.
Блестящий был посвящен во все новости, слышал все сплетни, только уши распускай – так заливался. Язык не замирал. От его болтовни Бекболат стал обалдевать, душа вон. А тот все в одну кучу сыпал и сыпал: какая партия победила на выборах, кто взятки берет, кто дает, кто выставил свою дочь родную на выборах как приманку, чей скот, дом был разграблен, у кого дочь, жена сбежали, кто с кем рассорился-подрался, как воюют белые с красными, кто попал под суд,
на кого накатали жалобу, кого в газете пропечатали, кто сел в тюрьму, кто освободился, за кого залог заплатили. Для него не существовали незнакомые акимы, не было человека, с кем бы он не переговорил, и законы он все знал. И все он видел собственными глазами, на ощупь, на зуб пробовал и все доносил, не пролив ни капельки, убеждал, клялся, время от времени авторитетно заговаривая по-русски. Бекболат деревенел, скисал, что никогда с ним не происходило прежде, не верил, а изумлялся словам Блестящего. Наконец наступил миг, когда Блестящий, показав, какой он знаток законов да как речист, до стиг самой высокой степени удовлетворенности собой. Обрушившееся на Бекболата словоизлияние представилось ему густым кустарником с наваливающимися друг на друга ветвями без единого просвета, и метался он среди фраз, как гончий пес за призрачным зайцем, и, не в силах зацепиться хотя бы за одно словечко, слышал лишь гул. Хоть и гудело в голове страшно, он все же выловил одну интересную для него весть. Эта ве сть – пленение белых из Карашатского ущелья. Как только услышал об этом, то сразу заговорил сам:
– Е, ладно! Святые, ай! Всех взяли?
– Всех. Всех повязали, ни одного не упустили.
Хотел было спросить: «А Акбилек где?» – да язык не повернулся спрашивать о ней прилюдно, подумают еще казахи: «Что это он о девке, с которой потешались русские?» – и станут насмехаться. Видя, что расспросы множатся и разговору нет конца, пришедший к Блестящему натуральный казах не выдержал и, встав со словами: «Схожу кое-куда – дело есть одно», ушел. С его уходом Бекболат более открыто, выдавая свое волнение, уставился на Блестящего. И в какой-то момент подмигнул ему, как человек, собирающийся доверить ему свои самые сокровенные слова:
– Я хотел спросить вас кое о чем.
– Спрашивайте, спрашивайте, – проговорил Блестящий скороговоркой.
– А что с дочерью Мамырбая: о ней ничего не слышали?
– Нет. О ней не слышал. Самих-то белых только вчера к вечеру в город привели. Узнать можно. Понимаю, она ведь, как говорили, ваша невеста, – ответил Блестящий и добавил по-русски: – Жалко, жалко!
– Святые, ай! Если можно узнать, так узнайте для меня…
– Будет сделано. Сегодня-завтра узнаю. Люди приезжают с тех краев каждый день… Но какая сейчас в этом нужда?
– «Какая нужда?» – эти слова больно задели Бекболата: люди наверняка считают, что и не нужна она теперь никому. Бекболат сжал в горле горький комок и сказал:
– Все-таки.
Блестящий для вида согласился с ним. На крыльцо вышла матушка в белом платье и обратилась к Бекболату, поманивая его пальцем:
– Эй, киргиз!.. Доктор…
Бекболат поднялся с места, а Блестящий укоризненно покачал головой и заговорил по-русски, посматривая на Бекболата:
– Нет, не могут не унижать: «киргиз да киргиз», отродье босяцкое! – Глянул на санитарку-матушку: – Ты почему не обращаешься к товарищу «товарищ, гражданин»?
Бекболат усмехнулся, непонятно над кем: «Вот как! Такого жеребца на них и не хватало!» – и скрылся за больничной дверью.
– Е, так об этом Блестящем шел слух! – проговорил Бекболат, проходя по больничному коридору.
Оказалось, звали кушать. Бекболат присел с неохотой глотать из жестяной миски жиденький бульон. На вкус ему все одно, что суп, что вода: мысли путались, рвались, словно в бреду.
Убили русские Акбилек? Или осталась жива? Если мертвая, то и толковать не о чем. А если жива, сидит у себя дома, тогда что?
Какая она была, когда он впервые ее увидел, когда с компанией охотников с беркутами заехал к ней! Лицо белое, лоб открытый, шея лебединая, глаза сияют, брови тонкие, губы нежные, пухленькие, как у младенца! Фигура точеная, без единого изъяна, как ве сенний росток. А когда зазвенела она монистами в косах, вскакивая с места, когда округлила коленями белый подол платья, присев снова, когда прошлась в щегольских туфельках, выходя из комнаты, засмеялась с серебряным звоном, пошептавшись с матерью, когда разливала чай, чуточку смущаясь и представляясь тихоней, когда, придерживая тремя пальчиками, подносила пиалу, выстреливая глазами из-под падающих тяжелых ресниц, один из его приятелей уронил сахар мимо чаши. Попытался отшутиться:
– Какие в этих краях уточки трепетные! Чувствуют ястребов издалека.
И услышал в ответ от матери:
– А как же, если ястребы зоркие. – И тут же: – Акбилек, душа моя, проводи гостей до коней! – и сама с ней вышла отвязывать уздечки от коновязи; а у той оголилась нежнее шелка приподнятая рука: «Доброго пути!» – и, сверкнув глазами, наигранно склонила голову… все, все помнил, а лучше бы забьпь.
Особенно неповторим ее голос. Засмеется, и ты не знаешь, в каком ты мире. Все женщины на свете недостойны ее ноготка, ее следа.
И так день и ночь, и день следующий думает об Акбилек Бекболат. Как бы он ни пытался отне стись к ней с отвращением, даже ненавистью, она снова встает перед его взором такой, какой он увидел ее первый раз – ангелом во плоти. Пытался выбить ее образ из головы, вспоминая о своем иноходце, о своем ружье, охотничьих историях, – все мимо. Жеребец, дичь, зверь, забава, самые изощренные фантазии – все она заслоняла собой, все в конечном итоге приводило к мыслям о ней. Все заворожила собой Акбилек. Сам не понимал, почему.
Бекболат то встанет с койки, то ляжет, нестерпимо ему. Заглядывал несколько раз к Бле стящему с одним и тем же вопросом – нет новостей. Так что и спрашивать стало совершенно неудобно. Действительно, скоро станет посмешищем для всего мира. Вся вселенная разме стилась для него на кончике языка Блестящего, тянет к нему, и все тут. Но Блестящий всеща занят, ведет свои бесконечные разговоры со всеми встречными-поперечными казахами. Каждый переговоривший с Блестящим казах рождает в Бекболате надежду: «Е, этот, наверное, что-то рассказал об Акбилек». Но его ожидания никак не сбывались.
Бекболат стоит, опершись на перила больничного крыльца. На бревнах у сарая сидит Бле стящий и беседует с очередным казахом. Вот, наконец, наступил миг, когда он, проводив собе седника, качая головой, запахнул больничный халат и поспешил к Бекболату, возмущаясь по-русски:
– Вот жулик, вот ма-ашенник!
– Что? Что он сказал?
– Шорт знат! – И продолжил на родном языке: – Заверяет, что решили, что почтальон ограбленной почты ни в чем не виноват, теперь точно не оберешься неприятностей. А ведь меня из-за этой почты и арестовали!
И Блестящий объяснил суть дела. Бай Абен враждовал с волостным… Волостной вынес ему приговор и, скрепив его печатью аульного старшины, отправил с почтой в город. Абен прознал про интригу и послал вслед трех всадников. Они догнали повозку и, отобрав у возчика почту, выкинули его на дорогу, затем сами доставили груз в город. Приговор уничтожили, а остальные бумаги снесли в Совет. И заявили там: «Возчик сам почти напал на нас, требовал единственную нашу лошадь, не получил, тут же почту разбросал по сторонам, ну мы и собрали бумаги на дороге, вот, привезли». Волостной – родич Блестящему. Приговор с политикой наверняка подсказал ему сочинить сам Блестящий. Не получилось, ну понятно, отчего он так бесится: «Шорт знат!»
Все равно все смазано. Материалы давно уже в губернию отосланы. Не сегодня, так завтра посажу Абена. Бог все видит! Да не буду я Блестящим, если не посажу! – горячился Бле стящий, подбив в заключение речь своим «шорт знат!».
Когда наконец Блестящий заткнулся, Бекболат попытался сменить тему:
Тот парень, одетый, как русский, служит где-то?
Блестящий с недоумением посмотрел на него, соображая, зачем он спрашивает:
А? Он агент ЧеКа.
Нет казахов, не знавших, что такое ЧеКа и кто такие агенты. От них держись подальше. Но Бекболату все равно, он тянет свое:
А кем он вам приходится?
Ты думаешь: есть места, ще нет наших людей? Да в ЧеКа все наши!
Тогда как вас арестовали?
Ой, дорогой! Это еще как посмотреть на это, – и подмигнул Бекболату. – Меня аре стовать нельзя. Я на следующий же день выйду. Как тебе моя тюрьма? Всегда можно найти решение. Арестован, слов нет, а вот лежу в больнице, – и помахал неведомо кому рукой.
Бекболат произнес еще пару незначительных фраз, а затем спросил о девушке. Блестящий ответил:
– Нет, пока ничего не слышно… – И добавил: – Чем думать о девице, подумал бы лучше о девичьих проделках.
– Е, при чем здесь это?
– Шорт знат! Тут агент забавную историю рассказал.
– Какую историю?
– Здесь одна учительница Мадиша жила. Ну ты ее, наверное, не знаешь. Полукровка. Был такой заносчивый рыжий старик ногаец… Лавку держал. А жена его казашка. И трое дочерей у них: Кадиша, Мадиша, Загипа. Вертихвостки. Мадиша совсем молоденькая. Так эта Мадиша встречалась с командиром одного отряда. Любила прокатиться с ветерком на его скакуне за городом. Ну однажды ночью кто-то в бахче лежком барахтается. Старик сторож пошел посмотреть, что такое, а они двое в разные стороны бегом. Сторож глядь – что-то белеть на земле осталось. Смотрит – коротенькие такие трусы. Ну, старик эти трусики ошес в ЧеКа. Как положено, вызвали Мадишу в ЧеКа и говорят: «Узнаешь?» – а она то пытается схватить трусы, то плачет. Ой, стыд, ай!.. Над этим случаем и смеялись… Ославила и казахов, и ногайцев, а?
История Бекболату не показалась смешной, и он пробурчал, словно она касалась лично его:
– Так она же по своей воле.
– Е, этим городским девицам только и надо, что потрясти своими прелестями, – произнес Блестящий и дальше опять заговорил о каких-то непонятных проблемах.
Бекболат слушал его и, не желая признать даже в мыслях своих причастность к этой грязи Акбилек, проговорил:
– Город, конечно, развращенное место.
Вот так беседовали, тут в больничных воротах показался еще один казах. Блестящий тут же подскочил к нему и завопил:
Е, Жамбырбай, как живете-поживаете?
Поздоровавшись, Блестящий повел Жамбырбая в сторону, к бревнам, усадил его на них, и они заговорили меж собой. Говорят, говорят. Бекболат не отрываясь смотрит на них. Наконец Бле стящий взглянул на него, потом снова вцепился в Жамбырбая и о чем-то стал расспрашивать. Жамбырбай отвечает, Блестящий прерывает его и снова что-то выспрашивает. А затем улыбнулся Бекболату и подозвал его рукой.
Сюйинши! – потребовал награду за радостную весть.
Бери, бери, – поспешил с ответом Бекболат.
Девушка вернулась домой живой-здоровой.
О святые, правда? Святые, ай, неужели правда? – только и твердит.
Станем мы врать?
Святые, ай, святые, ай!
С этой минуты Бекболат только и думал о том, как бы ему поскорее выбраться из больницы. На следующий день Блестящий при встрече с ним снова заговорил о бае Абене:
– Хочу еще одну жалобу подать. Если написать от твоего имени, как думаешь?
Бекболат ужаснулся. Если он и судился с кем, то только с волками и лисами, а судья – беркут, и жалоб на зверей, слава Всевышнему, писать не приходилось. Понятно, ответил как ответил:
Дорогой, не смогу я. В таких делах я никто.
Да ты что такой боязливый! Тут-то и бояться нечего. Все факты вот, у меня за пазухой, – и вытянул из внутреннего кармана пачку бумаг, а из нее листок, и давай: – Вот, вот, эта бумага его полностью разоблачает. И в нужное для разоблачения место давно отправлена. А это черновик.
Блестящий пошуршал бумагой и принялся читать. Бекболат вынужден был слушать. Послушаем и мы, кто его знает, может, когда-нибудь пригодится.
«Семипалатинскому губпробкому. Копия послана руководству «Казахского языка». Извещение от Жамандая Тайкот-улы, жителя Н-ското уезда Сартауской волости.
Дети разбогатевшего Абена Матайина выпили кровь у всех людей Сартау. Например, он в 1887 году был волостным в Саргау. В это время он вел себя как самостоятельный владетель: вроде автономии, ханской власти.








