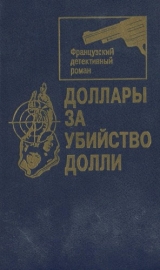
Текст книги "Доллары за убийство Долли [Сборник]"
Автор книги: Жорж Сименон
Соавторы: Морис Левель,Жорж Клотц
Жанр:
Криминальные детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 26 страниц)
– И это нечто?..
– Потрудитесь обернуться – и вы увидите сами, не так хорошо, как я, так как оно за час несколько сгладилось, но все же увидите достаточно ясно, чтобы пожалеть, что раньше не обратили на это внимание… Смотрите, это след ноги, отпечатавшийся в земле, это маленькое пятно, едва заметное на газоне, едва темнеющее посреди белого инея. Солнце немного изгладило его; час тому назад он был поразительно ясен.
– Вернемтесь, – поспешно сказал комиссар.
На этот раз Кош последовал за ним. Когда он ступил на песок аллеи, им овладело необъяснимое чувство гордости и страха. Он машинально перевел глаза со своих ног на вчерашний след. Длинный элегантный отпечаток не имел ни малейшего сходства с формой его грубых американских ботинок (эту обувь он обыкновенно носил днем, для ходьбы, но вечером надевал всегда тонкие лакированные ботинки, плотно облегавшие его узкую, с высоким подъемом ногу).
Комиссар, наклонившись над газоном, осматривал отпечаток. Солнце высоко взошло и прорвало наконец серые облака. Яркие лучи его золотили местами тонкий слой инея. Один из них упал прямо на след ноги.
– Скорее сантиметр, карандаш, – закричал комиссар, протягивая, не оглядываясь, руку.
– Вот карандаш, – сказал помощник, – но сантиметра у меня нет.
– Так сбегайте и достаньте мне его. Господин Кош, нет ли у вас фотоаппарата?.. Будьте любезны, снимите этот отпечаток.
– С удовольствием. Но фотография даст вам только изображение, и очень маленькое изображение, по которому вам будет невозможно установить соотношения между разными точками, существующие в действительности. Снимки с предметов, лежащих на земле, всегда бывают очень несовершенны; для таких снимков нужны особые, очень сложные аппараты. К тому же мы пришли уже слишком поздно… Солнце сильно греет… Мой отпечаток…
Произнеся эти два слова: «мой отпечаток», он слегка запнулся, потом быстро поправился:
– Отпечаток, найденный мною, делается все менее и менее ясным… его края сглаживаются, исчезают… через минуту от него ничего не останется… Смотрите, след каблука уже почти не виден… подошва также начинает таять… пропадать… Исчезло все!.. Какая жалость, что вы не вышли несколькими минутами раньше!
В глубине души он почувствовал громадное облегчение. В продолжение нескольких минут ему казалось – конечно, это была фантазия, – что все трое мужчин украдкой осматривают его, как будто угадывая, что в его грубом ботинке скрывается небольшая и узкая нога, подобная той, отпечаток которой сейчас исчез под лучами полуденного солнца. Хотя его целью было быть заподозренным и даже арестованным, но, чем ближе становилась эта цель, тем сильнее он желал отдалить ее.
Правосудие представлялось ему грозной силой, сторуким зверем, не выпускающим из когтей своих раз пойманную добычу. К тому же он сознавал, что ему выгоднее оставаться руководителем дела и самому выбрать минуту, когда он позволит задержать себя. Чтобы хорошо изучить все полицейские приемы, он хотел иметь возможность следить за их действиями, по возможности даже управлять ими, по желанию задерживать или ускорять их. Так что, когда комиссар, чтобы не выказать своей досады, проговорил: «В конце концов, очень может быть, что этот отпечаток оставлен одним из нас? Очень возможно, что мой помощник, шедший слева от меня, ступил на газон…», Кош согласился с его предположением, хотя и не сдался вполне.
Было очень нелишним зародить некоторое сомнение в голове комиссара; ясно было, что, говоря таким образом, он скрывал часть своей мысли и что ему будет трудно совершенно не упомянуть во время следствия об этом отпечатке, хотя он и делал вид, что не придает ему значения. Поэтому он сказал равнодушным тоном:
– Насколько я мог заметить, никто из вас не шел по клумбе. Когда вы направлялись к дому, я наблюдал за вами и думаю, что я бы заметил… Единственно, в чем я вполне уверен, – это в том, что отпечаток был совершенно ясен, когда я его впервые увидел. Но, повторяю, не могу ручаться, существовал ли он до вашего прихода или нет… Самое лучшее не говорить об этом.
Эта последняя фраза окончательно успокоила комиссара. Ему было бы неприятно, если станет известно, что он был менее проницателен, чем простой журналист. Этот промах мог повредить ему по службе, и он почувствовал благодарность к Кошу за то, что тот угадал его мысль, предупредил его желание, и он обратился к нему почти дружелюбно:
– Поедемте со мною. Я успею дать вам кое-какие сведения.
– Я бы предпочел, – возразил Кош, чувствуя выгоду своего положения, – проникнуть с вами, хотя бы на одну минуту, в комнату, где совершено преступление. Сведения, которые вы мне сообщите, несомненно, очень драгоценны, но если через час-другой журналист явится к вам за справками, вам невозможно будет утаить от него то, что вы мне расскажете. Тогда как теперь я здесь с вами один. Все остальные, потеряв терпение, ушли, и, если вы исполните мою просьбу, вам легко будет ответить тем, которые будут жаловаться на такую привилегию: «Нужно было быть на месте…» И наконец, рассказ очевидца имеет особое значение в глазах читателя. Даже если я останусь на месте убийства всего одну минуту, я гораздо живее опишу его.
– Ну, если уж вы так настаиваете, идите за мною. Мы войдем на минуту, но, по крайней мере, вы увидите…
– Я ничего больше и не прошу.
Все четверо направились к дому. Коридор, по которому Кош шел ночью, показался ему теперь очень широким. Он отчего-то представлялся ему узким, с серыми плитами и голыми белыми стенами.
Плиты были красные и блестящие, стены, выкрашенные светло-зеленым цветом, были увешаны старинными гравюрами, оружием и разными древностями, а лестница, которую он рисовал себе из старого дуба, была из полированной сосны. Все в этом доме было светло и весело.
Поднявшись по лестнице, он узнал площадку, и сам остановился перед дверью. Он пожалел эту невольную остановку и подумал:
«Если бы я был комиссаром, обратил ли бы я на это внимание?»
Но ему не дали времени долго размышлять. Дверь отворилась. Он сделал шаг и в волнении остановился.
Это возвращение в комнату, где он провел такие страшные минуты, было мучительно. В течение одной секунды он проклял свое вчерашнее решение и любопытство, приведшее его опять в эту комнату. Не решаясь посмотреть вокруг себя, он машинальным жестом снял шляпу.
Странное дело: он, не побоявшийся рыться в разбросанных бумагах, трогать полотенца, запачканные кровью, и даже труп убитого в то время, когда его окружала опасность, когда малейший жест, малейший возглас могли стоить ему жизни, теперь задрожал и снова почувствовал тот неопределенный, непонятный и непреодолимый страх, который охватил его вчера ночью около жандармского поста.
– Будьте осторожны, – предупредил его комиссар, – не трогайте ничего… даже этого осколка стекла, там… около вашей ноги… В таком случае все может иметь значение… вон там… там… это обломанная запонка… по всей вероятности, она не имеет никакого отношения к делу… но никогда нельзя быть уверенным…
Кош не принадлежал к числу людей, долго остающихся под тяжелым впечатлением. Высмеивая обыкновенно других, он высмеивал тоже и себя, и теперь наивное рассуждение пристава его немало развеселило. Эта запонка, не имеющая значения!.. Он подумал:
«А что, если это выдающийся сыщик? Что, если он сумел отличить посреди этого беспорядка настоящее от подделанного? Что, если он читает мои мысли и насмехается над моей неловкой комедией?..»
Комиссар продолжал:
– Все указывает на короткую, но отчаянную борьбу… Этот сдвинутый стол, этот сломанный стул, разбитое зеркало, труп, опрокинувшийся на краю кровати… Посмотрите на него; вы никогда не увидите более ужасного выражения лица у убитого. На нем можно прочесть всю сцену убийства. Она написана на этих искривленных губах, в этих закатившихся глазах, в этих руках, вцепившихся в простыни… Не правда ли, это ужасно? Вы, наверное, никогда ничего подобного не видели?..
– Видел, – прошептал Кош, говоря сам с собою. – Я видел однажды убитого человека через час, полчаса после его смерти. Не успев еще остыть, он сохранял в глазах как бы отблеск жизни. Он лежал, как и этот, в луже крови; рана была почти такая же… и между тем в нем было что-то несравненно более ужасное… На этого я смотрю без страха, как на восковое изображение… Это просто мертвец… Эта комната похожа на двадцать других комнат… Тогда как, смотря на того, другого… которого я видел… давно… я чувствовал ужас, застывший на его лице, на его губах, перед его глазами; дом… такой же мирный и веселый, как и этот, был пропитан запахом убийства, крови, еще живой, теплой и дымящейся, подобной той, которая течет по плитам бойни… Завтра, через несколько дней я забуду этого… Но того, другого… я его не забыл и знаю, что никогда не забуду…
Он говорил прерывающимся голосом, подчеркивал фразы, судорожно сжимая руки, переживая действительный ужас и в то же время опьяненный сознанием опасности, думая про себя:
«Слова, которые я говорю в настоящую минуту, понятны мне одному. Никто не может прочесть, что скрыто в моем мозгу. Я держу истину в своих руках, как пойманную птичку. Я слегка разжимаю пальцы и чувствую, как она начинает биться, готовая улететь; но я снова сжимаю ее крепче, сдавливаю… Мне стоит только произнести одно слово… сделать один жест… Нет, я этого слова не скажу… Я этого жеста не сделаю…»
– Странно… мне казалось… – проговорил комиссар. – Признаюсь, что даже на меня, человека привычного, эта картина страшно подействовала… И… вы в Париже видели этого убитого?..
– О нет, в провинции, давным-давно, лет десять тому назад… – пробормотал Кош.
Он слышал, что голос его звучит фальшиво, и прибавил, чтобы сгладить странное впечатление, произведенное его словами:
– Я только что начинал писать в маленькой местной газетке, около Лиона… Преступление, довольно банальное, наделало шуму только в округе… помню, что в парижских газетах о нем даже не упоминали.
На этот раз он ясно почувствовал, что глаза всех трех устремлены на него, и его охватил такой ужас, что ноги у него подкосились и он должен был прислониться к стене, чтобы не упасть.
– Ну, вы, кажется, видели достаточно для вашей статьи, – сказал комиссар. – Но, черт возьми, имея такие воспоминания, вы должны были бы быть немного хладнокровнее… Вы страшно бледны…
– Да… я чувствую, что я, должно быть, правда очень бледен… у меня вдруг закружилась голова… это сейчас пройдет…
– Ну, идемте, – ответил комиссар, указывая ему дорогу, и прибавил вполголоса, обращаясь к своему помощнику:
– Все на один образец эти журналисты! Они все всегда видели «более страшное», но когда очутятся лицом к лицу…
Кош ничего не расслышал, но, видя, что комиссар что-то тихо говорит помощнику, указывая на него глазами, он решил, что выдал себя, и подумал:
«Уже!.. Какой я дурак!..»
Проходя по комнате, он взглянул на себя в зеркало. Лицо его отражалось в нем так же, как и вчера, но сегодня оно показалось ему гораздо бледнее, круги под глазами были темнее, судороги, кривившие губы, более зловещими, и ему почудилсь, что таким должен быть приговоренный к казни, когда палач тащит его на эшафот.
Он закрыл глаза, чтобы не видеть больше себя, и вышел из комнаты неуверенными шагами, согнув плечи и стуча зубами.
Хладнокровие вернулось к нему только на улице. Холодный ветер разом разогнал страшные призраки. Он улыбнулся своему страху и сказал, садясь в экипаж:
– Положительно я отвык от таких зрелищ. Извините меня… я вел себя позорно… непозволительно…
– Полноте… все это дело привычки…
Экипаж, запряженный старой клячей, медленно катился по неровной мостовой. Солнце, на минуту было проглянувшее, опять скрылось. Все начинало окутываться серенькой дымкой. Пошел снег, сначала легкими пылинками, затем крупными, тяжелыми хлопьями, медленно падающими посреди тишины пустынной улицы.
Кош и его спутник молчали, оба погруженные в свои размышления. Кош протер рукой стекло кареты и посмотрел на мостовую, на дома и на падающий снег. Ему очень хотелось спросить у комиссара о его впечатлениях, но из-за чрезмерной предосторожности он не решался заговорить первым. Наконец, почувствовав, что такое упорное молчание может тоже показаться подозрительным, спросил:
– В сущности, какого вы мнения насчет этого дела? Обыкновенное ли это убийство с целью грабежа, или нужно искать более сложные, более отдаленные причины?..
– Если хотите точно знать мою мысль, я вам скажу, что с самого начала я оставляю кражу в стороне. Конечно, я не стану уверять, что все осталось в целости; я даже убежден, что некоторые вещи, может быть, деньги, были похищены… Но это только для виду.
– То есть как это для виду?
– Очень просто, преступники постарались сделать mise en scène, чтобы сбить с толку полицию.
«Однако, – подумал Кош, – неужели я попал на второго Лекока? Если так, то мне не повезло!»
И прибавил громко:
– Гм! Гм! Вот это интересно! Признаюсь, мне и в ум не пришло такое соображение. Таким образом, задача представляется очень сложной…
– Для поверхностного наблюдателя – да… Но для меня, сталкивавшегося в течение двадцатилетней карьеры со всевозможными типами, привыкшего разбираться в самых запутанных интригах, это другое дело. Одним словом, если бы спросили мое мнение, я бы сказал: «Человек прекрасно знакомый со всеми привычками старика, вошел в дом, завладел бумагами, которые были ему или необходимы, или могли его компрометировать…»
– Как?! – воскликнул Кош, страшно заинтересованный. – Бумаги!.. Простые бумаги?.. Вы думаете?..
– Я уверен. Я нашел целый ящик, набитый письмами. Я готов биться об заклад, что их туда положил не убитый старик. Убийца, просмотрев их, перешарив все конверты, побросал их как попало в ящик. Нашел ли он то, что искал? Следствие нам это покажет… Ясно только то, что он забрал несколько серебряных вещей – все ящики буфета были перерыты – с некоторой суммой денег, находившейся, вероятно, в кошельке, найденном моим помощником возле кровати; все это для того, чтобы навести на мысль о краже. Я нисколько не удивлюсь, если узнаю, что исчезли какие-нибудь драгоценности, все по той же причине, которую я вам сейчас объяснил. Я не скрою от вас, так как все равно это узнают через час все парижские ювелиры, а завтра все провинциальные, что я нашел на полу сломанную запонку с цепочкой, принадлежавшую, вероятно, убитому… Наконец – это хотя и чисто психологический аргумент, но для меня он имеет громадное значение, – порядок, если можно так выразиться, царствовавший среди этого беспорядка, какая-то забота о чистоте, проглядывающая даже в ужасе преступления, все это убеждает меня в том, что убийство совершено человеком из порядочного общества; что это человек очень уравновешенный, обладающий удивительным хладнокровием, что он действовал один… я скажу вам… Но я и так уже слишком много вам сказал…
Кош выслушал комиссара, не прерывая ни единым словом. Его первоначальное беспокойство сменилось чувством глубокого удовлетворения. Теперь он был уверен, что план его удался. Больше того, его mise en scène наводила полицию на мысли, которых он сам не ожидал. Казалось, будто комиссар добровольно осложняет факты и что, вместо того чтоб делать из них логические выводы, он сам создает себе затруднения. Даже самые простые вещи он возводил в степень важных улик. Вступив на ложный путь, он все приводил к своей первоначальной идее. Сразу отстранив предположение, что преступление совершено просто бродягами, – хотя такое предположение было самое правдоподобное, – он все истолковывал, применяясь к своей личной теории. С первого шага без колебания он попался в ловушку, расставленную ему Кошем. Когда комиссар сказал: «Преступники постарались сделать mise en scène, чтобы сбить с толку полицию», Кош подумал, что комиссар, одаренный необыкновенной проницательностью, угадал истину, тогда как на деле он еще больше затемнил ее, заключил в еще более непроницаемую ограду. Его хитрость не только не была открыта, но, по странной игре случая, человек, обязанный производить первое расследование, считал все улики, оставленные Кошем, не имеющими значения. Такой взгляд на вещи показался журналисту таким забавным, что он захотел услышать его еще раз, в более определенной форме.
– Если я хорошо вас понял, вы предполагаете, что убийца, светский человек, хотел навести на мысль о преступлении, совершенном бродягами? Он пытался – неудачно – «произвести» беспорядок? Он ограбил не так, как бы это сделал профессиональный вор. Он действовал один и хотел, чтобы думали, что он имел сообщников.
– Совершенно верно.
Карета остановилась. Кош вышел первый. Он был в чудном настроении: все устраивалось лучше, чем он ожидал. В течение нескольких часов он собрал больше известий, наслушался больше вздора, чем ему нужно было для первых двух статей. Он поблагодарил комиссара и очень естественно сказал ему:
– Теперь я совершенно спокоен. Если могу когда-нибудь быть вам полезным, я полностью в вашем распоряжении.
– Кто знает… Все возможно…
– Еще одно слово. Вы не будете упоминать о следе, который я вам указал в саду?
– Не думаю… в сущности, я его почти не видел…
– Конечно, конечно… С моей стороны я тоже ничего не скажу. Итак, до свиданья, господин комиссар, и еще раз благодарю.
– Рад служить. Надеюсь, скоро увидимся?
– Надеюсь.
«А теперь, – подумал Кош, – дело в наших руках!»
ГЛАВА 4. ПЕРВАЯ НОЧЬ ОНИСИМА КОША – УБИЙЦЫ
Подойдя к дверям кафе на площади Трокадеро, Кош услышал зычный голос репортера-южанина, требовавшего счет и затем спрашивавшего своих товарищей, бросая театральным жестом карты на стол:
– Игра кончена, не правда ли?
Но в эту минуту он заметил входящего Коша и закричал:
– Есть новости?
– Сенсационные, – проговорил Кош, садясь рядом с ним, – спросите бумаги, чернил и пишите; это дело нескольких минут. Потом каждый из вас переделает мой рассказ по-своему. Я долго разговаривал с комиссаром. Он дал мне все необходимые сведения, за исключением одного, которое я забыл спросить: имя жертвы.
– Это не имеет значения. Его звали Форже, он был маленький рантье и жил здесь третий год. За подробностями мы можем обратиться в полицию.
– Отлично. Слушайте же.
И он продиктовал весь свой разговор с комиссаром, напирая на малейшие подробности, подчеркивая интонации, не пропуская ни одного предположения. Но он не проговорился ни единым словом о своем посещении комнаты убитого, о следах и о несообразностях, замеченных им в выводах чиновника. Это было его личным достоянием. К тому же всем остальным эти указания были бы бесполезны, воспользоваться ими мог только тот, кто знал настоящую суть вещей.
Продолжая диктовать, он машинально разглядывал зал. По прошествии нескольких минут он сообразил, что находится в том самом кафе, в котором был накануне ночью; по странной случайности он сидел на том же месте, как и вчера. Он сначала думал отвернуться, чтоб не быть узнанным, потом решил, что никто не найдет ничего странного в том, что вчерашний посетитель вернулся сегодня. Никто не обращал на него внимания. Кассирша раскладывала сахар на блюдечки, официанты накрывали столы, а хозяин, сидя около печки, мирно читал газету.
Он докончил свое повествование и с большой готовностью ответил на все вопросы, с которыми к нему обращались, испытывая двойное удовольствие: оказать услугу коллегам и оставить для себя одного всю выгоду своего сенсационного сообщения.
Они вышли все вместе. Одни сели на извозчиков; южанин поспешил к трамваю. Он же, под предлогом дел в этой стороне, пошел не торопясь пешком, довольный возможностью очутиться наконец одному и свободно размышлять, не заботясь постоянно о том, как себя держать и что говорить.
Он пообедал в простом трактире, просмотрел газеты, вернулся к бульвару Ланн, дошел до укреплений. Он чувствовал потребность двигаться, сбросить с себя внезапно одолевшую его тоску одиночества и какой-то непонятный страх, причины которого он не мог разобрать. Он с досадой подумал, что действительные преступники, те, которыми никто не занимался, были, быть может, спокойнее его в эту минуту. Он пошел по дороге, свернул на маленькие скользкие дорожки военного квартала, всматриваясь в проходящих мимо мужчин и женщин, и вдруг почувствовал ко всем этим людям с мрачными лицами, с разорванными одеждами какое-то нежное сострадание, ту братскую снисходительность, которую ощущаешь в сердце к радостям и ошибкам, которые сам испытал.
Он не отдавал себе ясного отчета, кем он был сам. Роль, которую он играл, почти не стесняла его. Он так твердо решил навлечь на себя все подозрения, что чувствовал себя почти виновным.
Да и не был ли он действительно виновен? Если бы не он, кто знает… может быть, уже напали бы на след преступников… а если бы он рассказал?..
На месте убийства он едва не рассказал всего – свою встречу, таинственное ночное посещение, потом, подумав, что он вследствие этого сообщения потеряет, промолчал. Теперь он чувствовал на себе страшный гнет. Не сделался ли он некоторым образом сообщником убийц? Скоро, может быть завтра, он должен будет ответить за это перед судом! Но, со стороны, какой успех! Какое следствие! Какую блестящую статью можно написать! Единственными преступлениями, способными возмутить его совесть, были преступления против людей; преступления против закона и его постановлений, являющихся, в сущности, собранием предрассудков, мало трогали его. Он ничего не потеряет в собственных глазах, если будет приговорен к денежному штрафу или к тюрьме за то, что посмеялся над правосудием, и тогда он всегда поспеет рассказать, что видел, что знал, так как все равно он нимало не причастен к смерти бедного старика и в то время, когда он вошел в его комнату, все было кончено. Что же касается преследования преступлений… Но кто знает, может быть, он преподаст людям один из тех уроков, после которых они делаются более рассудительными, законы – более мудрыми, а правосудие – более разумным?..
Было уже почти темно, когда он наконец вернулся домой. Увидев его, швейцар объявил, что за ним два раза приходили из редакции «Солнца» и что его спрашивал какой-то господин, не захотевший сказать своего имени. Кош начал расспрашивать о нем, но не мог ничего понять из объяснений швейцара. В другое время он только бы подумал:
«Не беда! Придет еще!..»
На этот раз он это выразил громко и продолжал волноваться и строить догадки. Часы пробили семь, и он решил, не заходя к себе в квартиру, отправиться в редакцию.
Там его ждали с нетерпением. Завидев его, секретарь редакции рассыпался в вопросах и упреках:
– Целые сутки только и делают, что его ищут. Его поведение необъяснимо. Его совсем не видать; неизвестно, где он пропадает. Накануне, после телефонного разговора, его нигде не могли найти. Сегодня, когда он знает, что его сообщений ждут с лихорадочным нетерпением, он пропадает с восьми часов утра. Из-за него «Солнце» потеряет всю выгоду своего сенсационного известия. Теперь все газеты настолько же, если не больше, осведомлены, как и он. Уже в вечерних номерах есть длинные статьи насчет убийства на бульваре Ланн.
Он раскрыл перед ним вечернюю газету:
– Вот интервью с комиссаром! Вы видите, что была возможность получить справки; эта статья была написана не позже половины двенадцатого! А вы, вы в одиннадцать часов ничего не знали!.. Ну что же, тем хуже для вас – я позвоню этому господину, чтобы он пришел, и поручу ему это дело.
Кош дал ему докончить, затем спокойно сказал:
– Позвольте мне сказать два слова?.. Вы говорите, что эта статья была написана в одиннадцать часов?
– Совершенно верно, в половине двенадцатого, самое позднее.
– Эта статья была написана не ранее половины первого или даже без четверти час…
– Полчаса разницы не имеет значения.
– Извините! Имеет, даже очень большое…
– Как можете вы так точно знать час, когда была написана статья?
– Потому что я сам ее диктовал… точно так же, впрочем, как я ее продиктовал для трех утренних газет.
– Нет, это уж слишком! Так, значит, интервью с комиссаром имели вы, и для каких-то неизвестных целей; чтобы разыграть роль доброго товарища, вы добровольно все рассказали другим? Вся пресса будет завтра обладать тем, что должно было принадлежать только нам! Это черт знает что!..
– Увы, знать об этом будет не вся пресса, к моему великому сожалению… Только три или четыре газеты не из самых важных…
– Послушайте, Кош, бесполезно продолжать этот разговор. Вы, по-видимому, находитесь в ненормальном состоянии. С другой стороны, нам невозможно поручить такому сумасбродному сотруднику важное дело, требующее неутомимой энергии и деятельности… Правда или нет ваш рассказ об интервью с комиссаром? Не имеет значения… Мое решение принято уже четыре часа тому назад: вы можете пройти в кассу и получить там жалованье за три месяца. Вы нам больше не нужны…
– Очень приятно это услышать. Я только что хотел просить вас освободить меня от моих обязанностей. Вы сами возвращаете мне свободу и прибавляете еще трехмесячный гонорар. Это больше, чем я мог ожидать… Я, правда не совсем хорошо себя чувствую… Я устал, нервничаю… Мне нужен отдых, спокойствие… Через некоторое время, когда я поправлюсь… я зайду повидаться с вами… Теперь же я уеду… Куда? Я еще и сам не знаю… Но парижский воздух мне вреден…
– Вот внезапное решение, – заметил секретарь редакции. – Вчера еще вы были совершенно здоровы… Сегодня же вы слишком плохо себя чувствуете, чтобы продолжать работать… Ведь все еще можно исправить… Зачем закусывать удила и ради бравады говорить, что вы желали покинуть нас… Забудем то, что я вам сказал и что вы ответили, и отправляйтесь скорей редактировать вашу статью… Я знаю вас и знаю, что вы найдете, что написать… Что вы, наверное, не хуже, если не лучше осведомлены, чем другие… Ну что же, голубчик, решено?
Но Кош отрицательно покачал головой:
– Нет, нет. Я ухожу… Я должен уйти… Я должен…
– Не хотите ли вы, пожалуй, бросить нас в такую трудную минуту, чтобы перейти в другую газету? Если вы хотите прибавки, проще было бы сказать это.
– Нет, прощайте, я прибавки не желаю, в другую газету не перехожу… Я просто хочу вернуть себе полную свободу, а временно или навсегда – это покажут обстоятельства…
И голосом, в котором слышна была легкая дрожь, он прибавил:
– Даю вам честное слово, что я не предприму ничего, что может повредить нашей газете, и что вы напрасно подозреваете меня в каких-то тайных целях. Расстанемся добрыми друзьями, прошу вас… Еще одна просьба. Так как я нуждаюсь в отдыхе, в полном одиночестве, так как я хочу пожить вдали от парижского шума, любопытства равнодушных и забот друзей, но, с другой стороны, мне бы не хотелось, чтоб мой отъезд походил на бегство, прошу вас, спрячьте у себя все письма, которые придут сюда на мое имя. Не оставляйте их в моем отделении: покажется странным, что я не оставил адреса, куда их пересылать… Вы отдадите их мне, когда я вернусь…
– Это ваше окончательное решение?
– Окончательное.
– Понятно, я не буду вас допрашивать, куда вы направляетесь, но все же, я думаю, вы можете сказать мне, когда вы едете?
– Сегодня же.
– А когда думаете вернуться?
Кош сделал неопределенный жест рукой:
– Не знаю сам…
Затем пожал руку секретарю редакции и вышел.
Очутившись на улице, он вздохнул с облегчением.
В несколько минут он составил себе весь план действий. Входя в редакцию, он был озабочен, взволнован. Со вчерашнего дня события шли с такой быстротой, что у него не было времени обдумать, как ему следовало вести себя. Целью его было заставить полицию сомневаться, незаметно привлечь на себя ее внимание и действовать так, чтобы она могла видеть в нем возможного преступника и в конце концов арестовать его.
Но для того чтобы достигнуть этого, ему нужно было быть свободным, не быть чем-то связанным, иметь возможность по своему желанию изменить свою жизнь, свои привычки. Будучи сотрудником «Солнца», он не мог напечатать то, что ему было известно, и подписать своим именем. И даже если бы он это напечатал, слова его имели бы значение только как мнение журналиста. Наконец, какая логика в том, чтобы человек сам описал преступление, в котором должен быть обвинен!
К тому же такое испытание не могло длиться без конца. Полиция, направленная на ложный след, могла равнодушно отнестись к делу и сдать наконец его в архив. В таком случае ему, Кошу, оставалось только написать самому на себя анонимный донос, иначе его оставят в покое, а этого он ни за что не хотел.
Он колебался, возвращаться ли ему к себе или нет, и решил, что лучше больше не показываться в своем доме. В кармане у него было около тысячи франков – неустойка, заплаченная ему «Солнцем». Этого было вполне достаточно, чтоб прожить несколько недель. Его жизнь дорого не будет стоить: комната где-нибудь в отдаленном квартале, обеды в маленьких кафе; выездов никаких. Насчет этого он был спокоен. С той минуты, как подозрения обратятся на него, его отъезд примет вид бегства и совпадение его со временем открытия преступления придаст особый вес существующим против него уликам.
Около десяти часов он решил, что пора поискать убежища на ночь. Сперва он подумал о Монмартре. В этом живом, суетливом квартале нетрудно пройти незамеченным среди кутил, артистов и всякого рода двусмысленных личностей, снующих там день и ночь. Но от площади Бланш до площади Клиши, от площади Св. Георгия до улицы Коленкур он на каждом шагу рисковал встретить знакомого.
Шумное и неспокойное население Ла Вильетт и Бельвиля могло также служить надежным убежищем, но полиция делала туда слишком частые нашествия, и, не будучи трусом, он все же предпочитал квартал, где менее в ходу кулачная расправа. Он вспомнил то время, когда он начинающим журналистом захотел пожить жизнью Латинского квартала среди студентов, представлявшихся его воображению подобными героям Мюрже [15]15
Анри Мюрже – французский писатель, автор книги «Сцены из жизни богемы». (Примеч. ред.)
[Закрыть]. Он нанимал тогда в конце улицы Гей-Люссака маленькую комнатку, вся меблировка которой состояла из железной кровати, стола, служившего одновременно и туалетом, и письменным столом, и большого деревянного сундука.
Он не прочь был очутиться опять, хотя бы на несколько дней, в этом уголке столицы, где когда-то неопытным юношей прожил дни иллюзий и энтузиазма.
К тому же в Латинском квартале или вблизи него он будет достаточно близко к центру, чтобы все новости доходили до него, и в то же время достаточно далеко, чтобы никому не пришло в голову искать его там.
Бульвар Сен-Мишель, наполненный весельем и светом, заинтересовал его. Он зашел в кафе около Люксембурга и съел бутерброд, чтобы заморить червячка, потом просмотрел газеты.
Даже «Temps», серьезный «Temps» посвящал на своей четвертой странице около двухсот строк преступлению на бульваре Ланн. В сущности, это было самое обыкновенное убийство. В Париже подобные преступления открываются каждый день, и за исключением лета, когда газеты за неимением интересных новостей помещают что попало, им отводится несколько строк на последнем месте, и дело с концом.








