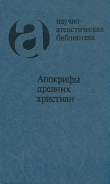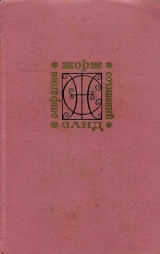
Текст книги "Снеговик"
Автор книги: Жорж Санд
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 35 страниц)
II
Что же делал Кристиано, пока господин Гёфле устраивался на ночлег? Читатель, возможно, уже догадался, что резвый домовой, круживший возле бедняги Ульфа на кухне и в погребце в поисках ужина, был не кто иной, как наш путешественник. Огорчения и страхи Ульфила позволили ему выхватить у того чуть ли не из-под носа все самое удобное для переноски съестное, найденное на кухне. В погребце ему меньше повезло. Задув фонарь перетрусившего Ульфа, он сам оказался в полной темноте и испугался, как бы его не заперли голодным в подземелье. И он тут же повернул назад, теша себя мыслью, что ему еще представится удобный случай отобрать у Ульфа его бутылки.
Наш искатель приключений не заметил появления Гёфле. Потратив целых четверть часа на тщательное исследование потайного хода из медвежьей комнаты (об этом ходе мы расскажем позднее), он выбрался из него не без труда и незаметно проник во флигель, занимаемый Стенсоном. Он подумал, что ужин предназначается для старого управляющего. Затем, прежде чем вступить во владение комнатами, которые он для себя выбрал, он хотел добыть корм ослу и побрел по дворику, смежному с галереей. Это было спустя несколько минут после того, как Ульфил испытал последний приступ страха, и поэтому Кристиано не мог насладиться забавным видом Гёфле в ночном колпаке, победно ведущего на конюшню осла, на котором восседал одетый в красное кобольд. Обследуя все помещение, отворяя все не слишком крепко запертые двери, Кристиано наткнулся наконец на двери конюшни и порадовался, увидев, что мэтр Жан с большим аппетитом уплетает ужин и утаптывает толстую подстилку из сухого мха в обществе премиленькой вороной лошадки, очень благожелательно к нему расположенной.
«Воистину, – подумал Кристиано, поглаживая благородного осла, – животные подчас куда разумнее и радушнее людей. За два дня наших скитаний в этих холодных краях Жан бывал предметом изумления, страха пли отвращения го многих домах и деревнях, и я сам, вопреки радушию местных жителей, попал в такое место, где обитают духи недоли и тяжких забот, где мне приходится промышлять грабежом, как солдату в походе, а эта вот славная лошадка, не спрашивая Жана, откуда у него такие длинные уши, уступает ему место у кормушки и сразу смотрит на него как на себе подобного. Ладно, Жан, спокойной ночи, приятель! Если я спрошу, кто тебя сюда привел и сытно накормил, ты, может быть, не удостоишь меня ответом, а если бы я не видел, что ты привязан на веревке, то подумал бы, что у тебя хватило ума самому сюда явиться. Как бы то ни было, я поступлю как ты и поужинаю, не заботясь о завтрашнем дне».
Кристиано запер конюшню и вернулся в медвежью комнату, где его ждала приятная неожиданность в виде накрытого стола; сервировка поражала красивой посудой, тяжелым серебром и белоснежной скатертью, если не считать нескольких пятен от варенья, которые Нильс оставил возле своей тарелки.
– Подумать только, – весело заметил наш чужестранец, – они не то кончили десертом, не то начали с него! Но кто же, черт возьми, обосновался тут в мое отсутствие? Пуффо не настолько избалован, что стал бы накрывать на стол; в дороге он к такому не привык. К тому же он отправился искать удачи в новый замок, иначе бы я с ним столкнулся, осматривая старый. Да я никогда и не рассчитывал на помощь этого приятеля. Если он нашел где-то на кухне уголок за столом, я уверен, что он обо мне и думать забыл, и я отлично сделал, позаботившись о себе сам. Как-никак, если он случайно вернется сюда ночевать, нельзя же, чтобы бедняга замерз у ворот.
Кристиано отпер ворота во двор, которые Ульф успел запереть после приезда Гёфле, и вернулся с твердым намерением сесть за стол с кем угодно, будь то по доброй воле или по принуждению.
«Это мое право, – убеждал он себя, – стол пуст, а я принес, чем его приятно заполнить. Если меня ждет сотрапезник, лишь бы он оказался приветливым, и мы не поссоримся; если нет, поглядим, кто кого выставит».
Рассуждая так, Кристиано пошел взглянуть, не тронул ли кто его пожиток. Он нашел их в порядке в углу, куда он их спрятал и где они остались незамеченными. Тогда он стал разглядывать сундук, чемодан и вещи, разбросанные на стульях, тщательно сложенное белье, которое, видно, собирались убрать в шкаф, парадное платье, раскинутое на спинках кресел, чтобы оно отвиселось; наконец – пустой чемодан, на крышке которого он прочел: «Господин Тормунд Гёфле, адвокат в Гевале и доктор прав Лундского университета».
«Адвокат! – подумал наш герои. – Что же, это хорошо звучит – адвокат! Адвокатом не станешь, если нет ума и таланта. Вот кто составит мне приятную компанию, если у него хватит здравого смысла не судить о человеке по одежке. Но куда же этот адвокат запропастился? Должно быть, он тоже был приглашен на праздники в замок Вальдемора и так же, как я, нашел дом переполненным или по своему вкусу избрал себе приютом этот романтический замок. Нет, скорее всего человек этот – поверенный в делах богатого барона, ибо в этой стране сословных предрассудков и скрытой ненависти вряд ли приглашают людей незнатных на дворянские увеселения. Но какое мне дело! Адвокат ушел, это бесспорно. Должно быть, он беседует со старым управляющим, или он в той комнате с двумя кроватями, о которой мне говорили и двери в которую не видно. Поискать? Но, возможно, он уже лег? Пожалуй, это вернее всего. Ему хотели подать ужин, он отказался, довольствуясь вареньем и желая только поскорее добраться до постели. Пусть же сей достойный муж мирно спит! Я отлично устроюсь в этом глубоком кресле, а если мне станет холодно, черт побери, вот великолепная меховая шуба и дорожная кунья шапка – и тело в тепле, и уши не замерзнут. Поглядим, удобно ли мне будет! О, и даже очень, – решил Кристиано, натягивая шубу и нахлобучивая шапку. – Как вспомню, что я десять лет занимаюсь серьезным делом, а надеть все нечего, и плаща-то добротного нет, особливо теперь, когда приходится блуждать по земле гипербореев!» [14]14
Гипербореи – жители арктического пояса. В греческой мифологии так назывался сказочный народ, который жил в райской стране, вечно юный, не зная болезней и войн.
[Закрыть]
Кристиано разложил на столе еду: весьма заманчивый гамбургский язык, искусно прокопченный медвежий окорок и чудесный кусок копченой лососины.
Он собирался уже сбросить с плеч шубу доктора, чтобы удобнее было есть, когда сквозь единственное окно медвежьей комнаты донесся вдруг звон бубенчиков. У этого большого окна напротив печи были все же двойные рамы, как во всех зажиточных домах северян, и старинных и новых; однако наружная рама пришла в полную ветхость и говорила о запустении Стольборга. Почти все стекла были выбиты, и так как ветер стих, звуки снаружи доносились очень отчетливо: и глухой таинственный гул, с каким недавно выпавший обильный снег отделялся от нижних затвердевших слоев и обрушивался с отвесных утесов, и отдаленные голоса с хутора на берегу озера, и жалобный вой собак, встречавших невнятными проклятиями красный диск луны на горизонте.
Кристиано из любопытства захотелось взглянуть на сани, бороздившие озерный лед совсем близко от его убежища; открыв первую раму, он высунул голову наружу через разбитое окно. Он отчетливо различил сказочное видение, скользившее у подножия скалы. Два прекрасных белых коня, которыми правил бородатый кучер, одетый на русский лад, мчали сани, сверкавшие как драгоценные каменья и отливавшие то одним, то другим цветом. Фонарь, высоко подвешенный над изящным возком, походил на звездочку, гонимую вихрем, или скорее на блуждающий огонек, догоняющий санки. Свет его, подобно свету червонного золота, лился вперед и отбрасывал теплые отблески на снег, голубевший под луною, и всеми цветами радуги расцвечивал пар, вившийся под ноздрями и над спинами коней. Ничто не могло сравниться по легкости и поэтичности с этим возком на полозьях; казалось, что сама озерная фея промчалась, как сновидение, перед ослепленным взором Кристиано. Разумеется, проезжая через Стокгольм и другие города страны, он перевидал немало саней, от самых роскошных до самых скромных; но ни одни не выглядели столь живописно и необычно, как те, что остановились у подножия скалы; ибо теперь уже сомневаться не приходилось: новый гость, на сей раз богатый, приехал вступить во владение или просто познакомиться с безмолвной стольборгскою твердыней.
«Санями я налюбовался вдоволь, – подумал Кристиано, – но черт бы побрал тех, кто в них сидит. Готов побиться об заклад, что это серьезная помеха мирному ужину, на который я рассчитывал».
Но проклятия растаяли на губах Кристиано: чей то высокий, нежный и на редкость певучий голос, какой мог принадлежать только очаровательной женщине, послышался из саней. Он звучал на языке, незнакомом Кристиано; это было местное наречие:
– Как ты думаешь, Петерсон, лошади смогут подняться до ворог старого замка?
– Да, барышня, – отвечал толстый кучер, закутанный в меховой тулуп. – По рыхлому снегу-то, надо полагать, им трудновато будет, но тут уж до нас проехали: виден свежий след, не бойтесь, въедем.
Подступы к Стольборгу, которые Гёфле назвал буграми, состояли из настоящей естественной лестницы, образованной слоистыми и неровными пластами породы. Летом тут опрокидывались и лошади и повозки, но в северных странах зима делает все дороги проезжими, а всякого путника отважным. Толстый наст обледенелого снега, плотного и ровного, как мрамор, заполняет ямы и сглаживает ухабы. Лошади, соответственно подкованные, вскарабкиваются на вершины и уверенно спускаются по крутым склонам; сани редко переворачиваются, но даже когда это случается, опасность обычно никому не грозит. Через несколько минут наш возок был уже у ворот маленького замка.
– Надо позвонить тихонько, – приказал нежный голосок кучеру. – Знаешь, Петерсон, мне бы не хотелось, чтобы старый управитель видел меня; может быть, он обо всем докладывает хозяину.
– Да он совсем глухой, – ответил кучер, слезая с саней в снег. – Ульф не проболтается, он мне друг. Лишь бы ему была охота отворить! Он малость робеет к ночи; оной понятно, замок-то…
Петерсон, должно быть, заговорил бы о стольборгских привидениях, да не успел. Ворота распахнулись как бы сами собой, и Кристиано, выглядевший не хуже кучера благодаря адвокатской шубе и меховой шапке, показался на крыльце.
– Ну вот и он, – сказал тихий голос, – остановись тут, Петерсон, и, прошу тебя, сними бубенчики с лошадей. И, как я уже тебя просила, запасись терпением, хоть я и не очень тебя задержу.
– Не торопитесь, барышня, – отвечал верный слуга, отряхивая ледяные сосульки с бороды, – вечер-то нынче выдался на славу!
Кристиано ни слова не понял из разговора, по тем по менее с восторгом внимал нежному голосу. Он подал руку маленькому созданию, до того укутанному в горностаи, что оно больше походило на снегурочку, чем на человеческое существо. Девушка обратилась к нему на далекарлийском наречии, так что он не мог понять, что она ему велит; а в том, что она давала распоряжения, у него сомнений не было, хотя голос звучал мягко. Видно, его приняли за сторожа старого замка, а коль скоро распоряжение ни в одной стране не требует иного ответа, кроме немого почтительного поклона, то Кристиано был избавлен от необходимости делать усилия – понимать и отвечать во время недолгого перехода с молодой дамой по галерее от ворот до дверей башни.
Ведя ее к медвежьей комнате, Кристиано повиновался чувству гостеприимства, не зная, оценит ли она его доброе намерение. Выбежав ей навстречу, он повиновался также и чувству любопытства, и к этому примешивалось еще желание понравиться, очень сильное в те времена у молодых и пожилых мужчин, к какому бы сословию они ни принадлежали.
Между тем молодая дама, следовавшая за своим проводником, невольно удивилась, оказавшись в знаменитой медвежьей комнате.
– Это и есть медвежья комната? – спросила она с некоторым беспокойством. – Я здесь никогда не бывала.
А так как Кристиано ничего не понял и потому ничего не ответил, она взглянула на него при свете единственной свечи, стоявшей на столе, и воскликнула теперь уже по-шведски;
– Ах, боже мой! Это не Ульфил! С кем же я имею честь говорить? Может быть, это сам господин Гёфле?
Кристиано, превосходно понимавший и свободно изъяснявшийся по-шведски, тотчас вспомнил имя, написанное на чемодане доктора, и столь же быстро сообразил, что укутанный в одежду, заимствованную у вышеназванного адвоката, он мог недурно развлечься, хотя бы на миг разыграв его роль. Чужеземец, одинокий, затерянный в стране, чьим языком он владел в силу особых обстоятельств, о которых мы узнаем позднее, но где не имел привязанностей и мог не принимать жизнь всерьез, он счел естественным позабавиться там, где представлялась такая возможность. И смело и наудачу ответил:
– Да, сударыня, я действительно Гёфле, доктор прав Лундского университета, занимаюсь адвокатской практикой в Гевале.
Говоря так, он нащупал валявшийся рядом футляр от очков и поспешно раскрыл его. То были зеленые очки, которые адвокат надевал, чтобы защитить глаза от утомительной белизны снегов. Восхищенный этой находкой, которую провидение дарит порою безрассудным людям, он нацепил очки на нос и почувствовал, что полностью преобразился.
– Ах, господин доктор, – сказала незнакомка, – приношу вам тысячу извинений, я вас не разглядела; к тому же прежде я не имела удовольствия встречаться с вами и приняла вас за стольборгского стража; именно ему-то я и велела разузнать, пообещав известное вознаграждение, что вам, верно, показалось смешным, не могли бы вы найти несколько минут для беседы со мною.
Кристиано почтительно поклонился.
– Итак, – продолжала незнакомка, – вы мне позволите изложить вам одно дело… немного затруднительное… щекотливое?
Эти два слова прозвучали столь заманчиво для ушей чужеземца, что он позабыл, какую изрядную помеху его ужину нанес сей нежданный визит, и теперь хотел только одного: увидеть лицо посетительницы, скрытое под горностаевым капюшоном.
– Я вас слушаю, – отвечал он, напуская на себя строгий тон. – Адвокат – это духовник… Но не боитесь ли вы, если останетесь сейчас в шубе, схватить потом насморк, выйдя на воздух?
– Нет, – ответила незнакомка, усаживаясь в кресло, которое ей пододвинул хозяин, – я настоящая жительница гор и никогда не простужаюсь.
И тут же простодушно добавила:
– К тому же вы, может быть, найдете, что я неуместно одета для беседы, которую испросила у столь важного и почтенного лица, каким являетесь вы, господин Гёфле: я в бальном платье.
– Боже мой! – опрометчиво воскликнул Кристиано. – Я вовсе не старый чопорный ханжа, бальным платьем меня не смутишь, особенно когда оно надето на хорошенькой женщине.
– Вы очень любезны, господин Гёфле, но я не знаю, хороша ли я и нарядно ли одета. Я понимаю, что не нужно прятать от вас лицо, ибо всякое недоверие к вам было бы оскорблением вашей честности, к которой я прибегаю, прося у вас совета и покровительства.
Незнакомка отстегнула свой капюшон, и Кристиано увидел самую очаровательную головку, какую только можно вообразить, настоящий нордический тип: синие, как сапфиры, глаза, топкие и пышные светло-золотистые волосы, нежный и свежий цвет кожи, какого не встретишь у других народов; из-под распахнутой шубки виднелись стройная шея, белоснежные плечи и гибкая талия. Все это дышало чистотою, как само детство, ибо миловидней гостье было не более шестнадцати лет и она еще не перестала расти.
Кристиано не принадлежал к числу отшельников; он был человеком своего времени, но вместе с тем не перенял распущенности той среды, куда его забросила судьба. Он был умен, а потому скромен и прост. Он спокойно и доброжелательно взглянул на эту северную красавицу, и если прежде у него мелькнула коварная мысль завлечь девушку и медвежью берлогу, то мысль эта сразу же уступила место жажде приключения, романтического и увлекательного, по вполне честного, и этой честностью дышало милое и простодушное личико его юной гостьи.
– Господин Гёфле, – продолжала она, ободренная вежливым обращением мнимого адвоката, – когда вы увидели мое лицо и убедились, что оно принадлежит отнюдь не злодейке, я должна назвать свое имя. Имя это вам хорошо известно. Но меня смущает, что вы стоите, тогда как я заняла единственное кресло в этой комнате. Мне известно, сколь вы уважаемы… Сколь уважаемы ваши достоинства, я чуть было не сказала – ваши годы, потому что, сама не знаю почему, привыкла считать вас очень старым, а вы, как я вижу, намного моложе барона.
– Вы оказываете мне большую честь, – сказал Кристиано, надвигая на глаза и шею меховую шапку со спущенными ушами, – я стар, очень стар! Молодым во мне может казаться лишь кончик носа, и я прошу прощения, что не снимаю шапки в пашем присутствии; но ваше посещение застало меня врасплох. Я снял парик и вынужден прятать свою лысину.
– Пожалуйста, без церемоний, господин Гёфле, и соблаговолите сесть.
– Если вы позволите, я останусь стоять у печки, меня мучит подагра, – ответил Кристиано, который, таким образом, оказался в тени, тогда как скудный спет свечи падал прямо на собеседницу. – Разрешите узнать, с кем имею честь…
– Да, да, – с живостью отозвалась она. – О! Вы меня хоть и не встречали, но прекрасно знаете! Я Маргарита.
– Ах, вот как! – воскликнул Кристиано тем же тоном, каким признался бы: «Мне это ровно ничего не говорит».
К счастью, девушка поторопилась объясниться.
– Да, да, – продолжала она, – Маргарита Эльведа, племянница вашей клиентки.
– А! моей клиентки…
– Графини Эльведа, сестры моего отца, полковника, того, что был другом несчастного барона.
– Несчастного барона?..
– О господи, барона Адельстана, имя которого я не могу произносить без волнения в этой комнате, того, что был убит фалунскими рудокопами… или кем-то другим! Ибо, в конце концов, кто знает, сударь! Уверены ли вы, что Это были рудокопы?
– О, что до этого, барышня, то уж если кто может поклясться честью, что ничего об этом не знает, так это ваш покорный слуга, – ответил Кристиано проникновенным тоном, который она истолковала по-своему и, казалось, была глубоко потрясена.
– Ах, господин Гёфле, – живо воскликнула она, – я так и знала, что вы разделяете мои подозрения! Нет, ничто не разуверит меня в том, что все эти трагические смерти, о которых говорили и сейчас еще шепчутся… Но мы здесь совсем одни? Нас никто не может услышать? Это так серьезно, господин Гёфле!
«Действительно, дело представляется серьезным, – подумал Кристиано и пошел взглянуть, закрыта ли входная дверь, стараясь подражать старческой походке, – только я тут ничего не понимаю».
Он оглядел комнату и опять не заметил двери в караульню, которая была закрыта и отделяла Гёфле от двух наших собеседников.
– Так вот, милостивый государь, – продолжала молодая девушка, – понимаете ли вы, что тетя хочет выдать меня замуж за человека, в котором я не могу не видеть убийцу моих близких?
Кристиано, не имевший ни малейшего понятия, о чем идет речь, решил дать своей новой клиентке разговориться, показав, что он на ее стороне.
– Не иначе, – заявил он несколько развязно, – как ваша тетушка сошла с ума… Или с ней еще что-нибудь похуже!
– Ах, что вы, господин Гёфле, тетю мою я уважаю и виню ее только в известном ослеплении или предубеждении.
– Ослепление это или предубеждение – не суть важно, но я ясно вижу, что она не желает считаться с вашей склонностью.
– О, это правда, я ведь не терплю барона! Она вам этого не говорила?
– Напротив! Я полагал…
– О, господин Гёфле, могли ли вы поверить, что в мои лета мне мог понравиться пятидесятипятилетний старик?
– Подумать только! Вашему нареченному, оказывается, к тому же еще пятьдесят пять?
– Вы так говорите, будто сомневаетесь в этом, господни Гёфле! Но ведь вам-то отлично известен его возраст, вы же его советчик и, говорят, его преданный друг… Только я не могу этому поверить.
– Черт возьми! Вы совершенно правы. Пусть меня повесят, если он для меня что-нибудь да значит. Но как вы назвали этого господина?
– Барона? Вы, что же, не знаете, о ком я говорю?
– Конечно, нет. Мало ли баронов на свете.
– Но тетя же сказала вам…
– Ваша тетя, ваша тетя! Почем я знаю, о чем толкует ваша тетя. Она, может быть, и сама того не знает.
– Увы! Простите меня: уж она-то это слишком хорошо знает! У нее железная воля. Невозможно, чтобы она не посвятила вас в свои планы насчет меня, она ведь уверяет, что вы их одобряете!
– Одобрить, что столь прелестное дитя приносится в жертву старому хрычу?
– Ах! Вот видите, вы же знаете возраст барона!
– Но какого барона все-таки?
– Какого барона? Что же, я должна вам назвать Снеговика?
– Ах! Ну да! Речь идет о Снеговике? Ну, что ж, признаюсь, мне это ничего не говорит.
– Как, господин Гёфле, вам неизвестно прозвище самого могущественного, самого богатого и в то же время самого злого, самого ненавистного из ваших клиентов, барона Олауса Вальдемора?
– Что! Хозяина этого замка?
– И нового замка, по ту сторону озера, и невесть скольких железных и свинцовых рудников, а также залежей квасцового сланца и многих долин, лесов и гор, не считая полей, стад, хуторов и озер; наконец, владельца едва ли не десятой части всей далекарлийской провинции! Вот те доводы, о которых тетя мне твердит с утра до вечера, чтобы я позабыла о том, что он уныл, стар, болен и, может быть, отягощен преступлениями!
– Черт побери! – воскликнул Кристиано в крайнем удивлении. – Вот, оказывается, у какого милейшего человека я нахожусь.
– Вы смеетесь надо мной, господин Гёфле, вы не верите в его преступления! Значит, и сейчас, когда вы говорили, вы хотели посмеяться надо мной?..
– Все, что я говорил, я готов повторить вам еще раз, но только мне хотелось бы знать, в каком преступлении вы обвиняете моего хозяина?
– Не я обвиняю его – народная молва приучила меня видеть в нем убийцу отца, брата и даже его невестки, злосчастной Хильды!
– Как! И только?
– Вам хорошо известно, что все так говорят, господин Гёфле; ведь вам было когда-то поручено?.. Нет, я ошиблась, Это ваш отец был тогда поверенным в делах барона Олауса. Барон предъявил какие-то документы. Его ни в чем нельзя было уличить; но истины так и не узнали и никогда не узнают, если только мертвые не выйдут из могил, чтобы поведать ее.
– Это иногда случалось, – отвечал с улыбкой Кристиано.
– Вы действительно так думаете?
– Так говорится на языке людей моей профессии; понимаете, когда неожиданное доказательство, потерянное письмо, позабытое слово…
– Да, я знаю; только ничего не нашли, а спустя пятнадцать или двадцать лет пришло молчание и забвение. Сперва барона подозревали и ненавидели, потом он заставил себя бояться, и этим все сказано. А теперь в самонадеянности и наглости он дошел до того, что задумал вновь жениться. Ах! Не приведи господь, чтобы я стала предметом ого ухаживаний! Говорят, он очень любил жену; но что касается баронессы Хильды, все думают…
– Что думают?
– Я вижу, что до вас не дошли местные слухи, господин Гёфле, или они вам смешны, поскольку вы спокойно расположились в этой комнате.
– Действительно, за всем этим что-то кроется, – отвечал Кристиано, внезапно пораженный воспоминанием. – Люди с мызы говорили мне нынче вечером: «Ступайте, а завтра расскажете нам, как вы провели ночь!» Верно, тут домовой или привидение…
– Надо полагать, что есть какая-то странность: призрак или действительность; потому что сам Стенсон в это верит, а может быть, и барон; после смерти невестки его ноги здесь не было, и он велел даже заделать какую-то дверь…
– Вон ту, – сказал Кристиано, указав на верх лестницы.
– Возможно, я не знаю, – ответила Маргарита, – все это очень загадочно, я думала, что вы посвящены в то, чего не знаю я. Я не верю в привидения! Тем не менее я не хотела бы с ними повстречаться, и ничто на свете не принудило бы меня сделать то, на что отважились вы, оставаясь тут ночевать. Что до барона, то правда или ложь вся история с бриллиантом…
– Ах, еще одна история?
– Она все же из всех наименее правдоподобная, с этим нельзя не согласиться, меня разбирает смех, когда я начинаю ее рассказывать. В округе говорят, что из любви к жене, которая была такой же злобной, как он сам, барон отдал ее тело алхимику, который путем перегонки превратил его в большой черный бриллиант. Вполне достоверно, что он носит на пальце странный перстень, на который я не могу смотреть без ужаса и омерзения.
– Что и служит доказательством! – заметил Кристиано со смехом. – Подумать только, что вас может ожидать подобная участь! Конечно, из реторты, где вас растворят, может выйти только прехорошенький розовый бриллиантик чистой воды; но вам-то от этого не легче, и я вам советую не подвергать себя опасности кристаллизации.
Маргарита расхохоталась; эхо старинной комнаты несколько раз повторило ее звонкий ребячий смех, искажая его так таинственно, что девушку сразу охватил страх, и, снова погрустнев, она сказала с унынием в голосе:
– Ну, тогда все кончено, господин Гёфле, вы действительно любезный и остроумный человек, так все говорят; но я ошиблась, надеясь, что вы будете думать, как я, и станете мне опорой и избавителем. Вы думаете, как моя тетка, вы сочли пустой фантазией все, что я вам рассказала, и отвергли мои сетования! Да сжалится надо мною господь! На него одного моя надежда!
– Но послушайте, – сказал Кристиано, растроганный при виде крупных слез, катившихся по ее юному лицу, на котором только что играла улыбка, – что же, вы не уверены в самой себе? Что вы мне сейчас рассказали? Вы обещали что-то поведать мне под секретом, а свели все к тому, что вам навязывают неподходящую партию и жениха, который вам неприятен. Я ожидал услышать любовное признание… Не краснейте! Любовь бывает чистой и законной, хотя бы ее и не одобряло честолюбие предков. Отец и мать могут ошибаться, и побороть их влияние не легко. А вы сирота!.. Да, конечно, раз вы зависите от старой тетки… Я назвал ее старой, а вы качаете головой. Допустим, она молода… Вернее, ей хочется, чтобы ее считали молодой. Тут уж я, видимо, мало что смыслю. Я-то думал, что она старая. Если это не так, то тем больше оснований послать ее… Я не хочу сказать куда, но пусть она получше все это обдумает, а вы тем временем посоветуйтесь со старым другом, с господином Гёфле… иначе говоря, со мной, словом, с кем-то, кто поможет вам выйти замуж за счастливого смертного, которому вы отдаете предпочтение.
– Но клянусь вам, дорогой господин Гёфле, – ответила Маргарита, – я никого не люблю. О боже, не хватало мне еще этого, и без того я достойна сожаления! Разве не достаточно ненавидеть человека и быть вынужденной терпеть его ухаживания?
– Вы неискренни, дитя мое, – продолжал Кристиано, который вошел в роль Гёфле и довольно убедительно исполнял ее, – вас пугает, что я передам ваши признания графине, моей клиентке.
– Нет, дорогой господин Гёфле, нет! Я знаю, что вы более, чем честны, – вы добры. Все вас почитают, и сам барон, который обо всех думает дурно, не решается сказать о вас ничего дурного. Я так вам доверяю, так уважаю вас, что я подождала, когда вы приедете, и сейчас признаюсь, как мне пришло в голову повидать вас, а это в будет в двух словах вся моя история, которую тетя вам передала, может быть, не совсем точно.
Выросла я в замке Дальбю (в Вермланде [15]15
Вермланд – область к северу от озера Веперн, самого большого озера Швеции, третьего по величине в Европе.
[Закрыть], в двадцати милях отсюда), под присмотром моей опекунши, графини Эльфриды Эльведа, сестры отца. Когда я говорю «под присмотром»… Видите ли, тетя любит свет, политику. Она живет при стокгольмском дворе и придворными делами интересуется куда более, чем моими, а я живу с самого рождения в заброшенном замке с гувернанткой-француженкой, мадемуазель Потен. По счастью, она очень добра и любит меня. Два раза в год тетя приезжает поглядеть, выросла ли я, хорошо ли я говорю по-французски и по-русски, не нужно ли мне чего-нибудь и следит ли суровый пастор нашей церкви за тем, чтобы мы никогда не принимали других посетителей, кроме нее и ее семьи.
– И это очень невесело?
– Да, но я не вправе считать себя несчастной. Я много занимаюсь с гувернанткой, я достаточно богата, а тетя довольно щедра, так что я не испытываю лишений; к тому же мадемуазель Потен очень милая, и, когда нам скучно, мы принимаемся за чтение романов… О! романов вполне благопристойных и очень интересных, они скрашивают одиночество; порок в них всегда бывает наказан и добродетель вознаграждена!
– Как бы не так… И все же неплохо в это верить и должным образом вести себя. Но неужели в вашем одиночестве никакой красавчик со страниц романа не закрался к вам в дом или в мысли, невзирая на пастора и на тетку?
– Нет, никогда, клянусь вам, господин Гёфле, – простодушно ответила Маргарита. – Однако могу вам признаться, что некий идеальный образ будущего мужа у меня все же возник, и когда, неделю назад, тетя вдруг показала мне барона Олауса Вальдемора, добавив: «Вот он, будь с ним полюбезнее», я нашла, что он не похож на мой идеал, и приняла его очень сухо.
– Ну, разумеется. И тогда ваша тетка…
– Высмеяла меня. «Ты дурочка, – сказала она. – Девушке благородного происхождения не следует забивать себе голову любовью. Замуж выходят не ради любви, а для того, чтобы сделаться знатной дамой. Ты станешь баронессой Вальдемора, или, клянусь тебе, ты на всю жизнь останешься узницей в этом замке и живой души не увидишь.
Больше того – я рассчитаю мадемуазель Потен: наверно, это она дает тебе дурные советы. Решай, даю тебе месяц сроку. Барон приглашает нас на рождественские праздники [16]16
Рождественские праздники в Швеции и Норвегии длятся с 24 декабря по 6 января. (Прим, автора.)
[Закрыть]в свое богатое поместье в Далекарлии. Там будет очень весело: все время охота, балы, развлечения. Ты получишь представление о его богатстве, влиянии, значении и поймешь, что это самая блестящая и почетная партия, которую ты можешь составить.
– И что же… вы сказали «да»?
– Я ответила: «Хорошо, поедемте в Далекарлию, коль скоро вы даете мне месяц на размышления». Я ничего не имела против того, чтобы повидать новые места, праздники и, наконец, просто новые человеческие лица. Но только за неделю, что мы живем здесь, клянусь вам, господин Гёфле, барон стал еще более неприятным для меня человеком, чем показался в первый день.
– Но у барона вы встретите… если уже не повстречали, кого-нибудь, кто вам будет не столь противен, кому вы откроете сердце, как вы открыли его сейчас мне, и кто вселит в вас надежду на счастье и вдохновит на борьбу куда лучше, чем какие бы то ни было советы старого адвоката!
– Нет, господин Гёфле, никому, кроме вас, я не открою своего сердца и не стану доверяться людям, которые могут встретиться в замке Вальдемора. Я слишком хорошо вижу, что барон их ловко подобрал среди тех, кто ему чем-то обязан, или же среди честолюбцев, которые боятся его или льстят ему, и что, кроме нескольких превосходных людей, которые и не думают за мной ухаживать, все в замке гнут передо мной спину, как если бы я уже была женою их покровителя! Ко всем этим провинциальным царедворцам я испытываю только презрение и неприязнь, но зато доверяю вам, господин Гёфле! Вы поверенный в баронских делах, но вы не его холоп. Ваша независимость и благородство известны всем. Видите, тете не удалось обмануть меня! Она меня уверяла, что вы одобряете все ее замыслы, и я могла ожидать, что встречу в вас насмешливого противника, исполненного презрения к моим романтическим мечтаниям; однако брат мадемуазель Потен, гувернер в одной семье тут неподалеку, хорошо вас знает. Это Жак Потен, которому вы оказали столько услуг.