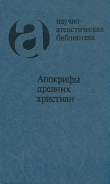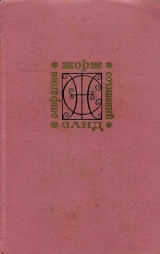
Текст книги "Снеговик"
Автор книги: Жорж Санд
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 35 страниц)
– Коль скоро мы собираемся охотиться на медведя, – сказал он в заключение, – вам непременно надлежит знать, с какой именно разновидностью мы будем иметь дело. По словам даннемана Бетсоя, этот медведь – метис; однако еще не доказано, что различные породы медведей способны скрещиваться и приносить потомство. В Норвегии насчитывают три вида медведей; bress-diur ест траву и листья и не прочь полакомиться молоком и медом; ildgiers diur питается мясом, a myrebiorn – муравьями. Что касается четвертой, еще более обособленной ветви этого семейства – белого медведя, жителя полярных морей, – нам о нем вовсе ничего не известно.
– Тем не менее, – возразил Христиан, – вот две шкуры белого медведя, и сразу видно, что они занимают далеко не последнее место в коллекции даннемана. Неужто он охотился даже на Ледовитом океане?
– Вполне возможно, – ответил майор. – Как бы то ни было, он связан, как я уже говорил, с дальним севером, и ему часто случается проделать двести миль на санях, в самую суровую зимнюю пору, чтобы обменяться товарами с охотниками, которые, в свою очередь, проходят для встречи с ним немалый путь на лыжах или в санях с оленьей упряжкой. Сегодня же он обещал показать нам помесь белого и черного медведей, но видел-то он его ночью, при обманчивом свете северного сияния, поэтому я не ручаюсь за достоверность его слов. Медведь – животное весьма недоверчивое по своей природе, и повадки его все еще мало изучены, даже в наших краях, где сотню лет тому назад медведи водились в изобилии, да и сейчас отнюдь не стали редкостью. Итак, никто не знает, что представляет собой этот светлый медведь – помесь или особую породу. Одни полагают, что черно-белая шкура означает начало или конец сезонной смены цвета, поскольку зимой она якобы белая;, другие утверждают, что белый медведь остается белым круглый год; но, собственно говоря, зачем я все это вам рассказываю, когда вы, должно быть, знаете куда больше моего? Ведь вы прочитали столько книг, знакомых мне только по названиям.
– Именно потому, что я прочел так много книг, я не сумею разрешить ваших сомнений. Бюффон не согласен с Вормзиусом как раз по вопросу о медведях, и вообще все ученые противоречат друг другу чуть ли не по всем вопросам, что не мешает каждому из них противоречить самому себе. Впрочем, это не их вина, большая часть законов природы еще представляет собой загадку для нас; а уж если повадки существ, живущих на поверхности земли, столь мало изучены или вовсе нам не знакомы, что же сказать о тайнах, сокрытых в недрах земли? Вот почему я и говорил вам, что всякий человек, как бы ничтожен он ни был, способен совершать грандиозные открытия; но вернемся к нашим медведям, или, вернее, поспешим позавтракать, чтобы двинуться им навстречу. Единственный, на мой взгляд, недостаток шведов, дорогой друг, – это привычка слишком часто и слишком подолгу сидеть за столом. Когда день продолжается двадцать часов – куда ни шло! Но когда я вижу, как невелика окружность, которую нынче опишет солнце, перед тем как вновь скрыться за горизонтом, я не могу взять в толк, в котором же часу вы намерены охотиться.
– Терпение, дорогой Христиан! – ответил, смеясь, майор. – Охота на медведя – дело недолгое. Поединок мгновенно кончается удачей или неудачей: либо вы всадите две пули в голову противника, либо он вас обезоружит и повалит с ног одним ударом лапы. А вот и даннеман приглашает нас к завтраку! Идем!
Закуска, привезенная офицерами, была отменного качества. Но Христиан тотчас заметил, что девушки и сам даннеман глядят на всю эту снедь с горечью и обидой и, радушно предложив поначалу гостям отведать своей простой пищи, теперь едва решаются смотреть на выставленные ими блюда. А заметив это, он приложил все усилия, чтобы все перепробовать и похвалить, что отнюдь не было пустой вежливостью, ибо копченый лосось и свежая дичь даннемана таяли во рту, оленье масло было вкусным на диво, брюква – мягкой и сладкой, а варенье из ежевики – свежим и душистым. Меньше понравился ему напиток из кислого молока, поданный в оловянных кувшинах. Зато он отдал должное терпкому винцу из местных ягод, которые растут, подобно ежевике, на колючем кустарнике и могут быть приготовлены на тысячу ладов. Наконец, он выразил неподдельное восхищение сладким блюдом – праздничным пирогом, нарочно испеченным для гостей, ибо семейный рождественский пирог даннемана должен был, по обычаю, остаться нетронутым до самого крещения. Даннеман решительным жестом всадил нож в великолепное сооружение из пшеничной муки, снеся напрочь затейливые башенки и колоколенки, умело вылепленные руками дочерей. И только тогда этим рослым смуглым девицам, некрасивым, но статным, убравшим черные косы и нарядные белые кофты лентами и украшениями в честь гостей, разрешено было наконец отведать пирога и смочить губы крепким пивом из отцовской кружки. К столу они не присели и черед тем, как пригубить пива, низко поклонились гостям и пожелали им счастья в наступающем году.
Нетерпение, которое Христиан, насытившись, всегда испытывал за столом, уступило место глубокой задумчивости. Спутники его, напротив, расшумелись, хотя не пили ни вина, ни водки, боясь опьянеть к началу охоты. Даннеман, сперва молчаливый и даже несколько высокомерный, теперь стал разговорчивее и, казалось, испытывал особую симпатию к своему чужеземному гостю; но он с трудом изъяснялся на своем родном шведском языке, хотя знаком был со всеми северными наречиями, умел говорить по-фински и даже научился русскому архангельскому говору. Христиан же, со свойственной ему любознательностью и способностью к языкам, уже начинал кое-что понимать по-далекарлийски, но все же ему с трудом и нередко только по жестам рассказчика удавалось следить за увлекательным повествованием об охотах и путешествиях, в то время как остальные сотрапезники с увлечением расспрашивали и слушали хозяина дома.
Устав от напряжения, с которым он вслушивался в речи даннемана, и от нестерпимой духоты в комнате, Христиан отошел от печи и стола. Он смотрел на величественный пейзаж, который простирался за окнами домика, стоявшего на краю глубокого гранитного ущелья, чьи темные склоны, исчерченные застывшими водными струями, отвесной стеной вздымались над ложем потока. Местами склон так круто обрывался к бездне, что снег не удерживался на лугах, открытых порывам ветра, и зеленый покров, чуть припорошенный инеем, сверкал на солнце, словно ковер, затканный светлыми изумрудами. Эти остатки нежной зелени, восторжествовавшей над морозом, оттенялись темной, почти черной хвоей исполинских сосен, тесным строем вставших над пропастью, подобно надгробным изваяниям, принаряженным бахромой ледяных сосулек. Те же, что росли в глубине, спрятались в снежные сугробы чуть ли не до половины ствола, а ведь ствол этот нередко достигал ста шестидесяти футов. Ветви их согнулись под тяжестью налипшего на них снега и уперлись концами в сугробы, застыв в неподвижности, словно арки готических соборов.
На горизонте скалистая гряда Севенберга вздымала к аметистовому небу розоватые вершины, покрытые вечными льдами. Было около одиннадцати часов утра; солнечные лучи уже дотянулись до синеватых глубин, которые были еще погружены в холодный и угрюмый мрак, когда Христиан их впервые увидел. С каждым мгновением у него на глазах они меняли цвет, отливая бесчисленными оттенками, подобно опалу.
Любой путешественник, наделенный художественным вкусом, непременно упомянет о великолепии заснеженных пейзажей в тех широтах, где они, словно красуясь напоказ, предстают человеческому взору. У нас никогда не увидишь столь ослепительно сверкающих снегов, и только изредка где-то среди скалистых уступов, в редкие дни, когда солнечные лучи еще не успели растопить снежный покров, мы получаем представление о многообразии красок и об игре прозрачных теней на бескрайних белых просторах. Чувство восторга охватило Христиана. Сопоставляя величественно-суровую красоту этого зрелища с приятностью теплого (даже чрезмерно теплого) жилища даннемана, он углубился в раздумье о жизни этого крестьянина и в воображении своем слился с ним воедино до такой степени, что ему почудилось, будто он сейчас находится в родных краях и в родной семье.
Кому не случалось под властью сильного впечатления погрузиться душой в непостижимую мечту, когда настоящий миг как бы раздваивается или отражается в мозгу, будто в зеркале? Тогда начинает казаться, что идешь по пройденному однажды пути, встречаешь людей, уже знакомых тебе по иному отрезку жизни, и заново повторяется в мельчайших подробностях какая-то сцена далекого прошлого. Под воздействием подобной галлюцинации памяти Христиан почувствовал, что когда-то отлично понимал этот далекарлийский язык, чуждый ему теперь, и, рассеянно внимая спокойной и неторопливой речи даннемана, поймал себя на том, что легко улавливает значение слов и даже мысленно забегает вперед рассказчика. Внезапно он поднялся в каком-то полузабытьи и, сжимая плечо майора, вскричал в чрезвычайном волнении:
– Я все понимаю! Это удивительно… но я все понимаю! Не правда ли, даннеман только что сказал, что у него было двенадцать коров, из которых три так одичали прошлым летом, что он не сумел их привести осенью домой? И что он считал их пропавшими, а одну пристрелил, чтобы она не убежала, как остальные?
– Да, он и впрямь это говорил, – ответил майор, – только случилось это не прошлым летом. Даннеман рассказывал о событиях двадцатилетней давности.
– Все равно! – перебил его Христиан. – Видите, я почти все понял. Как вы это объясните, Осмунд?
– Не знаю, но меня это удивляет меньше, чем вас; видимо, дело в вашей редкой способности изучать языки, исследовать их строй и находить аналогии между ними.
– Нет, на этот раз это было не так; я словно заново вспомнил весь рассказ.
– Вполне возможно. Вы, должно быть, в детские годы изучили бездну всякой всячины, и кое-что смутно сохранилось в памяти. Ну-ка, прислушайтесь к беседе девушек: понимаете вы что-нибудь?
– Нет, – сказал Христиан, – ничего; наитие исчезло, и я опять ничего не понимаю.
И он отвернулся к окну, чтобы еще раз постичь таинственное откровение, вслушиваясь в говор хозяев, но все было тщетно. Неясные грезы рассеялись, и, вопреки желанию Христиана, рассудок его вновь подчинился реальному ходу мыслей и впечатлений.
Тем не менее он вскоре вновь погрузился в размышления иного порядка. На этот раз воображению его предстало не фантастическое прошлое, а мечты о будущем, логически вытекающие из принятых им решений, которыми он час тому назад поделился с майором. Вот он, одетый, подобно даннеману, в долгополый кафтан-безрукавку поверх куртки с узкими, длинными рукавами, в желтых кожаных чулках, натянутых на другие, шерстяные, стриженный в скобку, сидит у раскаленной печи и рассказывает заезжему гостю о своих приключениях на плавучих льдах, в гибельной пучине Мальстрёма [86]86
Мальстрём – водоворот у северо-западного побережья Норвегии.
[Закрыть]или на неведомых тропах Сюльфьеллета.
Среди этих мирных и простых картин, представлявшихся ему как некая скупая награда за труды и скитания, он невольно искал образ подруги, разделяющей с ним на протяжении долгих лет тяготы и радости сельской жизни. Пристально вглядывался он в дочерей даннемана, – нет, не так они были хороши собой, чтобы его увлекла мысль стать супругом одной из этих мужеподобных, суровых девиц. Если нельзя обрести духовное единство с подругой жизни, лучше остаться холостяком. Призрак Маргариты то и дело появлялся в мечтах Христиана, вопреки его воле, в облике прелестной белокурой феи, сменившей привычный наряд на одежду девы гор и еще более очаровательной в белой кофточке под зеленым корсажем, нежели в платье с фижмами и шелковых туфельках; но это фантастическое переодевание было всего лишь временным маскарадом: Маргарита попала в эту картину случайно, из другой рамки; она могла только мелькнуть с улыбкой в сельской хижине и умчаться в голубых санях, разукрашенных серебром, с сиденьем из лебяжьего пуха, где для Христиана никогда не найдется места.
«Исчезни же, Маргарита! – произнес он мысленно. – Что тебе надо здесь? Нас разделяет бездна, и ты для меня только видение, пляшущее в лунном свете. Жена, которую подарит мне судьба, будет творением грубой действительности… Впрочем, нет, не надо мне жены; я ведь буду лет двадцать подряд добывать руду, пахать землю или кочевать, торгуя мехами, подобно хозяину этого дома, раньше чем совью себе гнездо на вершине одного из этих утесов. Что ж, когда мне минет пятьдесят, я поселюсь в каком-нибудь уголке этих величественных гор, буду вести жизнь анахорета и возьму на воспитание какого-нибудь брошенного ребенка, который полюбит меня, как я полюбил Гоффреди. Почему бы и нет? И разве я не буду счастлив, если к тому времени мне удастся сделать какое-нибудь открытие, полезное для человечества?»
Так размышлял Христиан о том, что уготовано ему судьбой; но его мечты о счастье, при всей их скромности, рассыпались в прах, стоило ему подумать о предстоящем одиночестве.
«А почему, собственно, вот уже сутки, как меня преследует мысль о большой любви? – спрашивал он себя. – До сих пор я почти не задумывался о завтрашнем дне. Что ж, неужели я не могу справиться с моим пробудившимся сердцем и заглушить его крик с помощью той самой добротной философии, что так помогла мне в споре с Осмундом о жизненных благах? Если я научился не думать о себе или хотя бы обходиться достаточно сурово с собой, существом материальным, когда я строю планы новой жизни, неужели я не обуздаю воображение и не запрещу ему лелеять надежду на счастье? Полно, Христиан! Раз уж ты наметил свой будущий путь и ясно понял, что тебе не суждено быть счастливым, – смирись со своей долей и скажи себе: «Пора забыть о благоухании роз и без оглядки пуститься в путь по тернистой тропе!»».
Христиан почувствовал, что сколько бы он ни напрягал свою волю, сердце его вот-вот разорвется от горя; слезы хлынули из его глаз, и он закрыл лицо руками, притворяясь, будто задремал.
– Что же вы, Христиан! – воскликнул майор, вставая из-за стола. – Нашли время спать! Вы же больше всех стремились на охоту! Ну-ка, еще посошок на дорожку, и двинемся в путь!
Христиан ответил: «Браво!» и встал. Глаза его были влажны, но улыбался он так светло, что никому и в голову не пришло бы, что он плакал.
– Следует решить, – сказал майор, – кому из нас выпадет честь первому схватиться с его мохнатым величеством.
– Разве не жребий решает? – спросил Христиан. – Я думал – таков обычай.
– Да, разумеется; но прошлым вечером вы так славно развлекали и занимали нас, что мы пытались придумать, чем бы вас отблагодарить, и вот что мы с лейтенантом решили, с согласия капрала – ведь он имеет такое же право голоса, как и мы. Жребий мы действительно будем тянуть, и тот, кто вытянет длинную соломинку, будет иметь счастье предложить ее вам.
– Неужели! – сказал Христиан. – Я вам очень признателен и благодарю вас от всего сердца, дорогие друзья; но, может статься, вы жертвуете ради меня удовольствием, которое я не в состоянии оценить. Я ведь не собираюсь выдавать себя за рьяного и бывалого охотника. Меня влечет только любопытство…
– Вы чего-то опасаетесь? – перебил майор. – В таком случае…
– Чего же я могу опасаться, – возразил Христиан, – когда мне вовсе неизвестно, чем грозит эта охота. И не такой уж я трус, чтобы отказываться идти туда, где, по-видимому, есть какая-то опасность. Повторяю, самолюбие мое тут ни при чем; я никогда еще не совершал подвигов, которые дали бы мне право надеяться на блестящий успех; не могли бы вы поэтому предоставить мне такое место, где наши шансы будут равными?
– Это невозможно. Перед судьбой шансы у всех равны; и все же удача на стороне того, кто идет впереди.
– Что ж, – сказал Христиан, – я пойду первым и выгоню медведя из берлоги; но скажу вам откровенно, мне вовсе не хочется убивать его, и даже, признаюсь, я предпочел бы иметь достаточно времени, чтобы хорошенько рассмотреть, как этот зверь выглядит и как ведет себя.
– А если он убежит от нас до того, как вы его рассмотрите? Никогда не знаешь, что взбредет ему в голову. Медведь чаще всего боязлив и, если только он не ранен, старается уйти. Поверьте мне, Христиан, возьмите на себя нападение, если хотите наблюдать что-то интересное. Иначе вы увидите, возможно, только тушу мертвого зверя: говорят, что медведь этот прячется в тесной горловине, заросшей густым кустарником.
– Тогда я согласен, – сказал Христиан, – и обещаю сегодня же вечером показать вам на моей сцене презабавную охоту на медведя. Да, да, уж я постараюсь доставить вам возможно больше удовольствия, чтобы выразить свою признательность. А теперь, майор, научите меня, как взяться за дело, чтобы пристойно покончить с медведем, не причиняя ему особых мучений; я ведь охотник сентиментальный и должен сознаться, что свирепости во мне нет ни на грош.
– Как! – воскликнул майор. – Вы никогда не видели, как убивают медведя?
– Никогда!
– О, тогда это меняет дело, и мы отказываемся от нашего предложения. Никто из нас не хочет, чтоб медведь нас искалечил, дорогой Христиан! Не правда ли, друзья мои? И что скажет графиня Маргарита, если мы вернем ей партнера по танцам со сломанной ногой?
Лейтенант и капрал были того же мнения – не следует подвергать новичка опасной схватке с диким зверем; но сердце Христиана забилось сильнее, едва, к великому его сожалению, было произнесено имя Маргариты. С этого мгновения он принялся с той же горячностью настаивать на первоначальном плане, с какой только что отказывался от него из скромности и равнодушия.
«Если мне удастся более или менее изящно убить медведя, – думалось ему, – эта жестокая принцесса, возможно, перестанет краснеть при мысли о нашей недолговечной дружбе, а если мне суждена более или менее трагическая гибель на охоте, она, быть может, прольет втайне хоть одну слезинку, когда вспомнит о бедном фигляре».
Когда майор увидел, что Христиану, по-видимому, вовсе не хочется зависеть от жребия, он тотчас же стал уговаривать друзей вернуть ему внеочередное право на схватку с медведем. Однако после этого майор подошел к даннеману и обратился к нему на его языке:
– Друг, ты ведь пойдешь вперед, чтобы послужить проводником нашему дорогому Христиану; прошу тебя, не спускай с него глаз. Он впервые выходит на медведя.
Далекарлиец был так удивлен, что поначалу даже не понял и просил повторить сказанное, после чего внимательно посмотрел на Христиана и покачал головой:
– Красивый молодец, – сказал он, – и с добрым сердцем, я уверен! Он ел мой какеброэ, как будто всю жизнь только этим и занимался; у него зубы истого далекарлийца, скажу я вам, а ведь он иностранец! Такой человек мне по душе. Досадно, что он не может говорить со мной по-далекарлийски, и еще досаднее, что он собрался туда, где сложили головы охотники половчее, чем мы с ним.
Какеброэ, о котором упомянул даннеман, представлял собой просто-напросто хлеб домашнего изготовления, выпеченный из смеси ржи, овса и толченой коры. Так как в этой стране хлеб пекут не чаще двух раз в год, такой хлеб, сам по себе очень твердый благодаря примеси мелкой истолченной березовой коры, становится, зачерствев, совершенно плоским, твердым как камень и почти недоступным для зубов чужеземцев. В историю вошли слова некоего датского епископа, который шел в поход против далекарлийцев во времена Густава Вазы: «Сам черт не справится с народом, который кормится древесиной».
Тем не менее даннеман, несмотря на свой восторг перед мощью челюстей своего чужеземного гостя, не мог, по-видимому, ручаться за его безопасность, и поэтому тревога Ларсона отнюдь не рассеялась; он снова попытался отговорить Христиана, но в это время даннеман попросил присутствующих выйти и оставить его наедине с чужеземцем. Все поняли его мысль, и Ларсон поспешил пояснить ее Христиану:
– Вам придется подвергнуться некоему кабалистическому посвящению, – сказал он. – Я уже говорил вам, что крестьяне наши верят во всевозможные чары и в помощь таинственных высших сил. Видимо, даннеман спокойно поведет вас навстречу медведю только в том случае, если сделает вас неуязвимым с помощью какого-то известного ему талисмана или заговора. Вы согласитесь на это?
– Еще бы! – воскликнул Христиан. – Я с жадностью собираю все, что касается местных обычаев. Оставьте меня одного с даннеманом, дорогой майор, и если он вызовет ко мне настоящего дьявола, я обещаю дать вам точное его описание.
Даннеман, оставшись наедине с гостем, взял его за руку и молвил по шведски:
– Не бойся!
Потом он подвел Христиана к одной из двух лежанок, образующих поперечную нишу в глубине комнаты, и, трижды позвав: «Карин, Карин, Карин!», отдернул старый, запятнанный кожаный занавес, за которым лежало какое-то существо, поражающее своей худобой и бледностью.
Эта старая, болезненного вида женщина с трудом, казалось, пробудилась от сна; даннеман помог ей приподняться, чтобы дать ей взглянуть на Христиана. В то нее время он повторил: «Не бойся!» и добавил:
– Это сестра моя, ты, должно быть, слыхал о ней; прославленная ясновидящая, одна из валминувших времен! [87]87
Вала – предсказательница, прорицательница.
[Закрыть]
Старуха, чей глубокий сон не могли потревожить ни шум трапезы, ни застольная беседа, теперь словно старалась собраться с мыслями. Бескровное лицо ее казалось спокойным и приветливым. Она протянула руку, в которую даннеман вложил руку Христиана, но тотчас отдернула свою, будто в испуге, и сказала по-шведски:
– Ах, что это, более мой? Это вы, господин барон? Простите меня за то, что я не встаю. Слишком устала я за мою горькую жизнь!
– Вы ошибаетесь, голубушка, – ответил Христиан, – вы не знаете меня; я не барон.
Даннеман, по-видимому, сказал сестре то же самое, ибо она возразила по-шведски:
– Я понимаю, вы обманываете меня: это великий ярл!Зачем он явился к нам? Зачем нарушил сон той, что так долго бодрствовала?
– Не обращай внимания на ее слова, – промолвил даннеман, обернувшись к Христиану. – Дух ее еще погружен в сон, она продолжает грезить. Сейчас она заговорит более разумно.
И добавил, взглянув на сестру:
– Ну, Карин, посмотри на этого молодца и скажи, следует ли ему идти со мной на лукавца.
Лукавцем далекарлийские крестьяне называют медведя, ибо избегают настоящего его названия.
Карин закрыла глаза руками и стала что-то с живостью говорить брату.
– Говорите по-шведски, раз вам знаком этот язык, – сказал ей Христиан, которому не хотелось упустить что-либо из обряда посвящения. – Прошу вас, матушка, научите меня, как мне должно поступать.
Ясновидящая с каким-то ожесточением крепко зажмурила глаза и сказала:
– Либо ты не тот, о ком я грезила, либо ты позабыл язык, знакомый тебе с колыбели. Оставьте меня оба, и ты и тень твоя: я ничего не скажу, я поклялась никому не говорить о том, что мне известно.
– Терпение, – сказал даннеман Христиану. – С ней всегда так поначалу. Попроси ее поласковее, и она предскажет тебе твою судьбу.
Христиан повторил свою просьбу, и ясновидящая, по-прежнему прикрывая глаза бледными руками, заговорила наконец поэтическим слогом, словно произнося заученные наизусть речи:
– Лютыйрычит в зарослях вереска, разорвав узы свои! Он умчался! Он умчался на восток, по долинам, меж топей, трясин и ядовитых потоков!
– Означает ли это, что он ускользнет от нас? – спросил даннеман, почтительно внимая словам сестры.
– Я вижу, – продолжала она, – я вижу, как бредут меж смрадных потоков клятвопреступники и убийцы! «Понятно ли вам это? Известно ли, что я хочу сказать?»
– Нет, не известно, – ответил Христиан, узнав в этих словах знакомый ему припев древних скандинавских песен «Волуспы» и узнав также, как показалось ему, голос, звучавший среди камней Стольборга.
– Не перебивай ее, – сказал даннеман. – Продолжай, Карин; мы слушаем.
– Я видела, как пылает огонь в очаге богача, – молвила она. – Но на пороге его стояла смерть.
– Ты имеешь в виду этого молодца? – спросил даннеман сестру.
Она продолжала, будто не слыша вопроса:
– Однажды в поле я подарила одежду двум лесным людям; едва надев ее, они обернулись богатырями – обнаженный человек робок.
– Вот видишь! – воскликнул Бетсой, с простодушным торжеством глядя на Христиана. – Теперь-то, надеюсь, тебе ясны ее слова?!
– Вы так думаете?
– Разумеется, все ясно! Она советует тебе получше одеться и вооружиться.
– Совет, безусловно, хорош; но разве это все?
– Слушай, слушай, она сейчас опять заговорит, – сказал даннеман.
И ясновидящая заговорила:
– Безумец полагает, что будет жить вечно, если уклонится от боя; но даже старость не принесет ему мира: миром обязан он будет лишь копью своему. «Понятно ли вам это? Известно ли, что я хочу сказать?»
– Да, да, Карин! – вскричал обрадованный даннеман. – Ты хорошо сказала и можешь вновь уснуть; дети будут охранять твой сон, и ничто тебя не потревожит.
– Тогда оставьте меня, – сказала Карин. – «Валаснова погрузится во мрак».
Она закрыла лицо покрывалом, и костлявое тело ее, казалось, утонуло, исчезло в перине гагачьего пуха – богатом подарке даннемана, благоговейно почитавшего сестру.
– Ты доволен, надеюсь, – сказал он Христиану, доставая лежавшую в углу длинную веревку. – Хорошее предсказание!
– Очень хорошее, – ответил Христиан. – На этот раз я его понял. Человеку осмотрительному незачем прятаться, самое верное – идти прямо навстречу врагу. Итак, в путь, дорогой мой хозяин! Но на что вам эта веревка?
– Дай руку, – сказал даннеман.
И он принялся тщательно обвивать веревкой левую руку Христиана.
– Вот этим ты отвлечешь внимание лукавца, – сказал он. – Когда он схватится обеими лапами за твою руку, ты другой рукой всадишь ему в брюхо рогатину; впрочем, я тебе все объясню по дороге. Ты готов – идем же!
– Ну что? – воскликнули офицеры, ожидавшие Христиана в сенях. – Суждена ли нам удача?
– Что касается меня, – ответил Христиан, – я, видимо, стал неуязвим; что же касается медведя – вряд ли ему посчастливится так, как мне. Впрочем, ясновидящая сказала, что он убежит на восток.
– Нет, нет, – прервал его даннеман таким серьезным и уверенным тоном, что все шутки мигом прекратились: – Было сказано, что лютый устремится к востоку, а вовсе не то, что он останется жив. В дорогу!
Но до того, как последовать за Христианом на охоту, вернемся на несколько минут в замок Вальдемора, откуда барон, едва взошло солнце, выехал в сопровождении всех гостивших у него мужчин, способных участвовать в охоте, и двухсот или трехсот загонщиков.
Место, выбранное на горном склоне для этой господской облавы, находилось значительно ниже, чем хижина даннемана. Поэтому дамы также проследовали туда: одни из них хотели возможно лучше увидеть охоту на медведя, другие, менее храброго десятка, решили остановиться на лесной опушке. В числе первых была и Ольга, желавшая показать барону, как ее волнует его охотничья доблесть; Маргарита же, совершенно равнодушная к этой доблести барона, оказалась среди последних, вместе с Мартиной Акерстром, дочерью пастора и невестой лейтенанта Осборна: это была славная девушка, чересчур, быть может, румяная, но приветливая, любезная и искренняя, за что Маргарита и предпочитала ее остальным. Заметим мимоходом, что пастор Микельсон, о котором шла речь в связи с историей баронессы Хильды, давно умер, – по слухам, после того, как отважился на ссору с бароном Олаусом. Его преемник был человеком весьма почтенным и выказывал большое достоинство и независимость в своих отношениях со Снеговиком, несмотря на то, что место приходского священника получил из его рук, как еще водилось в некоторых феодальных владениях. Барон, по-видимому, понял, что лучше поддерживать дружеские отношения с порядочным человеком, чем поощрять дурные склонности приятеля, который может стать опасным врагом. Поэтому с пастором он держался вежливо и тот нередко заступничал перед ним в пользу слабых и бедных, не вызывая у него приступов гнева своей искренностью.
Приглашенные не проявили особого рвения, собираясь на охоту вслед за бароном. Никто не верил, чтобы можно было встретить медведя так недалеко от замка, тем более после нескольких шумных праздничных дней. Медведь по природе своей угрюм и недоверчив. Ему вовсе не по вкусу звуки оркестра и огни фейерверка; поэтому все шепотом поговаривали о том, что если уж попадется им на путч медведь, это будет ручной зверь, ловкий плясун, который сам подойдет к владельцу замка и подаст ему лапу. Тем не менее погода была прекрасной, лесная дорога – весьма приятной, а посему никто не отказался от предложенной прогулки, даже старики, которых довезли в экипажах до уютного павильона, обставленного на сельский лад, где предстояло позавтракать или даже пообедать, в зависимости от того, какова будет добыча – медведи или зайцы.
Когда замок почти что опустел, Юхан удалил под различными предлогами неугодных ему лакеев и сам наконец принялся за расследование дела, которое вознамерился довести до желаемого конца; попутно он час за часом подробно записывал происходящее.
«9 часов утра.Итальянец кричит от голода и жажды. Ему заткнули рот. Это дело нетрудное.
В Стольборге нет никого, кроме Стенсона, адвоката и малыша-слуги. Ульф-недоумок не в счет. Христиан Вальдо исчез, если только не заболел и лежит. Адвокат, который живет в одном с ним помещении, никого туда не пускает, что начинает вызывать у меня подозрения.
10 часов утра.Капитан послал ко мне спросить, не пора ли начинать. Рано. Итальянец еще не обессилел. Христиан Вальдо, несомненно, где-то разгуливает. Я проник наконец в знаменитую медвежью комнату, где застал адвоката за работой. Говорит, что не знает, куда делся кукольник. Я видел его поклажу. Далеко он не ушел.
11 часов утра.Я обнаружил слугу Христиана Вальдо в конюшнях нового замка. Вызвал его на разговор. Он знает настоящее имя своего хозяина: Дюлак. Стало быть, он француз, а не итальянец. Зато этому Пуффо мы обязаны более интересным открытием – у нас здесь, оказывается, два Вальдо, а не один. Пуффо вчера не работал с марионетками, а тот Вальдо, с которым я разговаривал, человек с пятном во всю щеку, наврал мне с три короба. Партнер его по спектаклю незнаком Пуффо. Этот Пуффо вчера напился и все проспал. Он говорит, что знать не знает, кто мог его заменить. Хотел было я отправить его к капитану, да решил, что он не врет. Все же надо за ним присматривать. Он может пригодиться. Очевидно, второй Вальдо и есть мнимый Гёфле. Если так, оба вечером попадутся в ловушку, только бы не догадались о наших подозрениях. По-моему, Стенсон чем-то взволнован. Я велел его не трогать. На всякий случай надо, чтобы он успокоился тогда ему от нас не уйти.