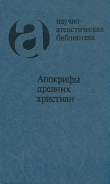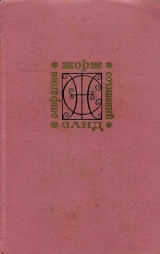
Текст книги "Снеговик"
Автор книги: Жорж Санд
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 35 страниц)
Младшая из дочерей даннемана принесла самодельную водку – прославленную хлебную водку, на которую впоследствии Густав III установил государственную монополию, введя, таким образом, тяжкий и обременительный налог, который лишил короля былой популярности, ввергнув в горькую нищету народ, только что избавленный от гнета дворянства. Является ли столь частое потребление водки насущной необходимостью в этом суровом климате? Христиану это казалось маловероятным, тем более что от напитка Этого, изготовленного лично даннеманом, чем тот изрядно гордился, немилосердно першило в горле. Радушный хозяин потчевал им гостя что было силы, не понимая, как же не напиться после того, как убьешь двух медведей. Этого Христиан при всем желании не мог выдержать, и несмотря на то, что был не прочь подпоить Бетсоя, не напиваясь самому, чтобы таким путем, быть может, проникнуть в семейную тайну, он ограничился горячим чаем, оставленным для него майором и поданным ему в деревянной чашке, изящно выструганной и выточенной юным Олофом.
Христиан испытывал некоторую неловкость оттого, что позволил себе княжеское развлечение – убить медведя за счет друзей; ведь, по сути дела, медведь-то был собственностью даннемана, ибо любая добыча является собственностью того, на чьей земле она схвачена. Христиану же его подарили друзья, иначе говоря – оплатили его сами. Он обрадовался, узнав от даннемана, что тот еще не получил денег, так как майор и его спутники не ожидали столь удачной охоты и не захватили с собой требуемой суммы. Христиан спросил, сколько же полагалось заплатить.
– Это зависит от обстоятельств, – с гордостью ответил даннеман, – иногда мне оставляют зверя целиком, и я только приношу благодарность тому, кто помог мне убить его; но, должно быть, господин Христиан, ты захочешь взять себе шкуру, лапы, жир и окорока?
– Ни в коем случае, – смеясь ответил Христиан. – Что мне с ними делать, бог мой? Прошу вас, господин Бетсой, оставьте все это у себя; а так как я полагаю, что вы берете несколько больше с тех, кто развлекается охотой на ваших землях, чем с тех, кто просто-напросто приходит к вам за товаром, разрешите предложить вам тридцать далеров, которые сейчас имею при себе…
И мысленно закончил: «и которые являются единственным моим достоянием».
– Тридцать далеров! – воскликнул даннеман. – Это много денег! Ты, стало быть, богат?
– Достаточно богат, чтобы просить вас принять их.
Даннеман взял деньги, посмотрел на них, потом перевел глаза на руки Христиана, но не заметил ничего, кроме их белизны.
– Золото у тебя чистое, – сказал он, – и руки белые. Ты не из тех, кто трудится, однако ты ешь какеброр как далекарлиец. Лицом ты мой земляк, речью – чужестранец… Одет ты был, когда приехал сюда, не лучше, чем я. Но ты горд, как я замечаю; тебе не по нраву, чтобы друзья, уступив тебе свой черед убить лукавца, еще тратили на тебя деньги…
– Совершенно верно, господин Бетсой, вы угадали.
– Будь спокоен. Ю Бетсой – честный человек; он ничего не возьмет с твоих друзей, коль скоро ты оставил ему добычу. А приму ли я что-нибудь от тебя – это зависит от многого. Можешь ли ты поклясться честью, что ты человек богатый, сын состоятельных родителей?
– Не все ли равно? – спросил Христиан.
– Нет, нет, – возразил даннеман, – ты спас мне жизнь, за это не благодарят, я для тебя сделал бы то же самое; но ты меткий стрелок и, что еще важнее, понимаешь, что тебе хотят сказать. Если бы там, в лесу, ты меня не послушался, когда я подал тебе знак, худо пришлось бы нам обоим… особенно мне, без рогатины и с попорченной веревкой на руке. Я доволен тобой и хотел бы иметь сына с твоим лицом и твоим нравом, ибо ты отважен и приветлив; стало быть, если ты небогат, незачем тебе и притворяться богачом передо мной. Какой в этом смысл? Я-то ведь далеко не беден! Живу в достатке, и ежели тебе в чем-нибудь будет нужда, обратись к Ю Бетсою, а у него то уж всегда найдутся для друга тридцать далеров, а то и целая сотня!
– Я в этом не сомневаюсь, господин Бетсой, – ответил Христиан, – и с открытой душой пришел бы просить у вас не денег, а работы. Быть может, такое и случится, не зарекаюсь; а если случится, я хотел бы явиться к вам, уплатив сперва то, что с меня причитается, все равно как если бы был богачом. На этот раз я пришел к вам еще – без нужды, и вы ничем мне не обязаны.
– Ничего мне не надо, – возразил даннеман, – забирай свои деньги и приходи, когда захочешь. Что ты умеешь делать?
– Сумею быстро научиться у вас всему, что вы мне покажете.
Даннеман улыбнулся.
– Значит, ничего не умеешь? – спросил он.
– По крайней мере умею убивать лукавцев!
– Отлично умеешь. Умеешь даже топором орудовать и рубить дрова. Это я видел. А вот странствовать умеешь?
– Лучше всего.
– Спать на скамье?
– Даже на камнях.
– Знаешь ли язык лапландцев, самоедов, русских?
– Нет, но знаю итальянский, испанский, французский, немецкий и английский.
– Это все мне ни к чему не послужит, хотя и доказывает, что можешь легко научиться говорить по-всякому. Что ж, возвращайся сюда, коли надумаешь, до конца месяца тора (января), и если захочешь отправиться в Дронтгейм или даже куда подальше, я с удовольствием возьму такого спутника. А если со мной поедет Олоф, которому уже не терпится побродить по свету, останешься при доме. Дочери у меня невесты, предупреждаю, так что берегись, как бы женихи не приревновали, не то пеняй на себя. Береги тетушку Карин: она очень кроткая, только не надо сердить ее – раз навсегда запрещаю.
– Буду ходить за ней как за родной матерью, – взволнованно ответил Христиан. – Но, скажите, она нездорова, страдает тяжким недугом? Почему..?
– Тебе все расскажут, если будешь жить у нас. Сколько хочешь получать за труды?
– Ничего.
– Как ничего?
– Разве мало иметь хлеб и крышу над головой?
– Господин Христиан, – сказал даннеман, нахмурясь, – ты, видно, лентяй или проходимец, коли будущее тебя не заботит.
Христиан понял, что своим бескорыстием вызвал у него подозрения.
– Знаком вам господин Гёфле? – спросил он.
– Адвокат? Хорошо знаком. Я ему продал лошадь, отличную лошадку! Превосходный человек этот адвокат.
– Ну вот, он может поручиться за меня. Тогда вы мне поверите?
– Ладно, договорились. Забирай свои деньги.
– А если я попрошу вас сохранить их для меня?
– Значит, они ворованные? – воскликнул даннеман, снова охваченный подозрениями.
Христиан рассмеялся, поняв, что дипломат из него не получился.
– Поверьте, – сказал он даннеману, – я человек искренний и простодушный. Я не привык, чтобы мне верили на слово: располагающая внешность еще ничего не означает. Если вы сегодня не возьмете у меня эти тридцать далеров, майор захочет дать их вам завтра, а мне это обидно.
– Майор ровно ничего мне не даст, потому что я ничего не возьму, – с живостью возразил даннеман. – На сей раз, значит, ты мне не доверяешь?
Христиану пришлось отказаться от намерения оставить свое скромное достояние в этом доме, служившем, быть может, прибежищем его матери. Это соревнование в щепетильности легко могло привести к ссоре, так как от обильных возлияний наивная гордость вольного крестьянина разгоралась все пуще. Но сани уже ждали, и Христиану пора было ехать. Он ни за что не согласился бы отменить свои последние выступления, за которые ему причиталось сто далеров – сумма вполне достаточная, чтобы начать новую жизнь, не будучи ни перед кем в долгу.
Он полагал, что даннеман поедет с ним; но Бетсой, вместо того чтобы сесть в сани, отдал поводья сыну с наставлениями быть осторожным в пути и вернуться пораньше.
– Я надеялся разделить ваше общество до замка Вальдемора, – сказал Христиан даннеману.
– Нет, – ответил тот, – я в замок не ездок! Разве что заставят силой! Прощай и до свидания!
В голосе даннемана прозвучало столько презрения и неприязни при упоминании о Вальдемора, что Христиан, пожимая ему руку, испугался, как бы тот не заметил особенного строения его мизинцев, ибо сходство это, будь оно роковым или чисто случайным, могло положить конец возникшей дружбе; но пальцы были согнуты столь незначительно, а ладонь даннемана так огрубела, что он ничего не почувствовал и долго еще махал гостю на прощание.
Олоф же, невзирая на предостережения отца, став на передке саней и обмотав руки поводьями, пустил вскачь свою лошадку вниз по склону, вовсе не помышляя о том, что может при падении отлететь далеко от саней и поплатиться в лучшем случае вывихом кистей рук.
XIV
К счастью, сани даннемана были потяжелее и покрепче тех, на которых майор привез Христиана в горный домик, иначе несдобровать бы путникам, так как юному далекарлийцу были нипочем валуны и рытвины. Вместо того чтобы предоставить лошади, значительно превосходившей его умом, свободно бежать, повинуясь инстинкту, он то хлестал ее, то дергал поводья, проявляя ненужную отвагу.
Христиану, лежавшему в санях среди четырех медведей – двух живых и двух мертвых, думалось, что падать будет довольно мягко, если только все не разлетятся в разные стороны. Наконец ему надоело смотреть, как мальчишка понапрасну мучит лошадь даннемана, и он довольно резко отобрал у возницы поводья и хлыст, сказав тоном, не допускающим возражений, что ему захотелось править лошадью.
Олоф, по природе своей, был довольно кротким и прикидывался свирепым только из самолюбия, чтобы его считали взрослым. Он тут же затянул шведскую песню, то ли от скуки, то ли чтобы спутник видел, что он лучше владеет родным языком, чем остальные члены семьи. Это и навело Христиана на мысль побеседовать с ним.
– Почему, – спросил он мальчишку, – ты не пошел с нами на охоту? Ты еще никогда не видел, как медведь встает на задние лапы?
– Тетка не позволяет, – со вздохом отвечал тот.
– Тетка Карин?
– Другой у нас нег.
– И все поступают так, как она хочет?
– Да.
– Она предсказала тебе что-нибудь плохое?
– Говорит, будто мне еще рано.
– Может быть, она права.
– Должно быть, права, раз так говорит.
– Она, видно, во всем разбирается лучше других…
– Она все знает, коли беседует с…
– С кем беседует?
– Об этом нельзя говорить: отец запретил.
– Оттого что боится, как бы не стали насмехаться над его сестрой; но он знал, что я на это не способен, раз велел мне спросить у нее, что ждет меня на охоте.
– И она вам сказала?
– Да, сказала. Откуда она могла знать?
– Оттуда же, откуда она все узнает: из водопадов, где плачут девушки, умершие от любви, из озер, где появляются люди давних времен.
– Значит, она еще может ходить?
– Она не старая, ей всего пятьдесят лет.
– А я-то думал, что она хворая.
– Она ходит куда быстрей и дальше, чем вы сами можете.
– Может быть, она сейчас болеет, раз лежит в постели, в то время как все сидят за столом?
– Нет, не болеет. Она просто устала, как всегда, когда слишком долго остается на ногах.
– Я думал, что она не работает.
– Она и не работает; она разговаривает или ходит, поет или молится, и будь то днем или ночью, не спит, пока не свалится от усталости. А уж тогда спит так долго, что можно подумать, будто она умерла; а в одно прекрасное утро исчезает, всем на удивление, и нигде ее не найдешь – ни в постели, ни дома, ни в горах; в общем, где ни ищи – нигде ее нет.
– Куда же она все-таки уходит?
– Злые люди говорят, что на Блокуллу; только это неправда!
– Что это за Блокулла? Место сбора ведьм?
– Да, это черная гора, куда злые ведьмы тащат ребятишек, которых крадут, пока те спят, и везут к сатане на коне Шюлтсе, похожем на крылатую корову. А сатана хватает их и кусает то ли в лоб, то ли в мизинец, и эта метка у них на всю жизнь остается. Но я-то знаю, почему такое болтают про тетку Карин.
– Почему же?
– Потому что давным-давно, когда меня еще на свете не было, она, говорят, принесла домой ребеночка, которому дьявол покусал пальцы, а мой отец и смотреть-то на него не хотел; но потом отец его полюбил и говорил, что тетя – добрая христианка и что про нее все врут. Приходский пастор тоже не находит в ней ничего дурного и говорит, что если ей нужно спать на бегу, не следует ей мешать, пусть бегает. Да она сама предсказывала, что умрет, а нас ждет великая беда, если ее запрут в доме. Вот почему она и ходит куда хочет, а отец говорит, что нам лучше и не знать куда, оттого что она хранит какие-то тайны и может выдать их, если за ней пойдут и подсмотрят.
– И с ней никогда ничего не случалось, когда она так бегала во сне?
– Никогда; да, может быть, она вовсе и не спит на бегу. Как знать-то? Известно только, что иногда проходит три дня и три ночи, и никто не знает, вернется ли она; но она всегда возвращается, в любую погоду, и если ей дать вволю поспать и погрезить, она не болеет и предсказывает будущее. Вот, например, нынешним утром… Но отец мне запретил рассказывать!
– Мне можешь рассказать, Олоф, все равно что вот этим камням!
– Поклянитесь Библией, что не разболтаете.
– Клянусь чем хочешь.
– Ну вот, – продолжал Олоф, радуясь, что нашел наконец солидного слушателя после долгого одиночества в горах, – вот что она сказала на рассвете, когда проснулась: «Знатный ярлпойдет на охоту. На охоту пойдет знатный ярлсо своею свитой». Знаете, кто этот ярл? Барон Вальдемора!
– А! Он действительно отправился на охоту; но твоя тетушка могла об этом слышать.
– Нет, подождите, еще кое-что есть: « Ярлоставит душу свою дома; дома оставит он душу свою». Стойте… стойте… я сейчас вспомню остальное… Она пела это… Мотив я помню, сейчас спою и вспомню слова.
И Олоф затянул совсем на заупокойный лад: «А когда ярлвернется домой за душой своей, он в доме души своей не найдет».
Едва успел юный далекарлиец произнести эти таинственные слова, как чьи-то сани, пущенные во весь опор, поравнялись с его санями и раздались повелительные возгласы кучера: «Эй, с дороги, с дороги!», и свист хлыста, подгонявшего упряжку из четырех коней, перепуганных донесшимся до них запахом медведей, лежавших в санях Христиана. К этому времени горы остались уже позади, и сани мчались по узкой дороге, ведущей к озеру. Христиан, понимая, что его опрокинут, если он не посторонится, но не имея возможности отъехать, не рухнув при этом вниз с обрыва, возвышавшегося над эльфом,хлестнул лошадь даннемана, чтобы ускорить ее бег и домчаться до такого места, где можно было уступить дорогу; но едва он взял вправо, как с ним вплотную поравнялись задние сани, возница грубо натянул поводья, не справившись с разгоряченными лошадьми, и те и другие сани опрокинулись в снег.
Христиан так глубоко ушел в сугроб вместе с Олофом и всеми четырьмя медведями, что некоторое время не понимал, с кем же он оказался погребенным в снегу. Первым голосом, который он услышал, и первым лицом, порадовавшим его взор, оказались голос и лицо прославленного профессора Стангстадиуса. Ученый нимало не пострадал от столкновения, но пришел в страшную ярость, а поэтому, оказавшись лицом к лицу с Христианом, представшим перед ним на сей раз без маски, набросился на него, осыпая бранью и призывая на его голову гнев божий и проклятие всей вселенной.
– Эй, эй, потише! – ответил Христиан, помогая ему встать на хромые ноги. – У вас, слава богу, все цело, господин профессор! Беру в свидетели моей радости по сему поводу и небо и вселенную; но если это вы так лихо правите санями, вы не очень-то любезны по отношению к тем, у кого лошади похуже ваших. Ну, ну, оставьте меня в покое, – добавил он, слегка отталкивая геолога, который уже норовил схватить его за шиворот, – а не то я обещаю, коли доведется мне опять встретиться с вами на озере, бросить вас там – замерзайте, если угодно, а я не стану больше наживать синяки, таская вас на плечах!
Профессор даже и не попытался узнать Христиана и продолжал доказывать ему в самых высокопарных выражениях, что все случилось по его вине; внезапно Христиан, намереваясь вместе с Олофом подобрать свою добычу, заметил среди медведей лежащего неподвижно человека высокого роста, уткнувшегося лицом в снег. В то же мгновение какой-то молодой человек, одетый в черное, бледный от испуга, поднялся по противоположному склону, куда он был сброшен при столкновении, и подбежал с криком:
– Господин барон! Где же господин барон?
– Какой барон? – спросил Христиан, подняв и поддерживая высокого человека, потерявшего сознание.
Но тут сын даннемана подтолкнул Христиана плечом и сказал:
– Это ярл! Посмотрите, это ярл!
Молодой врач барона поспешно снял с головы своего пациента меховую шапку, которая при падении сползла ему на лицо, едва не задушив, а Христиан, узнав в этом полумертвом человеке барона Олауса Вальдемора, почувствовал такое непреодолимое отвращение, что его сильные руки чуть было не разомкнулись и не уронили барона в снег.
Барона уложили на нагроможденные медвежьи туши: лучшего ложа в данных обстоятельствах нельзя было найти; перепуганный врач умолил Стангстадиуса, который когда-то получил степень доктора медицины, помочь ему советами и опытом в этом чрезвычайно трудном случае. Стангстадиус, ощупав все свои суставы и убедившись, что хромает не более обычного, согласился наконец заняться единственным человеком, серьезно пострадавшим при падении.
– Э, черт возьми! – сказал он, осмотрев и ощупав барона. – Дело ясное: пульс слабый, лицо посинело, губы вздулись, предсмертные хрипы… И, однако, никаких повреждений… Да, все ясно как день: апоплексический удар. Надо немедленно пустить кровь, и побольше.
Молодой врач бросился искать свои инструменты и не нашел их. Христиан и Олоф стали помогать ему в поисках, но и их усилия не увенчались успехом.
Резвые лошади умчали сани барона далеко от места происшествия; кучер, опасаясь, как бы хозяин не приказал избить его до смерти палками за оплошность, пустился вдогонку за своей упряжкой, потеряв голову от страха и оглашая пустынную местность отчаянными проклятиями.
Меж тем смирная лошадка даннемана осталась стоять на месте, и поэтому кто-то предложил поскорее отвезти барона в замок на крестьянских санях. Стангстадиус возразил, утверждая, что больной по дороге скончается. Врач, вне себя от волнения, собрался было догонять сани барона, чтобы там поискать свой футляр с инструментами. Наконец он обнаружил его в собственном кармане, где этот футляр уже не раз попадался ему под руку, но он от волнения не понимал, что это такое. Однако когда ему понадобилось вскрыть вену, рука его задрожала так сильно, что Стангстадиус, совершенно равнодушный ко всему, что не касалось его самого, и к тому же радуясь случаю показать свое превосходство, отнял у него ланцет и пустил барону кровь.
Христиан стоял рядом и, скрывая волнение, смотрел на странную и зловещую картину, озаренную багровым отсветом заходящего солнца: на этого человека с могучим телом и страшным лицом, корчившегося в судорогах среди беспорядочно разбросанных трупов диких зверей; на его толстую белую руку, откуда медленно лилась черная кровь, застывая на снегу; на молодого врача с кротким, испуганным лицом, который стоял на коленях возле своего грозного больного и не знал, что внушает ему больший страх – возможная смерть пациента у него на руках или рычание медвежат, лежавших возле него; на опрокинутые сани, разбросанное оружие, лицо юного даннемана, выражающее растерянность и в то же время тайное злорадство; на тощую лошаденку всю в мыле, безмятежно жующую снег; и над этим всем – нелепую физиономию Стангстадиуса, сияющую неизменно самодовольной улыбкой, в то время как его пронзительный голос разглагольствовал в самой педантичной и непререкаемой манере. Это было незабываемое зрелище, потешное и в то же время трагическое, быть может и непонятное на первый взгляд.
– Не стану скрывать от вас, бедный мой коллега, – говорил Стангстадиус, – у вашего больного почти нет шансов выкарабкаться! Только не думайте, что в его состоянии повинна катастрофа, – кровоизлияние неминуемо грозило ему в течение прошедших суток. Как же вы этого не предвидели?
– Я не только предвидел, – возразил молодой врач с оттенком раздражения в голосе, – я даже час тому назад говорил вам об этом, господин Стангстадиус, когда барон получил в охотничьем павильоне какое-то письмо и черты его так страшно исказились. Я не виноват, что вы позабыли. Я сделал все, что было в моих силах, чтобы отговорить господина барона ехать на охоту; он и слышать не хотел, и я только добился разрешения сопровождать его в санях.
«– Ну и ну, хорошенькую помощь он себе обеспечил! Да если бы я не увидел, что он не в силах продолжать охоту, и не предложил вернуться с вами вместе в замок, он скончался бы здесь от удушья. У вас никогда не хватило бы присутствия духа….
– Вы очень суровы с молодыми людьми, господин профессор, – прервал его вконец разобиженный врач. – Не так-то легко сохранить присутствие духа, когда тебя выбросит из саней на десять шагов в сторону, а потом, едва вскочив на ноги, надо с первого взгляда найти выход из безнадежного, быть может, положения…
– Эка важность свалиться в сугроб! – сказал господин Стангстадиус, пожимая одним плечом, так как другое не поддавалось. – Упали бы вы, как я когда-то, на дно шахты с высоты пятидесяти футов, семи дюймов и пяти линий! Полежали бы в обмороке шесть часов, пятьдесят три минуты и…
– Черт возьми, господин профессор, сейчас лежит в обмороке мой больной, а не вы! Что прошло, то прошло. Подержите-ка его руку, Нока я возьму жгут.
– Нет, все дело в том, что есть люди, которые хнычут по любому поводу, – продолжал Стангстадиус, шагая взад и вперед и не слушая собеседника.
Потом, совершенно позабыв, что только что кипел злобой против Христиана, этот вспыльчивый, но не злопамятный человек весело обратился к нему:
– Ну-ка, признайтесь, ведь я даже в лице не изменился, когда на меня навалились эти четыре туши, не считая двух других – вас и вашего приятеля? Вот еще растяпы-то! Но что такое в конечном счете несколько лишних синяков? Да я о себе и думать не стал! Я тотчас же оказался в полной готовности судить о состоянии больного и пустить ему кровь! Верный глаз, твердая рука… Слушайте, где же я вас раньше видел? – продолжал он, все еще обращаясь к Христиану и совсем позабыв о больном. – Неужели это вы убили этих зверей? Прекрасная добыча! Медведица крупная, из породы пегих, синеглазых… И подумать только, что этот болван Бюффон… Где же вы ее нашли? В здешних краях это редкость!
– Разрешите ответить вам в другой раз, – сказал Христиан, – доктору нужна моя помощь.
– Ничего, ничего, пускай течет кровь, – спокойно ответил геолог.
– Нет, нет, довольно! – воскликнул врач. – Кровопускание оказало хорошее действие, посмотрите сами, господин профессор; но не надо им злоупотреблять: такое лечение сейчас столь же опасно, как и сама болезнь.
Христиан с необъяснимым, мучительным отвращением держал тяжелую, холодную руку барона, когда врач останавливал кровь.
Больной открыл глаза и осмотрелся, пытаясь понять, где он находится. Первый взгляд он бросил на свое странное ложе, второй – на окровавленную руку, третий – на трепещущего от страха врача.
– Ага! – сказал он слабым голосом, но весьма презрительно. – Вы отворили мне кровь! Я же запретил вам.
– Это было необходимо, господин барон; вот вам, слава богу, и стало лучше! – ответил врач.
У барона не было сил спорить с ним. Угрюмо и тревожно переводил он потухший взор с одного на другого, пока не заметил Христиана и словно в каком-то отупении уставился в лицо ему широко раскрытыми глазами; когда же тот наклонился, чтобы помочь врачу поднять его, барон оттолкнул его судорожным взмахом руки, и слабый румянец, выступивший было на щеках его, вновь сменился синеватой бледностью.
– Вскройте опять вену! – воскликнул Стангстадиус, обращаясь к доктору. – Я сразу увидел, что вы слишком рано прекратили кровопускание. Говорил же я вам! А потом дайте больному минут пять полежать спокойно.
– Но холод, господин профессор, – сказал врач, машинально выполняя приказание Стангстадиуса, – вы не боитесь, что в таких условиях холод может привести к смертельному исходу?
– Вздор! Холод! – возразил Стангстадиус. – Наплевать мне на атмосферный холод! Куда страшнее холод смерти! Пусть течет кровь, говорю я вам, а потом дайте ему отдохнуть. Выполняйте предписание, а там будь что будет!
И он добавил, повернувшись к Христиану:
– Плохи дела у толстяка барона! Не хотел бы я сейчас оказаться в его шкуре… Ах, черт возьми! Да где же это я вас видел?
Но тут же он отвлекся, подобрав что-то на снегу:
– Что за красный камень? Обломок порфира? Здесь, среди гнейса и базальта? Или вы привезли его оттуда? – добавил он, указывая на западные вершины. – Он выпал у вас из кармана? Ага, видите, меня не проведешь! Я знаю наизусть все здешние породы на две мили вокруг!
Сани барона наконец воротились, и поэтому, когда несколько мгновений спустя его состояние снова улучшилось, кровопускание прекратили, больного уложили в сани и медленно повезли к замку, а Христиан поехал вперед с сыном даннемана.
– Ну, что? – сказал парнишка, когда они обогнали уныло ползущие сани барона. – Что я вам говорил перед тем, как все это стряслось? Что предсказывала тетя Карин?
– Я не понял ее песни, – ответил Христиан, поглощенный своими мыслями. – Невеселая, кажется, песня.
– «Он оставил душу свою дома, – повторил Олоф, – а когда он вернется за душой своей, он ее не найдет». Разве это не ясно, господин Христиан? Ярлзаболел; он хотел стряхнуть с себя болезнь; но душа его не желала идти на охоту, а сейчас она, наверно, находится на пути в пренеприятное место!
– Ты ненавидишь ярла? – спросил Христиан. – Ты думаешь, что душа его попадет в ад?
– Это уж как богу угодно! Что касается ненависти, я его ненавижу точно так же, как все, ни больше, ни меньше. Вы-то сами любите его, что ли?
– Я? Да я его совсем не знаю, – ответил Христиан, скрывая дрожь, охватившую его от сознания, что он ненавидит барона, должно быть, сильнее, чем кто-либо другой.
– Ничего, узнаете, если он выживет! – продолжал мальчик. – Он быстро дознается, кто его сбросил в снег, и тогда вам только останется дать тягу.
– Вот как! Значит, все думают, что тому, кого он невзлюбит, грозит беда?
– А как же! Отца своего он отравил, брата заколол, невестку уморил голодом, да еще немало других смертей него на совести, о чем хорошо знает тетушка Карин и узнали бы все, если бы она только захотела рассказать; да она не хочет!
– А ты не боишься, что гнев барона обрушится на тебя, когда он узнает, что его опрокинули сани твоего отца?
– Сани тут ни при чем, да и я тоже! Это вы вздумали править! Если бы правил я, этого, быть может, и не случилось бы; но чему быть, того не миновать: если злодея постигла беда, на то, значит, божья воля!
Христиан, все еще во власти столь жестоко поразившего его подозрения, снова вздрогнул при мысли, что судьба обрекла его стать отцеубийцей.
– Нет, нет, – вскричал он, отвечая скорее на собственные мысли, нежели на слова сына даннемана, – не я повинен в его болезни! Врачи сказали, что вот уже сутки, как он обречен!
– И тетушка Карин предсказывала то же! – твердил свое Олоф. – Ничего, будьте спокойны, он уже не жилец!
И Олоф снова принялся напевать сквозь зубы печальный припев, все больше и больше напоминавший Христиану скорбные звуки, услышанные накануне на скалистом берегу озера.
– Тетушка Карин посещает когда-нибудь Стольборг? – спросил он Олофа.
– Стольборг? – удивился парнишка. – Я бы этому поверил, только если бы увидел ее там своими глазами!
– Почему?
– Потому что она не любит этот замок; она даже названия его слышать не хочет.
– Отчего же это?
– Кто знает? А ведь она там жила когда-то, во времена баронессы Хильды; но больше я ничего не сумею вам сказать, оттого что и сам ничего не знаю: у нас дома не принято говорить о Стольборге и о замке Вальдемора!
Христиан почувствовал, что расспрашивать юного даннемана о предполагаемых отношениях его тетки с бароном было бы нескромно. К тому же на сердце у него было так мрачно и печально, что просто духу недоставало что-то еще разузнавать.
Немало способствовала его меланхолии перемена, внезапно случившаяся в атмосфере. Зашло ли солнце или нет, только оно полностью исчезло среди тумана, какой подчас сопровождает в зимние дни его появление или угасание. Эта тусклая, мрачная, свинцово-серая пелена становилась все плотнее с каждым мгновением, и вскоре уже ничего нельзя было различить, кроме дна ущелья, куда туман еще не проник. Опускаясь в глубь ущелья, туман клубился тяжелыми волнами, не смешиваясь с черным дымом от огромных костров, зажженных там, должно быть, для того, чтобы сберечь от холода остатки урожая или не дать замерзнуть какому-то потоку.
Христиан далее не спросил Олофа, зачем горят костры; угрюмо любовался он этими багряными призраками, возникшими, подобно метеорам без лучей и отблесков, на берегу стрёма, и следил за медленной и печальной борьбой темных вихрей дыма с туманом, казавшимся белым по сравнению с ними. Оледеневший поток все еще был виден; но по странной оптической иллюзии он то вился так близко от дороги, что Христиан мог, казалось бы, дотронуться до него хлыстом, то уходил в недоступные глазу глубины, хотя в действительности находился намного ближе или намного дальше, чем это чудилось в прихотливой игре тумана.
Ночь наконец наступила после долгих северных сумерек, обычно зеленоватых, а в этот вечер – мертвенно-бесцветных. Все живое в природе где-то затаилось и смолкло. Христиан чувствовал себя подавленным этой погребальной тоской, затопившей все вокруг, но мало-помалу свыкся и смирился с ней, обессилев душой. Олоф спешился, собираясь вести лошадь под уздцы по отвесному склону, у подножия которого простиралось озеро, или, вернее, бескрайняя бездна, дышавшая клубящимся паром.
Христиану представлялось, что он вот-вот сорвется с края земного шара и полетит в бездонную пустоту. Два или три раза лошадь, поскользнувшись, оседала на ноги, и Олоф уже вот-вот готов был выпустить поводья и предоставить сани и ездока на волю судьбы. Христиана же охватило безразличие, подобное смерти. Сын барона! Слова эти отпечатались черными буквами в мозгу его и убили, казалось, все мечты о будущем, всякую любовь к жизни. Это было не отчаяние, а отвращение ко всему на свете, и в этом расположении духа единственное, что он чувствовал, была непреодолимая дремота, единственное, чего жаждал, – тихо опуститься на дно озера и уснуть навеки. Он и уснул был и уже не сознавал, где находится, когда чей-то голос, неясный, как сумерки, затуманенный, как небо и озеро, запев совсем близко от него, и, вслушиваясь в слова, он постепенно стал понимать их смысл:
– «Вот солнце восходит над лугом, усеянным цветами прекрасное, светлое солнце. Я вижу, как белые феи, увенчанные листьями ивы и цветами сирени, пляшут на мшистом ковре, серебряном от росы. С ними – дитя, дитя озера, что прекраснее утра.