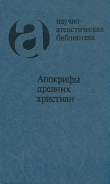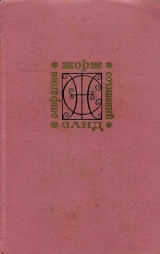
Текст книги "Снеговик"
Автор книги: Жорж Санд
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 35 страниц)
– Проклятие! Вам-то легко говорить, но когда человек не привык… А ну-ка попробуем. Допустим, что я кого-то защищаю… Только кого же мне защищать?
– Защищайте барона, которого обвиняют в убийстве брата!
– Защищать? Я бы предпочел обвинять.
– Если вы будете обвинять, то впадете в патетику, а если вы будете защищать, то можете рассмешить.
– Согласен, – сказал Гёфле, вытягивая руку, которая держала марионетку, и жестикулируя. – Я говорю речь, слушайте. «Какие обвинения вы можете выставить против моего клиента? Вы ставите ему в вину такой простой, такой естественный поступок, как избавление себя от одного из членов семьи, который мешал. Но с каких это пор человек, который любит деньги и тратит их, вынужден уважать это вульгарное соображение, которое вы называете правом на жизнь? Право на жизнь! Но мы требуем его для себя, и тот, кто говорит «право на жизнь», утверждает право на такую жизнь, какая ему желательна. Поэтому, если мы не можем жить без большого состояния и без привилегий, которые дает высокое положение, если без роскоши, без замков, без влияния и власти мы можем погибнуть от стыда и обиды, подохнуть от скуки, как говорят простолюдины, у нас есть право, мы требуем себе это право и будем им пользоваться – будем убирать с нашего пути все, что мешает процветанию, расширению, блеску нашей нравственной и физической жизни! За нас говорит…»
– Выше! – сказал Христиан, который смеясь слушал сатирическую речь адвоката.
– «За нас говорит, – повторил Гёфле, повышая голос, – традиция древнего мира, начиная с Каина и кончая великим королем Биргер-Ярлом, который уморил голодом двух своих братьев в замке Нючёпинг [78]78
Нючёпинг – город и порт в южной Швеции.
[Закрыть]. Да, господа, на нашей стороне старинный северный обычай и славный пример нравов русского двора за последнее время. Кто из вас осмелится противопоставить такую мелочь, как нравственность, великим государственным соображениям? Государственные соображения, господа; знаете ли вы, что такое государственные соображения?»
– Выше, – продолжал Христиан, – выше, господин Гёфле!
– «Государственные соображения, – вскричал Гёфле фальцетом, ибо голосом он не мог взять верхних регистров, – государственные соображения – это, на наш взгляд…»
– Еще выше!
– Черт бы вас побрал! Я с вами тут горло надорву! Благодарю покорно, хватит с меня, если надо так подвывать.
– Да нет же, господин Гёфле! Я же не прошу вас говорить выше, а вот уже целый час добиваюсь, чтобы вы подняли выше вашу руку, а вы не хотите понять, что если будете держать марионетку так, на уровне груди, никто ее вообще не увидит и вы будете играть для себя одного!
Посмотрите на меня: надо, чтобы рука у вас была выше головы. Итак, начинаем диалог! Я – адвокат противной стороны, и я обрываю вашу речь, потому что не могу сдержать своего негодования. «Я больше не в силах это слушать, и если судьи, заснувшие в своих креслах, могут вынести подобное злоупотребление человеческим словом, то, несмотря на показное красноречие моего знаменитого и страшного противника, я…» Так прерывайте же меня, господин Гёфле! Надо всегда прерывать!
– «Адвокат! – вскричал Гёфле. – Я вам не давал слова». Я буду судьей.
– Отлично, но тогда меняйте голос.
– Я не сумею…
– Сумеете! Одна рука у вас свободна, зажмите себе нос.
– Зажал, – сказал Гёфле, начиная гнусавить. «Адвокат противной стороны, вам будет дано слово…»
– Браво! «Я хочу говорить сию же минуту! Я хочу опровергнуть мерзкие софизмы моего противника!»
– «Мерзкие софизмы!»
– Отлично, отлично! Гневный голос! Я отвечаю: «Беспринципный оратор, я отдам тебя на суд общественного мнения!» Данте мне пощечину, господин Гёфле.
– Как! Чтобы я вас ударил по щеке?
– Да, по щеке моего адвоката и чтобы непременно был слышен звук пощечины. Публика при этом всегда смеется. Крепче сожмите пальцы, сейчас я буду срывать с вас колпак. Давайте сцепимся. Браво! Теперь выхватывайте марионетку из моих пальцев и швыряйте ее в публику. Дети всегда кидаются поднимать ее, смотрят на нее с восхищением и бросают обратно на сцену. Постарайтесь, чтобы вам непременно угодили в голову. Публика смеется тогда до упаду, бог знает почему, но это всегда так. Оскорбления и удары – восхитительное зрелище для толпы; под это веселье ваш персонаж покидает сцену с торжествующим видом.
– И тогда можно немного передохнуть, это просто счастье! Мне это нужно, я совсем охрип!
– Передохнуть! Ну уж нет! Operanteникогда не отдыхает. Надо поторопиться подготовить других актеров для следующей картины, и, чтобы не расхолодить публику видом пустой сцены, надо все время говорить, как будто прежние актеры все еще продолжают о чем-то спорить за кулисами или как будто новые рассуждают о только что происшедшем.
– Проклятие! Но ведь это же адский труд!
– Пожалуй, да, но нервы приходят в возбуждение, и тогда чувствуешь себя все лучше и лучше. А ну-ка, господин Гёфле, беремся за следующую сцену! Сейчас мы выведем…
– Нет уж, с меня хватит! Неужели вы думаете, что я собираюсь показывать марионеток?
– Я думал, что вы хотели помочь мне показать их сегодня вечером!
– Как! Вы хотите, чтобы я принял участие в спектакле?
– А кто будет знать, что это вы? Театр устанавливают перед дверью в комнату, куда никто не заходит. Матерчатые стены отделяют вас от публики. В случае надобности, когда есть опасность входя и выходя встретить кого-нибудь в коридоре, вы надеваете маску.
– Это верно, вас никто не видит, никто не знает, что вы там, но мой голос, мое произношение! Стоит мне только раскрыть рот, как все скажут: «Ба, да это господин Гёфле!» Хорошенькое дело! Это в мои-то годы начать заниматься такими штуками! Нет, это невозможно, давайте не будем больше об этом думать.
– Жаль, у вас это хорошо получалось!
– Вы находите?
– Ну, конечно, вы бы принесли мне такой успех!
– А мой злосчастный голос, который все знают…
– Есть множество способов его изменить. За пятнадцать минут я обучу вас трем или четырем, а больше нам на этот вечер и не понадобится.
– Что ж, попробуем. Если бы я был уверен, что никто не догадается о моем сумасбродстве! Ага, вот инструмент, назначение которого я начинаю понимать: это пенсне… А это вот кладут в рот, на язык или держат под языком.
– Нет, не то, – сказал Христиан, – это разные грубые приспособления, которыми пользуется Пуффо. Вы слишком умны, чтобы они могли вам понадобиться. Послушайте меня и подражайте мне.
– А в самом деле, – сказал Гёфле, сделав несколько удачных проб, – это не так уж хитро! В молодости мне приходилось участвовать в любительских спектаклях, я играл не хуже других: я умел изобразить беззубого старика, сюсюкающего фата, педанта, который при каждом слове облизывает себе губы. Ну хорошо, если только вы не заставите меня очень много говорить и утомлять горло, я берусь подавать вам реплики в трех-четырех сценах. Надо повторить пьесу. Что это такое? Где она? Как она называется?
– Погодите, погодите, господин Гёфле: у меня много сюжетов, которые вам достаточно будет прочесть один раз, потому что тот, который мы будем разыгрывать, изложенный вкратце и написанный крупными буквами, всегда у нас перед глазами на внутренней стенке театра. Но мне хочется сыграть с вами такую пьесу, которая была бы приятна и давала пищу вашей импровизаторской фантазии, поэтому если вы полагаетесь на меня, мы сочиним ее с вами вместе и сию же минуту.
– А это идея, замечательная идея! – сказал Гёфле. – За дело! Сядем здесь, освободите место на этом столе. Какой мы выбираем сюжет?
– Какой хотите.
– Вашу собственную историю, Христиан, или по крайней мере что-то из той истории, которую вы мне рассказали.
– Нет, господин Гёфле, история моя не из веселых и никого не может развлечь. В жизни моей нет ничего романического, кроме того, чего я сам не знаю, но на этой канве я часто вышивал приключения моего Стентарелло. Вы знаете, что Стентарелло – персонаж, годный для всех характеров и для всех ситуаций. Так вот, одна из моих причуд – это приписывать ему таинственное происхождение, как у меня самого: в начале пьесы он рассказывает о некоторых подробностях подлинной или выдуманной истории, которую София Гоффреди слышала из уст маленького еврея. Меня это иногда забавляет, и мне вдруг кажется, что я услышу из публики какое-нибудь слово, чей-нибудь крик, и моя мать отыщется. Что вы хотите! Такова уж моя причуда, но давайте поговорим о Стентарелло: это комический персонаж, то молодой, то старый, в зависимости от того, надеваю ли я ему на голову русый или седой парик. Но чтобы рассмешить людей, он должен быть сам смешон. В замысле, о котором я говорю и который предлагаю вашему вниманию, он разыскивает своих родителей и выдает себя самое меньшее за незаконного сына какого-нибудь государя. Итак, с ним происходят разные нелепые приключения, и он совершает невероятные промахи, а в конце концов узнает, что он сын простолюдина, и почитает еще за счастье, что после всех своих бед находит отца, который кормит его и принимает его под свой кров.
– Отлично, – сказал Гёфле, – мы сделаем его обжорой и сыном повара или пирожника.
– Замечательно! Вы угадали. Начинаем.
– Так пишите же, если у вас разборчивый почерк. Я пишу слишком медленно, чтобы за вами успеть, и почерк мой все равно что кошачье царапанье. Черт побери, у вас чудесный почерк! Но что вы такое делаете?
– Я сначала составляю список всех персонажей.
– Вижу, но в первом акте у вас значится Стентарелло в пеленках?
– Вот что я думаю, господин Гёфле. Мне надоело заставлять беднягу Стентарелло пересказывать все то, что я слышал о самом себе – как меня когда-то спустили на веревке из окна в лодку. Если вы ничего не имеете против, мы все это представим на сцене.
– Вот это здорово! Только как же вы ухитритесь это сделать?
– У меня есть на декорации старый замок…
– Что же вы с ним собираетесь делать?
– Я сделаю из него Стольборг. Мы дадим ему другое название, но это будет тот романтический пейзаж, который поразил меня на озере, когда заходило солнце; я его нарисовал.
– Вы хотите писать красками?
– Да, пока вы будете писать, хорошо или худо, – это не важно: мы с моим бедным Гоффреди столько расшифровали разных иероглифов! Помните, что времени у нас мало; у меня есть все необходимое, чтобы переделать декорации так, как нам надо: жестяная баночка с застывшим клеем, мешочки с разноцветной пудрой… Холст у меня ка, к раз подходит по размеру к заднику, да и просохнет все за каких-нибудь пять минут. Мне больше ничего и не надо будет, чтобы сделать окно в моей квадратной башне. Вот посмотрите, господин Гёфле: сначала я делаю вырез в холсте… вот этими ножницами; потом я подогреваю в печке клей… Я набрасываю углем кучу больших валунов – видите? Иные из них нависают… Я все это как следует разглядел, это было очень красиво… Внизу будет лед… Впрочем, нет, надо, чтобы это была вода, – у нас ведь есть лодка…
– А где вы ее возьмете?
– В ящике с аксессуарами. Вы что, думаете, что у меня нет лодки? Что нет кораблей, карет, тележек и разного зверья? Как бы я мог обойтись без всего этого арсенала вырезных фигур? Ведь это благодаря им я могу поставить любую пьесу, а места они занимают так мало. Кстати, вот еще одна идея, господин Гёфле: я помещаю лодку под этим сводом из валунов.
– Зачем?
– Зачем? Это придаст сцене больший эффект! Выслушайте меня внимательно: у нас же в пьесе предполагается очень таинственное рождение ребенка?
– Ну, разумеется.
– Сопряженное с опасностями?
– Непременно.
– Это Дитя любви?
– Как вам будет угодно.
– Ревнивый муж… Нет, никаких прелюбодеяний. Если случайно это в самом деле окажется моей собственной историей, то я предпочел бы не быть плодом грешной любви. Моя мать… бедная! Может быть, мне даже не в чем ее упрекнуть – спасает меня от мести свирепого брата или дяди… который готов убить меня, лишь бы скрыть неравный и тайный брак!
– Отлично; оставляю за собой роль безжалостного дяди, какого-нибудь испанского гранда, который хочет убить ребенка! Чтобы спасти его, это невинное создание выбрасывают из окна и прячут где-то на дне озера, рискуя его потопить.
– О господин Гёфле, все это чистая фантазия! У меня другая школа. Я всегда остаюсь в пределах известного романического правдоподобия, потому что заведомо неправдоподобные положения не вызывают ни смеха, ни слез. Нет, нет, будем представлять настоящих убийц, безобразных и смешных, какие действительно бывают на свете. Покамест они бродят по валунам, наблюдая за окном, лодка, на которой уже потихоньку успели спрятать драгоценный груз (установленный стиль), мягко и бесшумно скользит под скалами, под самым носом у сбиров, которые ничего не подозревают. Публика растрогана, и особенно потому, что фигуры разбойников вызывают в ней смех. Она очень любит одновременно и плакать и смеяться. И занавес падает в конце первого акта под гром аплодисментов.
– Превосходно, превосходно! – вскричал Гёфле. – Так, значит, лодка отплывет! А в окне разве никого не будет?
– Будет! У меня ведь две руки. В то время как левой я толкаю мой челн по прозрачным водам, правой я держу в окне верную служанку, которая спустила вниз корзину с ребенком, с мольбою простирает свои маленькие деревянные руки к небу и нежным голосом восклицает: «Божественное провидение, убереги рожденное в тайне дитя!»
– Так, так! А мать разве не появится?
– Нет, это было бы неудобно.
– А отец?
– Отец в Палестине. Это место, куда всегда отправляют актеров, которые ни на что не нужны.
– Ну и отлично, но если сбиры подняты на ноги, если есть брат с испанским представлением о чести и верная дуэнья, то, значит, Стентарелло происходит из знатного рода?
– Ах, черт возьми, так как же все уладить?
– Очень просто. Ребенок, которого мы спускаем из окна, – это Алонсо, сын герцогини. Стентарелло же – сын пирожника монсеньера.
– Но зачем нам этот пирожник?
– Откуда я знаю? Это вы должны придумать. Никаким писанием картин вы мне тут не поможете!
– Посмотрите же, господин Гёфле, какое у меня хорошее небо!
– Чересчур хорошее, уж очень оно бросается в глаза.
– Вы правы. Черт возьми! У вас верный глаз, господин адвокат. Я сделаю мою башню потемнее.
– Прекрасно. Теперь ваше розовое небо красиво и напоминает светящиеся облака нашего севера. Но ведь это же отнюдь не небо Испании?
– Так давайте перенесем тогда действие в Швецию, почему бы и нет?
– Ну уж нет, не согласен. Вы знаете, что во всем этом акте… и особенно на фоне этого вида Стольборга, который вы только что написали… если дать волю воображению, может возникнуть повод к некоторым параллелям.
– С историей баронессы Вальдемора?
– Кто знает? На самом деле их нет, там ведь не было ребенка. Но кто-то может решить, что мы изображаем мнимое пленение дамы в сером. Нет, Христиан, пусть это будет в Испании! Так гораздо лучше.
– Испания так Испания! Итак, мы говорим, что у пирожника есть малютка; он только что родился, и он станет потом знаменитым Стентарелло. Словом, повар замка послал этому пирожнику от барона…
– От барона?
– Вы напомнили мне про барона, начав говорить о возможных параллелях. Нашего предателя будут звать дон Диего или дон Санчо.
– В добрый час! Итак, повар барона… Чудно! Я того же мнения! Я про дона Санчо, что он ему посылает?
– Великолепный пирог в корзине, он должен будет его испечь.
– Понял! Понял! Он положил эту корзину в лодку. Лодочник, которому поручено увезти и спасти рожденного тайно ребенка, невнимателен и уносит обе корзины; потом он по ошибке относит пирог кормилице, а пирожнику – ребенка, чтобы тот его сунул в печь!
– И добрый пирожник воспитывает обоих детей, или нет: он путает их и оставляет у себя сына герцогини. Засим следуют бесконечные перипетии, и мы уверенно движемся к развязке. Мужайтесь, господин Гёфле, я кончил писать декорацию и снова берусь за перо. Давайте приведем в порядок все сцены. «Сцена первая: повар один».
– Погодите-ка, Христиан. А почему ребенка не отнесли вниз по лестнице?
– Да, в самом деле, тем более что в Стольборге есть потайная лестница; только ее охраняют сбиры.
– Они неподкупны?
– Нет, но герцогиня стеснена в деньгах, а у предателя полны карманы золота. «Вторая сцена: дон Санчо, свирепый дядюшка, является для того, чтобы наблюдать за преступлением».
– Почему же сам он не поднимется на башню, где томится его жертва, и почему бы ему попросту не выбросить ребенка из окна?
– Ну, на этот счет я ничего не знаю. Предположим, ребенок еще не родился, и ждут, пока наступит роковая минута!
– Прекрасно. Значит, ребенок должен вот-вот родиться, и когда дон Санчо входит в башню и поднимается по лестнице, Пакита, служанка, спускает вниз только что появившегося на свет ребенка! Скажите, а ребенка зрители увидят?
– Конечно! Я нарисую его в колыбели. Ниточка будет изображать веревку. Все это будет вырезано и видно на заднем плане.
– Итак, предатель раздосадован, оттого что птичка улетела. Что же ему делать? Что, если мы дадим ему выброситься из окна и разбить голову о камни?
– Нет! Прибережем это к развязке пьесы, это отличный конец!
– Ну, тогда он в ярости убивает свою несчастную племянницу. Слышен крик, и появившийся на сцене убийца говорит: «Честь моя отомщена».
– Его честь! По-моему, уж лучше ему сказать: «Состояние мое упрочено».
– Почему?
– Потому что он наследует все после герцогини: не будем же его делать злодеем только наполовину, раз мы все равно решили, что он в конце концов разобьет себе голову!
– Разумеется, это логично, по…
– Но что?
– А то, что мы снова попадаем в историю барона Олауса, какой ее рассказывают его враги: отравление родственницы, исчезновение…
– Какое это имеет значение, если вы уверены, что эта история – вымысел?
– Я в этом совершенно уверен, и все же… Послушайте, вашим таинственным голосом, мыслью о пленнице в подземелье, тем, как вы объяснили мое собственное видение этой ночью, и вашими словами из Библии вы сделали меня настоящим ясновидцем.
– Так как во всем этом, очевидно, нет ничего, кроме игры нашего воображения, мы не рискуем никого обидеть, и к тому же, господин Гёфле, если даже, надев маску и выступая под псевдонимом Христиана Вальдо, я вызову господина барона какое-нибудь неприятное воспоминание, то позвольте вас спросить, какое мне до этого дело? Что же касается вас, то когда вы окажетесь рядом со мною, инкогнито ваше будет полностью сохранено…
– Что касается меня, то стоит только барону поручить меня своим подлым лакеям, и они начнут выслеживать каждый мой шаг и обо всем ему доносить…
– Ну, если вы действительно подвергаете себя какому-то риску, то не будем больше об этом говорить и поищем поскорее другой сюжет для комедии.
Гёфле оставался некоторое время погруженным в свои мысли, к великому нетерпению Христиана, который с тревогой посматривал на стрелку часов. Наконец адвокат ударил себя по лбу, стремительно вскочил и, начав ходить взад и вперед по комнате, воскликнул:
– Но кто знает, не означает ли это убегать от поисков истины? Неужели же я окажусь в роли трусливого придворного этого сомнительного героя? Неужели же совесть моя не будет чиста? Неужели скажут, что некий скиталец, иными словами – красивый и добрый посланец судьбы, достойный, разумеется, лучшей доли, при всей своей беспечности, найдет в себе мужество бросить вызов могучему врагу, тогда как я, официальный служитель истины, облеченный доверием, ревнитель человеческой и божественной справедливости, закоснею в эгоистической лени, граничащей с подлостью? Христиан! – добавил Гёфле, снова усаживаясь, но все еще пребывая в большом возбуждении, – давайте перейдем ко второму акту и сочиним страшную пьесу! Пусть ваши марионетки прославят себя сегодня! Пусть они станут серьезными персонажами, живыми образами, орудиями судьбы! Пусть, так же как в трагедии о Гамлете, эти актеры сыграют драму, которая заставит трепетать и бледнеть торжествующее преступление, в конце концов раскрытое! Итак, Христиан, за дело! Предположим… все, что в этих местах предполагают относительно барона: что он отравил отца, зарезал брата, уморил голодом невестку…
– Да, как раз в этой комнате! – сказал Христиан, пытавшийся представить себе декорацию третьего акта. – Посмотрите, какая это будет прекрасная сцена! Мне думается, что ребенок… Раз мы держимся того мнения, что ребенок существовал, будем также думать, что сын герцогини вернется через двадцать пять лет, чтобы восстановить истину и наказать преступника! Пусть же наши марионетки продолбят эту таинственную стену и найдут там, за этими кирпичами… Можно быстро написать декорацию для данного случая, я выкрою на это время…
– Найдут что? – спросил Гёфле.
– Не знаю, – ответил Христиан, сразу помрачнев и погрузившись в раздумье, – В голове у меня проносятся такие тяжелые мысли, что я уже отказываюсь от этой темы. Она лишит меня всего моего задора, и, вместо того чтобы продолжать пьесу, я, раздираемый любопытством, начну ломать эту стену…
– Дорогой мой Христиан, не сходите с ума! Достаточно того, что сам я уже спятил, – ведь все это сплошной бред, и совесть моя не позволяет придавать значение подозрениям, рожденным несварением желудка и праздностью ума. Закачивайте пьесу и сделайте ее безобидной, если вы хотите, чтобы публика развлеклась. А я хочу немного поработать: тут надо разобрать одну папку, которую мне передал Стенсон; надо составить определенное мнение о том, что в ней содержится, – ведь с минуты на минуту барон может прислать ко мне за тем решением, которое я ему обещал сегодня утром.
Христиан принялся писать пьесу, а Гёфле – читать судебное дело; оба расположились на противоположных концах большого стола, сдвинув на середину остатки завтрака. Ульфил пришел и молчаливо заменил их новыми кушаньями. Он находился в обычном для него состоянии легкого опьянения и завел с Гёфле довольно длинный разговор, которого Христиан не слышал, да и не захотел слушать: речь шла о супе из молока, пива и сиропа – национальном блюде, которое Гёфле заказал себе на ужин и которое, по словам Ульфила, лучше него никто во всей Швеции не сумеет приготовить. Обещанием своим он обезоружил адвоката, сердившегося на него за то, что он напоил его маленького лакея. Ульфил же поклялся, что знать ничего не знает, и, может быть, это была совершенно искренняя клятва, исходившая от человека, которого винные пары не лишали ни спокойствия, ни уверенности в себе.
В шесть часов Христиан все закончил, а Гёфле не работал: он был слишком взволнован и встревожен, и всякий раз, когда Христиан случайно поднимал глаза, он встречал его сосредоточенный и напряженный взгляд. Думая, что Это свидетельствует о том, что Гёфле поглощен работой, он не хотел ничем его отвлекать, но в конце концов, уже несколько обеспокоенный, спросил адвоката, не захочет ли он прочесть пьесу.
– Конечно, – ответил Гёфле, – только почему вы мне не прочтете ее сами?
– Это невозможно, господин Гёфле. Сейчас надо отобрать кукол, немного приодеть их в соответствии с пьесой, собрать декорации, нагрузить все это на осла и быстро отправиться в новый замок, чтобы осмотреть помещение, где мы будем играть, расставить все по местам, наладить освещение и так далее. Я не могу больше терять ни минуты. В восемь часов начало.
– В восемь часов! Черт возьми! Какое неудобное время. Значит, ужинать в замке будут не раньше десяти? А когда же будем ужинать мы?
– Ах да, ужин, надо в пятый раз садиться за стол! – в отчаянии вскричал Христиан, торопясь все собрать. – Ради всего святого, господин Гёфле, поужинайте лучше сию же минуту, чтобы через час быть готовым. Вы прочтете пьесу за едой.
– Как бы не так! Ничего себе вы мне тут режим устроили! Есть, когда нет аппетита, и читать во время еды, чтобы пища не переваривалась!
– Тогда не будем больше об этом думать. Я попробую сыграть всю пьесу один. Сделаю все как смогу. Ничего! Какой-нибудь добрый дух мне поможет!
– Нет! Нет! – вскричал Гёфле. – Этим добрым духом хочу быть я; я вам это обещал, а я всегда держу свое слово.
– Нет, господин Гёфле, благодарю вас, для вас это непривычное дело. Вы человек рассудительный, вы не поступитесь вашими важными занятиями, чтобы надеть на голову шутовской колпак с бубенцами! Очень неделикатно было с моей стороны согласиться на это.
– Вот как! – воскликнул Гёфле. – За кого же вы меня принимаете? За болтуна, который бросает на ветер слова, или же за старого педанта, неспособного весело поболтать?
Христиан увидел, что противоречить адвокату было лучшим способом вернуть его к ранее принятому решению и что сей достойный муж отлично мог перевоплотиться в комического актера и для этого ему требовалось не больше подготовки, чем самому Христиану. Поэтому он еще больше раздразнил его притворной скромностью и ушел лишь тогда, когда убедился, что адвоката почти рассердили его сомнения, что он твердо и даже не без ожесточения решил, что окажется на высоте, даже если ему придется съесть без аппетита суп на молоке и пиве и учинить непростительное насилие над своими повседневными привычками.
Христиан находился уже на полпути между Стольборгом и замком Вальдемора, как вдруг столкнулся лицом к лицу с каким-то черным призраком, бежавшим вприпрыжку по льду. Он без особого труда узнал в нем Стангстадиуса, спешившего, как и он, с потайным фонариком в руке и готового вступить в разговор. Так как Христиан был уверен, что этот человек, не обращающий ни малейшего внимания на других, его не узнает, то он счел излишним опускать на лицо маску и изменять голос.
– Эй, друг, – сказал ученый, не потрудившись даже взглянуть на него, – вы что, из Стольборга?
– Да, сударь.
– Вы там видели доктора Гёфле?
– Нет, сударь, – ответил Христиан, сразу же представив, себе, какую неприятную смуту внесет подобное посещение во все благие намерения его нового компаньона.
– Как! – воскликнул Стангстадиус. – Доктора Гёфле нет в Стольборге? Он же сам мне говорил, что остановился там.
– Он там недавно был, – уверенно ответил Христиан, – но два часа тому назад он уехал в Стокгольм.
– Уехал! Уехал, не дождавшись моего визита, после того как я еще сегодня утром предупредил его, что приду в старую башню с ним поужинать? Нет, это невозможно.
– Он, наверно, забыл?
– Забыл! Забыл! Это меня-то? Вот так здорово!
– Ну хорошо, сударь, – сказал Христиан, – идите туда, если вам угодно, только вы не найдете там ни ужина, ни адвоката.
– В таком случае я не пойду, но только это какая-то невероятная история! Должно быть, бедняга Гёфле сошел с ума!
И Стангстадиус, повернувшись, пошел вслед за Христианом, который продолжал свой путь в замок. Через несколько минут натуралист опомнился и стал громко говорить сам с собою по своей всегдашней привычке:
– Ну хорошо, Гёфле уехал, это горячая голова, сумасброд; ну а его племянник? У него же ведь есть племянник, прелестный молодой человек, с которым можно поговорить; он знает, что я приду туда к ужину, и, наверно, ждет меня. Нет, мне надо пойти туда, непременно надо пойти… Вот что, друг мой, – сказал он, обращаясь к Христиану, – я во что бы то ни стало хочу попасть в Стольборг… Я много ходил сегодня по снегу и очень устал, не одолжите ли вы мне пашу лошадку?
«– С большим удовольствием, сударь, но если вы хотите найти племянника господина Гёфле…
– Да, конечно, Христиана Гёфле, так его зовут. Вы видели его? Вы ведь служите в Стольборге, не правда ли? Тогда вернитесь туда, дайте мне вашу лошадку, а сами идите вперед и велите приготовить ужин. Это неплохая идея!
И не дожидаясь ответа Христиана, Стангстадиус, прельщенный маленьким ростом и спокойным шагом Жана, которого он упорно принимал за лошадь, решил сесть на него верхом, нимало не беспокоясь о навьюченном на него грузе, но встретил решительное сопротивление.
– Оставьте его в покое! – сказал Христиан, которого начало раздражать его упрямство. – Племянник господина Гёфле уехал вместе с дядей, а Стольборг заперт на ключ, как тюрьма.
– Как, и молодой человек уехал! – удивленно воскликнул Стангстадиус. – Боже ты мой! Должно быть, в этой семье случилась какая-то беда, если и дядя и племянник могли позабыть о моем обещании быть у них; но должны же они были оставить мне письмо. Надо сходить за ним.
– Никакого письма они не оставили, – ответил Христиан, которого осенила новая мысль. – Они поручили мне передать некоему господину Стангстадиусу в новом замке, что им пришлось уехать. Да этим-то я и иду сейчас в новый замок.
– Некоему Стангстадиусу! – в негодовании вскричал ученый. – Они так и сказали некоему?
– Нет, сударь, это я так сказал. Я-то ведь не знаю этого Стангстадиуса!
– Ах, так это ты сказал, дурак этакий! Некоему Стангстадиусу! Которого ты, видите ли, не знаешь, скотина! Ну ничего, это к лучшему. Так знай же, кто я такой: я самый знаменитый натуралист… Только зачем это тебе? На этой несчастной земле есть еще удивительные тупицы! Останови же свою лошадь, скотина! Не сказал я тебе разве, что собираюсь сесть на нее верхом? Говорю тебе, я устал! Неужели ты думаешь, что я не сумею ехать верхом все равно на каком четвероногом?
– Послушайте, господин ученый, – хладнокровно ответил Христиан, хоть он к был очень раздосадован этой встречей, которая еще больше его задерживала, – вы же видите, какую тяжесть тащит на себе этот бедняга.
– Подумаешь! Сбрось свой груз, а потом за ним вернешься.
– Это невозможно, мне некогда.
– Как! Ты мне отказываешь? Что ты за дикарь такой! Ты первый крестьянин во всей Швеции, который отказывается помочь доктору Стангстадиусу! Я на тебя пожалуюсь, будешь у меня знать, несчастный! Я пожалуюсь на тебя.
– Кому? Барону Вальдемора?
– Нет, потому что он велит тебя повесить, и ты получишь только то, что заслужил… Я хочу, чтобы ты знал, какой я добрый; я лучший из всех людей, и я тебя прощаю.
– Ну уж, положим, – ответил Христиан; его всегда развлекали чудаки, которых он встречал в своей бродячей жизни, – я вас не знаю, а вы выдаете себя за другого. Вы говорите, что вы натуралист? Полноте! Да вы же лошади от осла отличить не можете!
– От осла? – сказал Стангстадиус, по счастью, отвлекшийся от назойливого желания ехать верхом. – Ты что, утверждаешь, что это осел?
И, поднеся свой фонарь, он стал оглядывать со всех сторон Жана, которого хозяин его так тщательно укутал в шкуры разных животных, что тот действительно принял совершенно фантастический вид.
– Осел? Не может этого быть, ослы не могут жить в наших широтах. То, что ты по своему грубому невежеству называешь ослом, всего-навсего мул! А ну-ка я посмотрю как следует, сними с него все эти шкуры.
– Послушайте, сударь, Стангстадиус вы или нет, но вы мне надоели… Мне некогда с вами разговаривать. До свидания.
Тут он пощекотал хлыстом своего верного Жана, который быстро побежал вперед, оставив доктора наук позади. Но нашего доброго Христиана вскоре начали мучить угрызения совести. Добравшись до берега, он обернулся и увидел несчастного ученого, который далеко от него отстал, двигался с трудом и то и дело скользил. Должно быть, он действительно очень устал, если, привыкший жить только разумом и языком, он все это замечал, а главное, если он, считавший себя самым сильным человеком своего века, с этим мирился.