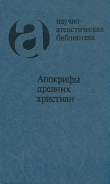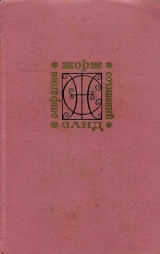
Текст книги "Снеговик"
Автор книги: Жорж Санд
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 35 страниц)
VII
Читатель, может быть, помнит, что старый Стенсон жил во флигеле, расположенном в глубине второго внутреннего дворика, который вместе с более обширным пространством между ним и первой оградой и составлял территорию заброшенного замка Стольборг. О появлении этого старинного рамка существовала легенда, восходившая к эпохе распространения в Швеции христианства. На скале стоял тогда деревянный дом. Однажды осенью во время сильной бури владелец его, в ту пору язычник, испугавшись, что порывами ветра дом будет унесен на дно озера, дал обет принять новую веру, если только небеса спасут его от яростной стихии. Крышу дома уже снесло, но не успел он произнести слова обета, как из недр скалы чудодейственно поднялась гранитная башня, и после того, как владелец дома принял крещение, ураган никогда больше не сотрясал эту могучую твердыню.
В противовес этой правдивой истории знатоки местной старины решались утверждать, что квадратная башня Стольборга относится всего-навсего к эпохе короля Биргера [69]69
Биргер – правитель (ярл) шведского государства с 1247 по 1266 г. Сведения о Биргере Ж. Санд дает неточно.
[Закрыть], иначе говоря – к XIV веку. Так или иначе замок с окружавшим его небольшим поместьем был приобретен неким отважным дворянином по имени Вальдемора в XV веке. В XVII столетии Олаф Вальдемора сделался фаворитом королевы Христины, которая подарила ему несколько участков королевских земель, иные из которых находились именно в этой части Далекарлии. История не утверждает, что Вальдемора непременно был любовником взбалмошной наследницы Густава-Адольфа. Может быть, королеве просто понадобились деньги, и она уступила ему эти богатые угодья по невысокой цене. Очевидно, что в пору редукции1680 года [70]70
Имеется в виду закон об уменьшении дворянского землевладения, принятый риксдагом в 1680 г., при Карле XI.
[Закрыть], когда деятельный король Карл XI пересмотрел все земельные договоры и вновь воссоединил с королевскими владениями все, что было незаконно отчуждено его предшественниками, – страшной, но вместе с тем и спасительной меры, обеспечившей Швеции дотации на университеты, школы и суды, создание почтовых учреждений, поселенной армии и оказавшей ей ряд других благодеяний, которых старые «колпаки» так и не простили королю ко времени нашего рассказа, барон Вальдемора на законном основании сохранял за собою большие земельные угодья, полученные от деда, и завершил отделку нового замка, который тот построил на берегу озера, дав ему свое имя.
Итак, единственным, что оставалось от прежнего фамильного замка, была башня, казавшаяся очень высокой из-за массивного каменного укрепления, спускавшегося к водам озера. На самом деле в ней было только два этажа, а именно – медвежья комната и караульня, находившиеся почти на уровне дворика, и над ними еще одна или две комнаты, куда уже лет двадцать, иначе говоря – с того времени, когда верхнее помещение замуровали, никто никогда не проникал. Остальная часть замковых построек, много раз подвергавшихся переделке, была своего рода норвежским гордом. Известно, что словом «горд» в Норвегии называют усадьбу, в которой селится несколько семейств, живущих сообща. Комнаты, кухни, столовые, хлева и кладовые не теснятся под одной крышей, как в других местах, а представляют собой самостоятельные строения; каждое из них имеет отдельную крышу, а все они в целом являют собой множество непохожих друг на друга домиков. Многие обычаи в Швеции сходны с норвежскими, особенно же в этой части Далекарлии, которая ближе всего к пограничным горам. В ту пору, когда Стольборг, после того как ему предпочли новый замок, сделался сельской фермой, в этих краях насчитывалось уже несколько гордов, расположенных подобным же образом. Как и во всей Швеции, а равно и во всех странах, где много деревянных строений, здесь часто случались пожары, и наиболее древние из этих домиков хранили еще на себе следы огня. Их обугленные углы и покоробленные крыши, словно черные призраки, выделялись на фоне снежных гор.
Двор, окруженный замшелым навесом, кое-как соединявшим различные строения, с дощатой крышей, сверкавшей бахромой ледяных сосулек, являл взгляду кучку заброшенных швейцарских шале. Давно уже ферму перенесли в другое место, и все замковые постройки были предоставлены в распоряжение Стенсона, который больше уже не поддерживал эти ни на что не нужные лачуги, служившие разве только местом хранения кормов и сушеных овощей. Грубые плиты, которыми когда-то вымостили двор, были испещрены множеством желобков, выдолбленных в камне бурными весенними потоками; ни одна дверь не держалась на петлях, и казалось, что если теперь еще раз не будет принесен какой-нибудь торжественный обет, наподобие того, что был дан первым владельцем дома, малейшим дуновением ветра в первую же весну или осень сразу сметет все эти домики, и они скроются на дне озера.
Второй двор, расположенный позади первого, был уже более новой пристройкой, менее живописной, но несравненно более удобной. Пристройка эта относилась к тому времени, когда барон Олаус Вальдемора унаследовал земельные угодья от своего брата Адельстана и вступил во владение поместьем. Он построил нечто вроде второго маленького горда для своего верного Стенсона, чтобы управляющему не захотелось покидать этих стен, которые возбуждали в нем ужас. Итак, пристройки эти составляли новую кучку домов, расположенную несколько ниже, чем первая, на склоне скалы. Скаты крыш упирались в неотесанный камень и были сложены особенным образом, как принято в этой стране: это были еловые бревна, хорошо прошпаклеванные мхом, устланные березовою корой, а поверх всего – слоем земли, покрытым газоном. Известно, что такие газоны на крышах сельских домиков являются в Швеции предметом особого внимания; иногда даже они разделены на грядки и на них сажают цветы и кустарники. Крыши эти бывают покрыты густой и пышной травой, где стада находят самый лакомый корм.
В этой-то части построек старого замка, которая и носила специальное название горд, тогда как другая называлась просто двором, жил последние двадцать лет Стенсон, настолько уже немощный и дряхлый, что он почти никогда не выходил из своего флигеля – очень теплого, очень опрятно убранного, а снаружи выкрашенного в красный цвет окисью железа. Жить ему там, конечно, было очень удобно: помещение было наглухо отделено от домика, где жил его племянник, кухня находилась в одном из шале, коровник и молочная ферма – в другом. И тем не менее жизнь этого загадочного старца была на редкость однообразна и печальна. По самому расположению его жилища замечалось, или, во всяком случае, можно было заметить, сколько труда было вложено, чтобы заделать все двери и окна, выходившие в сторону башни и даже замка. Проникнуть в дом можно было только через маленькую боковую дверь, а для того, чтобы добраться до комнаты, приходилось еще и петлять по узенькому коридору. Казалось, что он боится увидеть с этой стороны башню через открытую дверь. Но в конце концов, может быть, это было всего лишь предосторожностью на случай, если вдруг подует западный ветер.
Как бы в подтверждение всей дурной молвы, ходившей в этих местах, Стенсон чрезвычайно редко выходил из своего домика – для того, чтобы погреться немного на солнце в узеньком садике на берегу озера, и то всегда со стороны, противоположной башне. Говорили, что едва только на аллеи начинала ложиться слабая тень от флюгера, он спешил уйти из сада и возвратиться домой, как будто эта зловещая тень несла с собой ужас и страдание. Во всем этом вольнодумны из нового замка, мажордом и вновь нанятые слуги видели одни только чрезмерные предосторожности, превратившиеся у зябкого и болезненного старика в настоящую манию. Однако Ульфил и подобные ему считали это неопровержимым доказательством того, что в мрачном Стольборге водятся злые духи и страшные привидения. Говорили, что за все двадцать лет Стенсон ни разу не прошел двором и не выходил за пределы западных ворот замка. Когда ему непременно требовалось быть в новом замке, он отправлялся туда через свой фруктовый сад, где внизу на причале у него стояла собственная лодка.
Хотя присутствие барона в новом замке, где он обычно бывал в те дни, когда ему не приходилось принимать участие в заседаниях stendcerne(парламента), членом которого он был, ничего не меняло в жизни Стенсона, Ульфил заметил, что вот уже несколько дней, как его дядюшка пребывает в состоянии волнения. Он все расспрашивал о старой башне, как будто был заинтересован в сохранности этой проклятой великанши. Ему захотелось узнать, заходит ли туда время от времени Ульф, проветривает ли он медвежью комнату, в какие часы и не замечал ли он там чего-либо необычного. В этот день Ульф солгал, не без раскаяния, правда, зато без колебаний: кивком головы и движением плеч он подтвердил, что ничего нового не произошло. У него были веские основания надеяться, что Стенсон, не выходивший по случаю холодной погоды из дому, ничего вообще не заметил, и он ясно слышал, как в кармане Гёфле именно ради него прозвенели несколько экю, но так, что своды Стольборга не поколебались от возмущения из-за такой малости. Не будучи человеком жадным, Ульф не пренебрегал, однако, перепадавшей мздой и, может быть, ужо начинал мириться с существованием башни.
Пойдя на эту ложь, Ульф подал дядюшке второй завтрак и собирался было уйти, когда тот попросил его достать Библию, стоявшую в его библиотеке на особой полке и в которую он заглядывал редко. Стенсон положил Библию перед собою на стол и знаком велел Ульфу выйти. Однако племянник его, сгорая от любопытства узнать намерения дядюшки, спустя минуту приоткрыл дверь и, убедившись, что его не слышат, тихо подошел к креслу, в котором сидел старик; он увидел, как тот, словно невзначай, просунул между страницами нож, открыл толстый том и внимательно прочел стих, на котором задержалось острие ножа. Он повторил трижды этот опыт, благочестивый и вместе с тем кабалистический, применявшийся даже у северных католиков, чтобы выведать у бога тайны грядущего, соответственным образом истолковав слова писания, на которые укажет судьба. Затем Стенсон закрыл Библию и обхватил руками голову, словно для того, чтобы воспринять разумом то, что перед тем предстало его взгляду, и Ульф удалился, сильно встревоженный результатами этого опыта. Заглядывая дядюшке через плечо, он сумел прочесть три стиха. Вот они в том порядке, в каком на них указал жребий:
«…Пучина и смерть говорят: мы слыхали о ней!»
«…Не плакал ли я разве из любви к тому, кто испытал тяжелые дни?»
«Сокровища грешника предназначены для праведника».
Отдельные стихи этой таинственной и великой книги почти все поддаются толкованию в любом смысле, который может подсказать фантазия. Поэтому старый Стен, прочтя первый стих, задрожал, молитвенно сложил руки на втором, а после третьего с чувством облегчения вздохнул. Но Ульфил слишком много выпил накануне и был не в состоянии надлежащим образом истолковать все сказанное в священной книге. Однако он все же со страхом спросил себя, не выдала ли старая Библия сплетенную им ложь, рассказав о ней дядюшке в аллегорической форме, понять которую было ему, Ульфу, не под силу.
Он был выведен из своего раздумья появлением во дворике нового гостя: это был Пуффо, который пришел, чтобы условиться с Христианом относительно вечернего представления. Пуффо не отличался многословием – он не любил зимней природы и не понимал ни слова по-далекарлийски. Однако в эту минуту он пребывал в довольно хорошем расположении духа, и на это были свои причины. Он поздоровался с Ульфом почти по-дружески, в то время как тот, совершенно остолбенев, смотрел, как незнакомец бесцеремонно, словно к себе домой, ввалился в медвежью комнату.
Пуффо застал Христиана за разбором ящика с образцами различных минералов.
– О чем вы тут призадумались, хозяин? – спросил он. – Не время сейчас камушками заниматься, надо готовиться к вечернему представлению.
– Черт побери, я как раз об этом и думаю, – ответил Христиан, – ну что мне было делать одному, без тебя? Пора бы уж тебе и пожаловать! Где это ты слоняешься со вчерашнего дня?
Пуффо не стал оправдываться и рассказал, как он нашел на мызе хороший ужин и хороший ночлег, и как, подружившись с лакеем из замка, который там был, он возвестил всем о приезде в Стольборг Христиана Вальдо. После того как он позавтракал, его вызвал к себе мажордом и очень любезно с ним говорил; он объявил ему, что ровно в восемь часов вечера в замке ждут представления театра марионеток.
– «Ты скажешь своему хозяину, – добавил мажордом, – что господин барон хочет, чтобы было очень весело, и что он просит его проявить все свое остроумие».
– Так, так, – сказал Христиан, – остроумие по приказу господина барона! Пусть же он поостережется, как бы этого остроумия не оказалось у меня чересчур много! Только скажи мне, Пуффо, ты разве не слышал, что барон болен?
– Да, этой ночью ему как будто действительно было худо, – ответил фигляр, – по он уже успел позабыть об Этом. Может быть, он напился, хотя лакеи его говорят, что он никогда не пьет; только мыслимое ли это дело, чтобы такой богач, как он, не попользовался тем, что у него хранится в погребе!
– Ну а ты, Пуффо, бьюсь об заклад, что ты-то уж кое-чем попользовался?
– Да, спасибо лакею, – сказал Пуффо, – у него полюбовница на мызе есть, он-то меня и пригласил к себе за стол, ну вот доброй водки я с ним и выпил порядком, это хлебная водка, немного грубовата, правда, но зато и греет же, вот я и спал потом как убитый.
– Я восхищен твоей удачей, уважаемый Пуффо, но надо бы подумать и о нашей работе. Поди-ка погляди сначала, как там Жан, не хочет ли он есть или пить, а потом придешь ко мне за распоряжениями. Только поторопись!
Пуффо вышел, а Христиан принялся за дело: повздыхав немного, он закрыл ящик с минералами, чтобы открыть другой, с burattini,когда звон бубенцов на приближавшихся санях заставил его поглядеть в окно. То не был возвращавшийся раньше времени доктор прав; он увидел хорошенькие голубые с серебром сани, которые накануне вечером привозили в Стольборг Маргариту.
Надо ли говорить, что Христиан позабыл обещание, которое эта милая девушка дала мнимому Гёфле: вернуться на другой день! По правде говоря, Христиан, после всех событий, происшедших на балу, больше уже не рассчитывал на возможность этого визита и не подумал даже известить о нем настоящего Гёфле. Может быть, он уже, считал свое вчерашнее приключение завершенным, может быть, даже хотел, чтобы это было так, ибо куда оно могло его завести? Разве только вызвать одно презрение и проклятие – он ведь отнюдь не был человеком, способным воспользоваться неопытностью ребенка.
Однако сани все приближались; они поднимались по склону, и Христиан заметил одетую в горностаевый капюшон хорошенькую головку юной графини. Что делать? Хватит ли у Христиана духу захлопнуть перед ней дверь или послать Пуффо сказать ей, что доктора прав нет дома? Ну да! Ульф сейчас же ей все передаст; нечего ему и вмешиваться. Сани вот-вот повернут обратно. Христиан остался стоять у окна, готовясь увидеть, как они спускаются по склону. Однако они не спустились, и дверь отворилась. Перед ним стояла Маргарита, и Христиан едва успел захлопнуть крышку ящика, откуда все еще нескромно торчали большие носы и улыбающиеся губы марионеток.
– Как, сударь, – удивленно вскричала молодая девушка, – вы все еще здесь? Вот этого-то я уж никак не ожидала! Я надеялась, что вы уехали.
– Так вы никого не встретили во дворе? – спросил Христиан, который, по-видимому, был уже не прочь обвинить судьбу в этом стечении обстоятельств.
– Никого я не видела, – ответила Маргарита, – а так как я приехала потихоньку, то поспешила поскорее войти, чтобы меня никто не заметил. Только, повторяю, господин Гёфле, вам бы не следовало здесь быть. Барон, вероятно, уже знает имя того, кто так вызывающе себя с ним вел, и, клянусь вам, вы должны были уехать.
– Уехать? С вашей стороны очень жестоко мне это говорить! Но вы напоминаете мне, что я и на самом деле уехал. Да, да, можете быть спокойны, я уехал, чтобы никогда не возвращаться. Господин Гёфле сказал, что я могу навлечь на него неприятности, я обещал ему, что исчезну, и, как видите, я уже укладываю багаж.
– О, тогда продолжайте, я не хочу вас задерживать!
– Вам не терпится забыть всякое упоминание обо мне? Но только знайте, это дело решенное; я уплываю в Америку, а может быть, и дальше, я мчусь на всех парусах, чтобы мой страшный враг не мог меня настичь, а на глаза мои навертываются слезы при воспоминании о первой кадрили, которой суждено стать в моей жизни последней…
– Со мною – да, но не с другими же?
– Кто знает? Человек, который разговаривает сейчас с вами, всего только тень, всего только призрак того, кем он был вчера. Мое второе «я» – игрушка волн и судьбы, мне до него не больше дела, чем до обитателей луны.
– Боже ты мой, какой же вы весельчак, господин Гёфле! А знаете ли вы, что мне-то совсем не весело?
– И в самом деле, – сказал Христиан, пораженный грустным видом Маргариты, – какой же я негодяй, что говорю о самом себе, когда должен был бы побеспокоиться о последствиях того, что произошло вчера вечером! Не удостоите ли вы меня ответом, если я позволю себе задать вам вопрос?
– Ну, конечно, после всего того, что по воле судьбы я вам рассказала о себе… Нынче ночью тетка бранила меня, и мадемуазель Потен получила приказ уложить мои вещи и отвезти меня сегодня же в Дальбю; но утром все вдруг переменилось, и после тайных переговоров с бароном, к которому, по ее словам, вернулись здоровье и обычная веселость,было решено, что я остаюсь и что до наступления вечера мне надлежит думать только о своем туалете. Кстати, знаете ли вы, что сегодня вечером у нас будет Христиан Вальдо? Говорят даже, что он остановился здесь, в Стольборге. А раз он здесь, то вы его, вероятно, уже встретили? Вы его видели?
– Ну, конечно.
– И без маски? Расскажите, какой он! В самом деле у него вместо головы череп?
– Еще того хуже! У него деревянная голова.
– Перестаньте же смеяться надо мной!
– Я нисколько не смеюсь. Стоит вам его увидеть, и вы поклянетесь, что лицо его вырезано из дерева, да еще тупым ножом. Он похож на самую уродливую свою марионетку, вот на эту, взгляните!
И Христиан показал ей нелепую физиономию сбира, торчавшую из ящика. Не будь Маргарита так взволнована, она заметила бы его и сама.
– Подумать только! – воскликнула она не без испуга. – Так это и есть его хитрый ящик?Уж не живет ли он в этой комнате вместе с вами?
– Нет, успокойтесь, вы его не увидите. Он ушел, испросив у господина Гёфле позволения оставить здесь свой багаж.
– Бедняга, – задумчиво сказала Маргарита, – он до такой степени некрасив! Ну и верьте после этого всему, что рассказывают! А ведь какие-то люди видели его и говорили, что он красавец. Он, может быть, уже и старик?
– Ему должно быть около сорока пяти лет. Но о чем вы задумались, и почему вы такая грустная?
– Не знаю, мне просто грустно.
– Но ведь вы же остаетесь в замке и сегодня вечером увидите марионеток!
– Послушайте, господин Гёфле, вы принимаете меня за ребенка. Вчера на балу мне действительно было весело, я забавлялась, я была счастлива, я думала, что уже навсегда избавилась от барона. А сегодня вот узнаю, что у моей тетки опять появились надежды, я отлично это понимаю, мне придется снова предстать перед человеком, которого я отныне ненавижу всей душою. Разве он не оскорбил меня вчера и так подло? Напрасно тетка говорит, что он хотел пошутить, с девушкой моего возраста не шутят так, как с детьми. Чтобы немного успокоить мою оскорбленную гордость, я постаралась убедить себя, что он говорил в забытьи, что у него уже начинался нервный припадок, когда он произносил эти грубые слова. Такого же мнения держатся и мои подруги, но откуда я знаю, что он мне скажет сегодня, когда мы увидимся? И если он снова оскорбит меня – по злобе ли своей, или по безумию, – то кто встанет на мою защиту? Вас там не будет, и никто не посмеет…
– То есть как это никто не посмеет? Что же это за мужчины вас окружают? А эти славные молодые люди, которых я видел вчера?
– Да, конечно, я тоже считаю их славными, но они не знают меня, господин Гёфле, и, может быть, они сочтут, что я заслужила оскорбления барона. Плохая это для меня рекомендация – быть вывезенной в свет моей теткой, за которой, хоть и несправедливо, утвердилась репутация женщины, жертвующей всем во имя политики.
– Бедная Маргарита! – сказал Христиан, огорченный тем, в какое трудное положение попала славная девушка.
На лице его она прочла искреннее волнение, и так как в манерах его не было ни малейшей фамильярности, которая могла бы ее обидеть, Маргарита позволила ему коснуться ее руки, которую он тотчас же опустил, как только отдал себе отчет, что происходит.
– Послушайте, – сказал он, – вам надо принять какое-то решение!
– Я его уже приняла. Трудно сделать только первый шаг. Теперь я буду сама нападать на это чудовище, Олауса, при каждой встрече; я при всех буду говорить ему, что он за человек, и пусть меня лучше считают коварным демоном, нежели фавориткой этого далекарлийского паши. В конце концов, я лучше всего смогу защитить себя сама; ведь если бы вы были там, я боялась бы на это решиться, чтобы еще больше вам не повредить, и сделалась бы еще сдержаннее. Но все равно, господин Гёфле, я никогда не забуду добрых советов, которые вы мне дали, и рыцарского мужества, с каким вы осадили мерзкого барона. Не знаю, увидимся ли мы с вами когда-нибудь еще, но где бы вы ни были, все помыслы мои будут с вами, и я буду молить бога, чтобы он ниспослал вам больше счастья, чем досталось на мою долю.
Христиан был глубоко тронут искренностью и нежностью Этой прелестной девушки. И во взгляде и в словах ее сквозила неподдельная сердечность без малейшей примеси кокетства.
Милая Маргарита, – сказал он, поднося ее прелестную ручку к губам, – клянусь вам, что я тоже всегда буду вас помнить! Как жаль, что я не богат и не знатен! Тогда я, может быть, был бы в силах вам помочь, и будьте уверены, я сделал бы все, чтобы обрести счастье сделаться вашим покровителем. Но я ничто, и поэтому я ничего не могу для вас сделать.
– От этого признательность моя не становится меньше, – ответила Маргарита. – Вы для меня как брат, которого я раньше не знала и которого господь послал мне в тяжелый для меня час. Взгляните точно так же и вы на нашу короткую встречу, и давайте простимся и не будем отчаиваться в том, что нас ожидает.
Маргарита была настолько чистосердечна, что в душу Христиана закрались угрызения совести. С минуты на минуту мог вернуться господин Гёфле, и невозможно было предположить, чтобы молодая графиня, которая обратила внимание на сходство в интонациях мнимого дяди и мнимого племянника, не поразилась бы, увидев их вместе, полному отсутствию сходства. К тому же Гёфле не станет, разумеется, поддерживать весь этот обман, и Христиан с горечью думал о том, что оставляет Маргарите плохую память о себе. Поэтому он сам признался ей во всем и повинился в том, что, не зная ее, позволил себе дурную шутку – похитил шубу и шапку доктора прав, чтобы выдать себя за него, добавив, что горько во всем раскаивается, увидев, над какой ангельской душой он хотел посмеяться. Маргарита немного рассердилась. Когда Христиан обратился к ней в первый раз на бале, у нее мелькнуло было подозрение, что это кто-то другой, но он с такой искренностью рассказал ей, что слышал из соседней комнаты, что все сомнения ее рассеялись.
– Как выяснилось, вы искусно умеете лгать, – сказала она, – и как легко вы можете обмануть человека! Я не в обиде на самую шутку: явившись сюда, я поступила неблагоразумно и совершила рискованный шаг, за что и была наказана этой мистификацией. Мне только грустно, оттого что вы до конца разыгрывали все с таким апломбом и таким чистосердечием.
– Скажите лучше – с раскаянием и ложным стыдом: первый грех всегда влечет за собой другие и…
– И что же еще? В чем еще вы собираетесь признаваться?
Еще мгновение, и Христиан рассказал бы всю правду. Но он удержался, сообразив, что, услыхав имя Христиана Вальдо, Маргарита тут же убежала бы, огорченная и негодующая. Поэтому он решил быть искренним только наполовину и остаться для молодой графини Христианом Гёфле. Однако это притворство, которое по отношению к каждому другому человеку приносило ему тайную радость, стало ему очень тягостным, когда она устремила на него свой ясный взгляд, омраченный опасением и упреком.
«Я хотел поиграть с ней как ребенок с ребенком, – подумал он, – но помимо нас в игру эту вмешалось чувство, и чем оно чище и нежнее, тем более я чувствую себя виновным…»
Он, в свою очередь, помрачнел, и Маргарита это заметила.
– Послушайте, – сказала она с улыбкой, в которой светилась лучезарная доброта, – не будем портить излишними придирками интересную главу романа, который закончится, оставив нас обоих такими же благонамеренными, какими мы были. Вы ведь не злоупотребили моим доверием, чтобы действительно посмеяться надо мной, напротив, вы помогли мне рассчитывать только на самое себя, чтобы противостоять злой судьбе, и я далека от того, чтобы чувствовать себя обиженной и смешной: по сравнению со вчерашним я теперь тверже стою на ногах.
– Это действительно так, вы говорите правду? – порывисто спросил Христиан, – господь свидетель…
– Договаривайте же до конца, – сказала Маргарита.
– Ну так вот, – горячо сказал Христиан, – господь свидетель, что при всем этом я не думал о себе и что единственной заботою моей было ваше счастье.
– Я это знаю, Христиан, – воскликнула Маргарита, вставая и протягивая ему руки, – я знаю, что вы видели во мне только несчастную сестру перед богом… Я благодарна вам, а пока я хочу проститься с вами, ведь скоро вернется ваш дядя; он меня не знает, и вовсе не нужно говорить ему, что я приезжала. Но скажите ему все, что хотите, я уверена, что он не станет действовать против меня: он такой же порядочный и великодушный человек, как и вы.
– Да, но… вы же приехали с тем, чтобы о чем-то с ним посоветоваться, – сказал Христиан, который с сожалением видел, что роман стремительно приближается к концу, – для того, чтобы во что-то его посвятить. Может быть, надо, чтобы он знал…
– Я приехала, – после некоторого колебания ответила Маргарита, – попросить его, чтобы он сказал точно, как поступит со мною моя тетка, если она встретит с моей стороны открытое неповиновение… Но все же и это было трусостью. Мне не к чему это знать. Пусть же меня ждет изгнание, отчуждение от всех, заключение, побои – не все ли равно? Я не сдамся, я вам это обещаю, я клянусь… Если я когда-нибудь и выйду замуж, то только за человека, которого смогу… уважать.
Маргарита не дерзнула сказать «любить». Христиан тоже не осмелился произнести это слово; но глаза их сказали его, а на щеках у обоих вспыхнул румянец, говоривший о взаимном чувстве. После их искреннего разговора, продолжавшегося около часу, это было единственное и стремительное признание в том, чего они по-настоящему еще не сказали себе сами. Маргарита – потому что не знала, что она любит, Христиан – потому что был уверен в том, что не любит. Но когда Маргарита села в сани и уехала, а Христиан потерял ее из виду, оба почувствовали, что сердце у них разрывается от боли. Незаметно набегавшие слезы увлажняли щеки молодой девушки, а Христиан, охваченный потоком каких-то смутных мыслей, глубоко вздохнул, как будто, пробуждаясь от солнечного сна, он возвращался в холодную зиму. Чтобы дольше видеть убегавшие сани, он вошел в медвежью комнату и стал у окна между рамами, но в это время услышал позади себя какой-то шорох, заставивший его оглянуться, и взгляду его предстала картина, которая немало его удивила.
Посреди комнаты стоял худощавый бледный старик с благородными чертами лица, очень опрятно одетый в серое, по старинной моде; в руках у него была зеленая ветка. Христиан не слышал, как он вошел, и это лицо, освещенное проникавшим в комнату сквозь единственное окно косым красным лучом солнца, в котором играли пылинки, походило на какое-то фантастическое видение. Выражение этого лица было не менее странно, чем его нежданное появление. Оно казалось нерешительным, удивленным, что видит себя Здесь, маленькие стеклянные глазки с изумлением взирали на перемены, которые принесло в это мрачное жилище вторжение новых обитателей. Немного подумав, Христиан сообразил, что это не привидение, а скорее всего старик Стенсон, который пришел засвидетельствовать свое почтение господину Гёфле и удивился, что не застал его дома. Но что означает эта зеленая ветка и почему у него такой боязливый и растерянный вид?
Это действительно был старик Стенсон, и хотя он плохо слышал, зрение у него было отличное. Зажженный огонь, накрытый стол и мерно качающийся маятник сразу же поразили его, но передвигался он очень медленно, и поэтому у Христиана было время отойти и спрятаться за изъеденной мышами занавесью, прежде чем старик обратил свой взгляд на открытое окно. Поэтому Христиан мог наблюдать его, оставаясь незамеченным. Что же до Стенсона, то он подумал, что это его племянник, который, как ему было известно, любил выпить, пригласил втайне от дяди нескольких друзей, чтобы вместе с ними провести здесь рождественский вечер. До какой степени это его возмутило, только он один мог бы рассказать. Первой заботой старика было навести в комнате порядок. Он начал с того, что стал извлекать щипцами из печи горящие угли, чтобы огонь погас. Потом, прежде чем убрать со стола посуду или заставить преступника самого это сделать, он остановил маятник и переставил стрелки на четыре часа, так, как было, когда Христиан вошел в эту комнату и своей рукою святотатственно пустил их в ход. Потом Стенсон обернулся, словно для того, чтобы сосчитать свечи в люстре, но солнце било ему в глаза, и он направился к окну, чтобы поскорее его закрыть.
В эту минуту Христиан, который мог быть застигнут врасплох, вышел из своего укрытия. При появлении незнакомца, освещенного лучами заходящего солнца, Стенсон, который вырос в суеверной семье и сам был достаточно суеверен, отступил и оказался под люстрой, причем лицо его изобразило такой страх, что Христиан, забыв о том, что старик глух, обратился к нему очень почтительно и кротко, чтобы его успокоить. Но голос его потонул в этой открытой и выстуженной комнате, и эхо ни разу его не повторило. Стенсон мог только увидеть движение его губ, его красивое лицо и добрые глаза. Старик упал на колени, протягивая ему руки, словно молил его о чем-то или благословлял, и, весь дрожа, протянул ему ветку кипариса, как будто делал подношение некоему божеству.
– Послушайте, дорогой мой, – сказал Христиан, возвышая голос и подходя ближе, чтобы поднять старика, – я никакой не бог, я даже не рождественский ангел, который влетает через окно, а вылетает через печную трубу;: встаньте!.. Я…