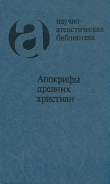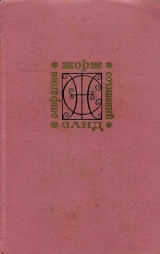
Текст книги "Снеговик"
Автор книги: Жорж Санд
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 35 страниц)
VIII
Христиан внимательно выслушал рассказ адвоката.
– Здесь много неясного, – сказал он после минутного раздумья. – Мне жаль несчастную баронессу Хильду, и из всех участников этой драмы она интересует меня больше всего. Кто знает, не умерла ли она от голода в этой страшной комнате, как утверждают некоторые?
– Нет, этого не может быть! – воскликнул Гёфле. – Мне внушали эту мысль столько раз, что она и самому мне не давала покоя. Но Стенсон, который никогда бы этого не мог допустить, дал честное слово, что он непрестанно заботился о баронессе и ухаживал за нею до самых последних минут ее жизни. Она действительно умерла от истощения, но организм ее не мог уже принимать никакой пищи; барон же ничего не жалел, чтобы удовлетворить все ее желания.
– Да, и на самом-то деле, – сказал Христиан, – если он так хитер, как следует из вашего рассказа, то он не стал бы совершать бесполезное убийство. Ему достаточно было бы, чтобы эта несчастная женщина умерла от страха или от горя. Но есть еще одна версия, господин Гёфле, моя собственная!
– Какая же?
– То, что она, быть может, жива.
– Вот это уж никак невозможно! Но вместе с тем… Никто никогда не знал, где ее похоронили.
– Ну вот видите!
– Пастор отказался хоронить ее на приходском кладбище. Католического кладбища здесь нет, и ее предали земле, по всей вероятности, ночью в садике Стенсона или еще где-нибудь.
– Как, Стенсон никогда не говорил вам где?
– Стенсон не хочет, чтобы его об этом расспрашивали. Воспоминание о баронессе ему одновременно и дорого и страшно. Он искренне ее любил, ревностно служил ей, но каковы бы ни были религиозные верования этой дамы, он на этот счет ничего не говорит, и всякие расспросы о них вызывают в нем раздражение и испуг.
– Допустим, но что же он все-таки говорит о бароне?
– Ничего.
– Это, может быть, уже само по себе много значит.
– Да, может быть, по ведь нельзя же на основании этого молчания обвинять человека в убийстве.
– Раз вы так уверены, господин Гёфле, то не будем больше говорить об этом. Какое это имеет для нас значение? Что прошло, то прошло. Только вы говорили, что явившееся вам привидение вселило в вас странные сомнения…
– А что вы думаете! Стремление доискаться до истины там, где надо и не надо, – это профессиональный недуг, с которым мне всегда приходилось бороться. У нас хватает хлопот с трудными делами, которые нам поручают вести, чтобы мы ломали себе еще голову над теми, которые нас не касаются. Наверное, оттого, что я несколько дней пребываю в праздности, мозг мой находит себе работу помимо меня, вот я и пустился искать во мраке прошлого давно забытую всеми баронессу Хильду…
– Тем более, – сказал Христиан, – что женщина, явившаяся вам, может быть, вовсе не сон, а вполне реальное существо, одетое точь-в-точь как та, другая, на портрете.
– Хорошо, если так, но те, что проходят сквозь стены, не кто иные, как малоприятные обитатели потустороннего мира.
– Погодите, господин Гёфле, вы ведь не сказали мне, в какой стороне комнаты исчезло привидение, прихода которого вы не заметили.
– Чтобы сказать, надо знать. Мне показалось, что именно в той стороне, откуда оно появилось..
– Через лестницу?
– Нет, пожалуй, ниже.
– Тогда, значит, через потайную дверь?
– А разве есть потайная дверь?
– Так вы об этом не знали?
– Право же, нет.
– Ну так посмотрите.
Христиан взял светильник и повел за собою Гёфле, но дверь оказалась запертой снаружи. Она была так плотно пригнана к деревянной резьбе, что ее совершенно невозможно было отличить от других панелей, обрамленных рельефным орнаментом, и такая толстая, что при выстукивании ее слышался тот же тупой звук, что и в любом другом месте дубовой обшивки. К тому же сзади она была задвинута тяжелым засовом, который накануне Христиан нашел отпертым и так оставил и который потом заперла, очевидно, та же рука, что замкнула другую дверь, на нижней площадке потайной лестницы. Христиан сообщил об этом обстоятельстве господину Гёфле, которому оставалось только поверить на слово, ибо пойти и убедиться, что это так, он все равно не мог.
– Поверьте мне, господин Гёфле, – сказал Христиан, – либо сюда приходила вчера старая служанка Стенсона, чтобы убрать комнату, не зная, что здесь живут, либо баронесса Хильда томится в заточении где-нибудь у нас под ногами или над головой, не знаю уж где, в этой замурованной комнате, из которой есть, может быть, потайной выход сюда. Кстати, об этой замурованной двери – вы ведь мне не сказали, ни куда она ведет, ни почему ее вдруг заделали, а мне это представляется обстоятельством довольно любопытным.
– Объясняется это очень просто, и Стенсон мне все рассказал. Комната, расположенная над этой, очень давно уже была совершенно заброшена. Когда баронесса Хильда укрылась в Стольборге, она велела замуровать эту дверь, так как оттуда проникали ветер и стужа. После ее смерти Стенсон открыл ее снова, чтобы заделать все трещины во втором этаже здания. Но для того чтобы сделать это помещение годным для жилья, надо было потратить больше, чем оно стоило, и люди не хотели жить там, где до них была католическая часовня, ибо считали это место проклятым; поэтому Стенсон, то ли из экономии, то ли для того, чтобы забылись все эти суеверные страхи, наглухо замуровал, и, как говорят, своими собственными руками и с позволения барона, этот ход, теперь уже никому не нужный.
– Но все-таки, господин Гёфле, вы же видели, что это мнимое привидение вышло из-под карты Швеции, которая прикрывает каменную кладку.
– Да, но ведь это же все мне привиделось! Загляните-ка туда, Христиан, и если вы найдете там дверь, которую можно открыть, вы окажетесь половчее меня. Неужели же вы думаете, что я не заглянул туда, как только мой сон рассеялся?
– Ну, конечно, – ответил Христиан, который успел уже подняться по лестнице, заглянуть под карту Швеции и несколько раз постучать по прикрытой ею стене, – здесь ничего нет, кроме стены, такой же толстой, как и в других местах, если судить по этому глухому звуку. И даже слой Этой красноватой краски очень искусно нанесен заподлицо и нигде не потерт по краям; но заметили ли вы, господин Гёфле, как гипсовая облицовка в середине поцарапана?
– Заметил и решил, что это, должно быть, крыса.
– И любопытным же существом должна быть эта крыса! Посмотрите-ка, до чего правильно начерчены на степе все эти кружочки.
– И в самом деле, но только что же это может означать?
– Всякое следствие имеет причину, а именно эту-то причину я и ищу. Вы ведь мне, кажется, говорили, что среди всех прочих звуков, которые вы слышали, у вас было ощущение, будто кто-то скребется?
– Да, как будто стену чем-то скоблили.
– Так знаете, что это, по-моему, такое? Это следы работы слабой или неумелой руки, которая хотела продолбить стену, чтобы посмотреть, что за ней.
– Тогда, очевидно, у нее был только гвоздь или еще более невинный инструмент, потому что она отковыряла гипс на глубину не больше двух линий.
– И того меньше, но вместе с тем она ковыряла его в нескольких местах, и притом упорно.
– Скорее всего это пометки Стенсона: ему, наверно, надо было запечатлеть какое-то воспоминание, а записывать его он не захотел. Вы-то ведь умеете расшифровывать любые письмена, не правда ли?
– Я достаточно знаю их, чтобы утверждать, что это вовсе не надпись и ни о каком из известных мне языков здесь не может быть и речи. Я продолжаю стоять на своем: это попытка продолбить стену. Взгляните, всюду какие-то маленькие углубления, сделанные тупым инструментом, и вокруг каждой лунки с содранными краями – довольно четкий светлый кружок, как будто все это делалось ножницами, одна из половинок которых была сломана и служила точкой опоры, словно ножка циркуля.
– Как вы догадливы…
– Да, в данную минуту я догадлив, потому что вот тут, на последней ступеньке лестницы, кучка совсем свежей белой пыли.
– Ну и что же?
– А то, что женщина, о которой я говорил, кем бы она ни была, знаменитой ли пленницей или старухой служанкой, которая бродит тут во всякое время, явилась сегодня ночью, чтобы попытаться, и не в первый раз, а по меньшей мере в двадцатый, увидеть то, что скрыто за этой стеной. Или нет… стойте, скорее вот что! Она знает, что есть какая-то тайна, какой-то недоступный ей способ открыть недоступную дверь, и она ищет, она нащупывает, она роет, словом – она трудится, и если мы выследим ее сегодня ночью, загадка будет разрешена.
– Черт возьми! Вот это план! И я с тем большей охотой готов его осуществить, что он избавляет меня от большого беспокойства. Я перестану быть духовидцем, я услышу и увижу живое существо! Мне это больше по душе, хоть и немного стыдно сейчас, что я мог в этом усомниться. Не беда, Христиан, я хочу, чтобы у меня не было никаких сомнений. Я не верю в существование узницы, потому что в таком случае должны существовать и тюрьма и тюремщик. А комната эта, когда вы сюда вошли, была открыта с двух сторон; что же касается тюремщика, то им должен бы оказаться честный и преданный Стенсон.
– Но при всем том баронесса перенесла здесь суровое Заточение, а ведь честный Стенсон был здесь.
– Нет никаких доказательств тому, что она была в заточении, а если даже это и так, то Стенсон вряд ли был тогда хозяином Стольборга. Теперь же он здесь всем распоряжается один, вы ведь понимаете, что Ульфила нельзя принимать в расчет…
– Можете говорить все, что вам угодно, господин Гёфле, но здесь есть тайна, и какова бы она ни была, серьезная она или пустяковая, я хочу ее разгадать. Но боже ты мой, о чем же я думаю – время идет, Пуффо и след простыл, а я тут занялся сочинением романа и совсем позабыл о том, который должен представлять на сцене! Этого-то я и боялся, господин Гёфле, что, усевшись с вами за еду, я заговорюсь и забуду про свою работу!
– Полно, полно, мой мальчик, готовьтесь, я ведь обещал вам помочь.
– Вы-то уж никак не можете мне помочь, господин Гёфле; мне нужен мой подручный, бегу его разыскивать.
– Так идите же, а я тем временем отправлюсь к Стенсону: мне все еще недосуг было его повидать, да он, может быть, и не знает, что я здесь. Он сюда никогда не Заходит…
– Прошу прощения, господин Гёфле, заходит, он только что здесь был. Я видел его, когда вы уходили… И, знаете что, я совсем забыл рассказать вам одну вещь: он принял, должно быть, меня за дьявола или за привидение, очень испугался и убежал отсюда, спотыкаясь и бормоча всякий вздор.
– Что вы! Неужели он такой трус! Но я не чувствую себя вправе смеяться над ним, я-то ведь сам был уверен, что видел даму в сером! Только не мог ведь он вас принять за нее!
– Не знаю уж, за кого он меня принял; может быть, за тень графа Адельстана?
– Э… вполне возможно. Поглядите-ка на его портрет, что висит напротив портрета жены. И рост и телосложение совсем как у вас, Только в том одеянии, которое на вас сейчас…
– Тогда его еще не было. На мне был ваш черный кафтан.
– А что это вы делаете сейчас? Хотите замаскироваться?
– Нет, просто надеваю маску на тот случай, если мне придется искать моего слугу в новом замке.
– Ну-ка, покажите мне вашу маску. Она вас, должно быть, очень стесняет?
– Нисколько! Маску эту я сам придумал, она легкая и гибкая, вся из шелка, надевается прямо на голову, как колпак, и я могу, когда надо, поднимать ее и опускать. Когда она поднята и спрятана под шапкой, она по крайней пере скрывает мои волосы, а они ведь очень густые и привлекают к себе внимание. Когда же она опущена, а при вашем климате это бывает даже очень приятно, она никак не может упасть, и мне не приходится без конца завязывать и развязывать ленту, которая легко может оборваться или затянуться узлом. Удачное изобретение, не правда ли?
– Превосходное! Ну а как с голосом, можете вы сделать так, чтобы его не узнали?
– Это моя профессия и мой талант; вы хорошо это знаете, вы же видели одну из моих шутливых пьес.
– Это верно, я готов был поклясться, что там было не меньше двенадцати человек. Вот что, хочу послушать вас вечером. Я сяду где-нибудь среди публики, но только я не хочу знать пьесу наперед. До свидания, мой мальчик! Пойду, постараюсь извлечь из старика Стенсона кое-какие разъяснения насчет того, что приключилось со мною ночью. Но откуда эта ветка кипариса? Вы что, хотите украсить ею портрет дамы в сером?
– И об этом я вам забыл рассказать, ее сюда принес господин Стенсон. Не знаю только, что он собирался с ней делать; он кинул мне ее под ноги, и, хотел он этого или нет, я решил поднести ее несчастной баронессе Хильде.
– Не сомневайтесь, Христиан, старик, видно, это и сам хотел сделать. Это ведь завтра или сегодня… Погодите-ка, меня хорошая память на даты… Боже ты мой, да ведь как раз сегодня годовщина смерти баронессы! Вот вам и объяснение, почему Стен решил сегодня прийти сюда помолиться.
– Раз так, – сказал Христиан, раскручивая полоску пергамента, которой была обвита ветка и которую Гёфле принял за ленту, – попробуйте истолковать стихи из Библии, которые здесь написаны. А мне некогда, и я ухожу.
– Постойте, – остановил его Гёфле, надевший уже очки, чтобы прочесть написанное на пергаменте, – если вы будете в новом замке и найдете там господина Нильса, который не изволил объявиться перед завтраком, сделайте одолжение, возьмите его за ухо и приведите сюда. Хорошо?
Христиан дал слово привести его живого или мертвого, но ему не пришлось далеко идти, чтобы разыскать и лакея Гёфле и своего. Войдя в конюшню, куда он надумал заглянуть перед тем как выйти из дворика, он обнаружил Пуффо и Нильса, которые храпели, лежа бок о бок, оба совершенно пьяные. Ульфил, который был покрепче, расхаживал взад и вперед по дворам, довольный тем, что к наступлению темноты он теперь не один, и время от времени ласково поглядывал на своих товарищей по пирушке. Христиан быстро сообразил, что произошло. Нильса, знавшего и шведский и далекарлийский, двое пьяниц использовали как переводчика; дружбу свою они скрепили в погребке. Несчастного мальчишку-лакея не надо было долго искушать для того, чтобы он позабыл своего господина, если только вообще память о нем беспокоила его до той минуты, когда, улегшись на сухом мху, который в этой стране служит подстилкой, с раскрасневшимися щеками и еще более красным носом, он позабыл, равно как и Пуффо, все заботы этого низменного света.
– Послушайте, – сказал Гёфле, обращаясь к Христиану, который встретился ему во дворе и показал эту трогательную картину, – как только этот плут придет в себя, я бы хотел, чтобы меня освободили от службы при нем.
– Но я-то, господин Гёфле, не могу ведь обойтись без Этой скотины Пуффо, – ответил Христиан весьма озабоченно. – Напрасно я его тряс, он как мертвый, и я уже Знаю – это часов на десять, на двенадцать!
– Ну ничего! – ответил занятый своими мыслями Гёфле, – идите выбирайте скорей вашу пьесу и не волнуйтесь. Такой умный человек, как вы, всегда сумеет найти выход из положения.
И, предоставив Христиану выпутываться самому, он направился своими короткими шагами к флигелю, расположенному в горде, где жил Стенсон. Три стиха из Библии де давали ему покоя.
Во флигеле было нижнее помещение, род вестибюля, где Ульфил, боявшийся оставаться один, больше любил спать, чем в своей собственной комнате, под тем предлогом, что дяде его, как человеку очень старому, во всякую минуту могла понадобиться его помощь. Ульф только что вошел в эту комнату, но теперь, повалившись на кровать, уже храпел. Гёфле собирался было подняться во второй этаж, как вдруг до него долетели какие-то слова. Он услышал спор, который два человека вели между собой на итальянском языке. Один из этих голосов звучал так, как будто говоривший плохо себя слышал. То был голос Стенсона. По-итальянски он говорил довольно свободно, хоть и с неприятным акцентом и множеством ошибок. Другой голос, отчетливый, говорил на чистом и звучном итальянском языке с сильно вибрирующим произношением, и казалось, что старик хорошо его слышал, несмотря на свою глухоту. Гёфле поразило, что старый Стенсон понимал по-итальянски и худо ли, хорошо ли, но мог изъясняться на этом языке; адвокату и в голову не могло прийти, что ему когда-либо случалось говорить на нем. Разговор этот происходил в кабинете Стенсона, рядом с его спальней. Дверь на лестницу была закрыта, но, поднявшись на несколько ступенек, Гёфле мог расслышать отрывок диалога, который сводился примерно к следующему:
– Нет, – это были слова Стенсона, – вы ошибаетесь. Барону будет совершенно неинтересно об этом узнать.
– Очень может быть, господин управляющий, – отвечал незнакомец, – по мне ничего не стоит в этом удостовериться.
– Так, значит, вы продадите эту тайну тому, кто вам больше заплатит?
– Может быть. А что вы мне предлагаете?
– Ничего! Я беден, потому что всегда был честен и бескорыстен; здесь нет ничего принадлежащего мне. У меня есть только жизнь, возьмите ее, если она вам нужна.
При этих словах, которыми старый Стен, казалось, отдавал себя в руки бандита, Гёфле перепрыгнул через две ступеньки, чтобы поспешить к нему на помощь, но в это время итальянец совершенно спокойно ответил:
– Что же мне, по-вашему, с ней делать, господин Стенсон? Выслушайте меня спокойно; вы можете выйти из этого затруднительного положения, достав ваши старые талеры из старого тайника, в каких обычно держат деньги все старые люди. – У вас будет чем заплатить Манассе за его молчание.
– Манассе был человеком честным. Эта сумма…
– Предназначалась, думается, не ему, но он распорядился ею иначе, он всякий раз оставлял ее себе.
– Вы на него клевещете!
– Как бы там ни было, Манассе умер, а другой.
– Другойтоже умер, я это знаю.
– Вы знаете? Откуда?
– Я не обязан вам это говорить. Он умер, я в этом уверен, и вы можете говорить барону все, что вам заблагорассудится, Я вас не боюсь. Прощайте. Мне недолго осталось жить, дайте мне подумать о спасении души, это теперь моя единственная забота. Прощайте. Говорю вам, оставьте меня в покое, денег у меня нет.
– Это ваше последнее слово? Вы знаете, что через час я предоставлю свои услуги барону?
– Мне это все равно.
– Вы же должны понимать, что я приехал издалека не для того, чтобы получить в уплату ваши ответы.
– Делайте все, что хотите.
Гёфле услышал, как открылась дверь, и решительно направился навстречу выходившему. Он столкнулся лицом к лицу с человеком лет тридцати с довольно красивым, но каким-то зловеще бледным лицом. Адвокат и итальянец, поравнявшись на узенькой лестнице, посмотрели друг другу в глаза. Открытый, строгий и испытующий взгляд адвоката встретился с подозрительным, брошенным украдкою исподлобья, взглядом незнакомца, который почтительно поздоровался с ним и спустился вниз, тогда как адвокат поднялся на верхнюю площадку; тут оба они обернулись, чтобы еще раз взглянуть друг на друга, и адвокат обнаружил что-то дьявольское в этом мертвенно-бледном лице, освещенном висящей у внутренней двери вестибюля маленькой лампой. Войдя к Стенсону, Гёфле увидел, что старик сидит, обхватив руками голову, неподвижный как статуя. Адвокат должен был коснуться его плеча, чтобы дать знать о своем появлении. Стенсон был настолько во власти своих мыслей, что посмотрел на него совершенно отсутствующим взглядом, и понадобилось некоторое время, пока он узнал вошедшего и собрался с мыслями. Наконец он как будто пришел в себя и, сделав над собою большое усилие, поднялся и приветствовал Гёфле с присущей ему вежливостью, стал расспрашивать о его жизни и собирался уступить ему кресло, на котором сидел, от чего тот отказался. Пожимая руку старика, Гёфле почувствовал, что она теплая и влажная, то ли от пота, то ли от слез, и это его взволновало. Он очень уважал и любил Стена и привык выказывать ему почтение, которого тот заслуживал своим возрастом и положением. Он понимал, что старик только что пережил большое потрясение и что он перенес его с достоинством. Но что же Это была за тайна, которую незнакомец подозрительного вида и наглый в своих речах занес как дамоклов меч над его головой?
Стенсон меж тем вернулся в свое обычное состояние: он стал серьезным, несколько холодным и церемонным. Никогда и ни с кем человек этот не был способен на излияния чувств. То ли это была гордость, то ли робость, но он был одинаково сдержан с людьми, которых знал тридцать лет, и с теми, кого видел в первый раз, и, помня его привычку отвечать односложными словами как на самые важные, так и на самые незначительные вопросы, Гёфле был просто поражен, услыхав те несколько вполне связных фраз, которые только что были сказаны незнакомцу.
– А я и не знал, что вы у нас в замке Вальдемора, господин адвокат, – сказал старик, – вы приехали по поводу процесса?
– Да, по поводу процесса барона с его соседом Эльфдаленом, который предъявляет свои права, и, может быть, обоснованно. Я посоветовал барону не судиться с ним. Вы меня слышите, господин Стенсон?
– Да, сударь, отлично.
Поскольку из чрезмерной вежливости старик всегда имел обыкновение отвечать только так, расслышал он или не расслышал, Гёфле, собиравшийся поговорить с ним, наклонился над самым его ухом и старался как можно более ясно выговаривать каждый слог. Вскоре он, однако, убедился, что по сравнению с прежними годами необходимости в этом было меньше. Стенсон за эти годы не только не сделался еще более туг на ухо, но, напротив, он стал слышать гораздо лучше. Гёфле сделал ему по этому поводу комплимент. Стенсон покачал головой и сказал:
– Когда как, очень по-разному. Сегодня вот я все хорошо слышу.
– Не правда ли, это бывает, когда вы чем-нибудь взволнованы? – спросил Гёфле.
Стенсон изумленно посмотрел на адвоката и, с минуту подумав, произнес слова, которые, однако, нельзя было назвать ответом:
– Я нервный, очень нервный!
– Позвольте вас спросить, – продолжил Гёфле, – кто этот человек, которого я встретил, выходя отсюда?
– Я его не знаю.
– Вы не спросили, как его зовут?
– Это итальянец.
– Я спрашиваю, как его зовут.
– Он назвал себя Джулио.
– Он что, собирается поступать на службу к барону?
– Возможно.
– Неприятная физиономия…
– Вы находите?
– Впрочем, она будет не единственной среди тех, что окружают барона…
Стенсон промолчал, и на лице его ничего не отразилось. Нелегко было завязать такой деликатный и задушевный разговор с человеком, который всем своим церемонным обращением как бы твердил вам: «Говорите о том, что вас интересует, а не о том, что касается меня». Однако бес любопытства подстегивал Гёфле, и он не отстал.
– Этот итальянец говорил с вами не очень-то вежливо, – сказал он вдруг.
– Вы так думаете? – равнодушно ответил старик.
– Я слышал, когда поднимался к вам по лестнице.
По лицу Стенсона пробежало волнение, но он не выказал его никаким тревожным вопросом относительно того, что Гёфле мог услышать.
– Он вам угрожал? – добавил адвокат.
– Чем? – сказал Стенсон, пожимая плечами. – Я ведь так стар…
– Он угрожал, что расскажет барону то, что вам так важно было держать от него в тайне.
Стенсон продолжал сохранять спокойствие, как будто ничего не расслышал. Гёфле не унимался:
– А кто этот Манассе, который умер?
Снова последовало молчание; непроницаемые глаза Стенсона, устремленные на Гёфле, казалось, говорили: «Если вы знаете, то зачем же спрашиваете?»
– А этот другой? – продолжал адвокат. – О каком это другомон говорил?
– Вы подслушивали, господин Гёфле? – в свою очередь спросил старик весьма почтительным тоном, в котором, однако, ясно слышалось осуждение.
Адвокат смешался, но сознание своей конечной правоты его успокоило.
– Неужели вас удивляет, господин Стенсон, что, пораженный угрожающими нотками в незнакомом мне голосе, я подошел поближе для того, чтобы кинуться вам на помощь в случае необходимости?
Стенсон протянул Гёфле свою морщинистую руку, которая снова стала холодной.
– Спасибо, – сказал он.
Потом он еще несколько мгновений шевелил губами, как человек, не особенно привыкший говорить, которому хочется излить свои чувства. Но он так долго не мог ничего сказать, что Гёфле, чтобы немного его приободрить, спросил:
– Дорогой господин Стенсон, у вас есть тайна, которая вам не дает покоя, и из-за нее вам грозит большая опасность?
Стенсон только вздохнул и лаконически ответил:
– Я честный человек, господин Гёфле!
– И все-таки, – порывисто сказал адвокат, – ваша благочестивая и робкая совесть в чем-то вас упрекает!
– В чем-то? – переспросил Стенсон предупредительно и мягко, как будто он хотел сказать: «Я жду, что вы мне об этом расскажете».
– Во всяком случае, вам приходится опасаться какой-то мести барона? – проговорил адвокат.
– Нет, – возразил Стенсон с внезапной силою в голосе. – Я знаю то, что мне сказал врач.
– А что, врач сказал, что дни его сочтены? Что ему стало хуже? Я видел его сегодня утром: должно быть, его еще хватит надолго.
– На несколько месяцев, – ответил Стенсон, – а мне еще надо жить годы. Я показывался врачу вчера… Я показываюсь ему каждый год…
– Так, выходит, вы ждете смерти барона, чтобы сделать какие-то важные признания? Но вы же знаете, считают, что он способен умертвить людей, которые ему страшны: что вы на это скажете?
Лицо Стенсона изобразило удивление, но Гёфле показалось, что это было деланное удивление, простой знак вежливости, потому что оно сменилось тайным беспокойством, которое старик все же не мог скрыть: Стенсон умел быть сдержанным, но не умел притворяться.
– Стенсон, – сказал ему адвокат искренне и проникновенно, взяв его за обе руки, – вас тяготит какая-то тайна. Откройтесь мне как другу и рассчитывайте на меня, если надо положить конец несправедливости.
Несколько мгновений Стенсон колебался, потом, отперев ящик секретера, ключ от которого у него был в кармане, показал Гёфле маленькую запечатанную шкатулку и спросил:
– Вы даете мне честное слово?
– Даю.
– Вы клянетесь священным писанием?
– Священным писанием! Ну так что же?
– Так вот… Если я умру раньше, чем он…откройте, прочтите и действуйте… после моей смерти!
Гёфле взглянул на шкатулку: на ней были написаны его имя и адрес.
– Вы позаботились о том, чтобы это передали мне? – сказал он. – Благодарю вас, друг мой. Но только если жизнь ваша в опасности, то зачем же медлить и что-то скрывать? Послушайте, дорогой мой господин Стенсон, я, кажется, начинаю понимать… Барон…
Стенсон знаком показал, что не будет ему отвечать. Гёфле, однако, продолжал:
– Уморил голодом свою невестку!
– Нет, – вскричал Стенсон убежденно, – нет, нет! Этого не было!
– Но когда она подписывала некое показание касательно ее беременности, ее к этому вынудили?
– Она подписала его по своей доброй воле. Я при этом присутствовал и сам подписал этот документ.
– А что сделали с ее телом? Его бросили собакам?
– О господи! Да разве же я там не был? Ее похоронили как христианку.
– Вы похоронили ее сами?
– Своими собственными руками! Но вы чересчур любопытны! Отдайте мне шкатулку!
– Вы, что же, сомневаетесь в моей клятве?
– Нет, – ответил старик, – держите ее при себе и ни о чем больше меня не спрашивайте…
Он пожал еще раз руку Гёфле, подошел к огню и снова совершенно оглох или притворился, что ничего не слышит.
Чтобы хоть немного отвлечь его и надеясь склонить его потом к каким-то признаниям, Гёфле начал рассказывать ему о той тяжбе, которая утром была предметом его разговора с бароном. На этот раз ему пришлось писать все вопросы, а в ответах старика сквозила присущая ему ясность ума. По его словам, минеральные богатства горы, которая была предметом спора, принадлежали соседу барона, графу Розенстейну. Он изложил все свои основания и, порывшись в своих папках, очень аккуратно надписанных и разложенных, предоставил ему доказательства. Гёфле заметил, что таково его собственное убеждение и что он будет вынужден поссориться с бароном, если тот станет навязывать ему это заведомо проигранное дело. Он добавил к этому кое-какие соображения относительно худой молвы, ходившей о его клиенте, но так как Стенсон ничего, казалось, не слышал, а письменная форма общения исключает возможность застать собеседника врасплох, Гёфле вынужден был отказаться от дальнейших расспросов.
Вернувшись в медвежью комнату, Гёфле задумался над тем, надо ли посвящать Христиана во все, что произошло между ним и Стенсоном, и, взвесив все, решил, что должен молчать. К тому же в эту минуту он и вообще-то не был склонен к каким бы то ни было излияниям. В голове его проносилось множество странных мыслей, множество противоречивых предположений. Мозг его напряженно работал, словно ему поручили какое-то трудное и путаное дело. И вместе с тем все обстояло совершенно иначе: Стенсон не позволял ему даже быть любопытным. Запрещение это, правда, ни к чему не приводило, и Гёфле не властен был угомонить рождавшиеся у него волнующие гипотезы. Адвокату не составило большого труда хранить молчание – Христиан в эту минуту был занят, ему не только не пришло в голову о чем-нибудь расспрашивать Гёфле, но он начисто забыл даже весь бывший меж ними разговор и был поглощен своей пьесой. К тому же он впал в глубокое уныние, и когда адвокат спросил его, нашел ли он способ обойтись без слуги, Христиан ответил, что напрасно ищет его уже в течение часа. В крайнем случае он, конечно, мог бы без него обойтись, но это повлекло бы за собою немало несообразностей и пропусков в мизансцене. Это было очень утомительным делом, и предстояло столько всего обдумывать и решать, что он уже готов был отказаться от своего замысла.
– Право же, – сказал он Гёфле, который пытался его подбодрить, – клянусь вам клятвой фигляра, что игра не стоит свеч; другими словами, я только измучаюсь совершенно бесславно и заставлю барона попусту истратить на меня деньги. Все равно дело провалилось, не будем же больше о нем думать. Знаете, что мне остается сделать, господин Гёфле? Отказаться от мысли об успехе в этих краях, все упаковать и уехать подобру-поздорову в какой-нибудь город, где я поищу себе другого слугу, который мог бы мне стать подручным и был бы достаточно благочестив, чтобы сдержать клятву, которую я от него потребую, пить одну только воду, даже если вино будет струиться потоками по горам Швеции!
– Черт побери! – сказал Гёфле, очень огорчившись при мысли, что потеряет своего соседа. – Если бы я мог хоть немного растормошить этих куколок… Только мне Этого не суметь.
– А ведь нет ничего проще. Попробуйте: указательный палец – в голову, большой – в руку, средний – в другую руку… Ну и отлично! Как раз то, что надо! А теперь, в знак привета, поднимите руки к небу!
– Это-то нетрудно, а вот сочетать жесты со словами! А потом, что говорить? Я ведь могу сымпровизировать только монолог!
– Это уже много. Послушайте, защищайте кого-нибудь, забудьте, что вы господин Гёфле, смотрите на фигурку, которую приводите в движение. Говорите, и совершенно естественно движение ваших плеч и положение всего корпуса передадутся кончикам пальцев. Надо только проникнуться сознанием реальности burattinoи воплотить в нем вашу индивидуальность.