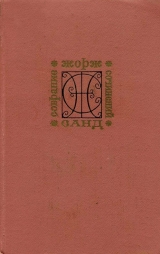
Текст книги "Мельник из Анжибо"
Автор книги: Жорж Санд
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 24 страниц)
– Как, племянничек! – возразил нищий с достоинством отца семейства, требующего, чтобы ему не мешали осуществлять его законные права. – Ты отмеряешь мне мою долю в своем доме? Жмешься, когда надо оказать помощь больному дядюшке?
Несправедливый упрек Кадоша сломил благоразумное сопротивление Большого Луи. Он оставил бутылку подле старика, сказав ему:
– Придержите ее впрок, а покамест – будет.
– Ты хороший родственник, стоящий племянник! – молвил Кадош, который, глотнув водки, словно воскрес из мертвых. – Ежели мне крышка, то лучше мне помереть в твоем доме, потому как ты похоронишь меня чин по чину! Красивые похороны всегда мне были по душе. Слушайте меня, племянник, работники, нотариус! Беру вас всех в свидетели: я приказываю моему племяннику и наследнику, Большому Луи из Анжибо, предать мое тело погребению с не меньшим почетом, чем будут хоронить – вскорости, конечно, – старика Бриколена… поелику он ненадолго меня переживет: он моложе, чем я, но… когда-то он дал себе здорово подпалить ноги… Ах, ах! Скажите на милость, вы все, не глупо ли дать себе поджаривать пятки из-за чужих денег? Правда, у него и свои были в том чугунке!
– Что такое он мелет? – вымолвил нотариус, который сидел тут же за столом и не без удовольствия следил за движениями мельничихи, приготовлявшей чай для больного, нацеливаясь тоже проглотить чашечку горячего напитка, чтобы обезопасить себя от вечерних паров над рекой. – Что это за чепуха про поджаривание пяток да про какой-то чугунок?
– Он заговаривается, должно быть, – ответил мельник. – Да и помимо того, что сейчас он пьян и болен, у него обычная старческая болтливость, и события тех времен, когда он был молод, занимают его больше, чем происходящее ныне. Это всегда так у стариков. Как чувствуете себя, дядюшка?
– Теперь получше: глоточек помог, хотя водка у тебя, племянник, слабая, ни к черту не годится! Или, может, меня надули – разбавили ее водой экономии ради? Послушай, ты не должен ничего жалеть для меня, пока я болен, а то, смотри, лишу наследства!
– Ага, вот еще об этом важном деле разговору не было сегодня, так теперь о нем потолкуем, – сказал, пожав плечами, мельник. – Попробовать бы вам уснуть, папаша Кадош!
– Мне сейчас уснуть? Нет, я не желаю спать, – ответил нищий, приподымаясь с подушки и обводя всех горящими глазами. – Я чувствую, что моя песенка спета, но не хочу помереть на боку, как вол. Ох, что-то давит на грудь, на сердце, словно камень на меня навалили… Душит, мешает… Мельничиха, сделай мне компресс. Никто обо мне тут не заботится, словно я не богатый дядюшка, от которого можно ждать наследства.
– Не сломаны ли у него ребра? – предположил Лемор. – Может быть, поэтому ему так давит на сердце?
– Я в этом не смыслю ни аза, да и никто из нас не смыслит, – отвечал мельник. – Но можно, конечно, послать за лекарем: он наверняка еще в Бланшемоне.
– А кто ему заплатит? – спросил нищий, который, хоть и похвалялся перед всеми своим воображаемым богатством, был скуп и дрожал над каждым грошом.
– Я заплачу, дядюшка, – успокоил его Большой Луи, – ежели только он не захочет просто по человечеству сделать, что будет нужно. Про меня никто не скажет, что я позволю бедняку околеть в моем доме без помощи, которую оказали бы богатому. Жанни, садись на Софи и быстро поезжай за господином Левернем!
– На Софи? – с усмешкой повторил Кадош. – Ты говоришь это по привычке, племянник! Ты забыл, что Софи украли.
– Софи украли? – спросила мельничиха, которая выходила и теперь снова вошла в комнату.
– Он бредит, матушка, – ответил мельник. – Не обращайте внимания на его слова. Скажите-ка, папаша Кадош, – понизив голос, обратился он к нищему, – вы, значит, про это знаете? Не можете ли вы к тому же сообщить мне какие-нибудь сведения о похитителе?
– Кому это ведомо? – сокрушенно отозвался Кадош. – Кто умеет находить воров? Во всяком случае, не жандармы, они слишком глупы для этого! Кто когда-нибудь мог сказать, что за люди жгли ноги папаше Бриколену и похитили у него чугунок?
– Ах, вы опять про то же! – воскликнул мельник. – Послушайте, дядюшка, вы все время твердите о поджаривании ног. С некоторых пор всякий раз, как я вас встречаю, вы заговариваете об этом, а сегодня в вашей истории появился еще чугунок какой-то. Его вы раньше при мне не поминали!
– Не заставляй его разговаривать! – сказала сыну мельничиха. – Из-за тебя у него усилится лихорадка.
Нищего и в самом деле лихорадило. Как только он замечал, что присутствующие не смотрят на него, он украдкой делал глоток из бутылки и затем ловко прятал ее под подушку у стены. С каждой минутой он явно приободрялся, и нельзя было без удивления смотреть на то, как хорошо переносит этот глубокий старик повреждения, которых не выдержал бы никто другой.
– Чугунок! – повторил он, пристально глядя на Большого Луи; выражение глаз у него было странное и вызывало безотчетную тревогу. – Чугунок! Он всего важнее в этой истории, и я сейчас вам ее расскажу.
– Расскажите, расскажите, папаша Кадош, мне будет интересно послушать, – заметил нотариус, внимательно следивший за нищим.
XXXIII. Завещание
– Был один чугунок, – продолжал Кадош, – старый, неказистый чугунок, ничем не примечательный… Но никогда нельзя судить но внешности: чугунок этот с наглухо запаянной крышкой, тяжелый… ох, до чего же он был тяжелый!.. содержал пятьдесят тысяч франков старого господина де Бланшемона, чья внучка сейчас на ферме у Бриколенов. Кроме того, старый папаша Бриколен, который тогда был молодым человеком, – тому уж сорок лет, ровно сорок – заложил в чугунок свои собственные пятьдесят тысяч, заработанные на одном выгодном дельце с шерстью. Эх то-то было времечко! Одни только поставки для армии чего стоили! И деньги, отданные на хранение арендатору господином де Бланшемоном, и деньги самого арендатора – все это были славненькие луидоры двадцатичетырехфранкового достоинства, с изображением его величества короля Людовика Шестнадцатого, – монеты из тех, что мы называем «жабий глаз», потому как у них на оборотной стороне вычеканен круглый гербовый щит. Всегда-то я любил эти монеты! Говорят, что при размене их кое-что теряешь, а я скажу, что выигрываешь: двадцать три франка одиннадцать су – это всегда будет ценнее, чем дрянной наполеондор достоинством в двадцать франков. Монеты помещика и арендатора были перемешаны. Только арендатор, который любил свои луидоры ради них самих (так-то и надо любить денежки, дети мои!), переметил их крестом, чтобы отличить от хозяйских, когда придет время их возвращать. Он сделал это по примеру самого хозяина: тот переметил свои золотые одной чертой – как тогда болтали, забавы ради и еще для того, чтоб их ему не подменили. Так что, бишь, я говорю? Да! На них была метка… и сейчас еще есть… потому как ни один из этих кругляшей не пропал; даже наоборот, к ним еще и другие прибавились!
– Что за сказки он плетет? – сказал мельник, посмотрев на нотариуса.
– Тихо! – остановил его нотариус. – Пусть говорит! Мне кажется, я начинаю кое-что понимать. Ну и что же было дальше? – спросил он нищего.
– А дальше было то, что арендатор запрятал чугунок в дыру, выдолбленную в стене (дело было в замке Бофор), и велел заложить дыру кирпичом. Когда к нему явились поджариватели… Не надо думать, что все они были из простонародья! В их числе было немало бедняков, но были и богачи! Я их хорошо знаю, черт бы их побрал! Некоторые до сих пор живы, и им низко кланяются при встрече. Были среди нас…
– Среди вас? – вскричал мельник.
– Молчите! – снова одернул его нотариус, сильно сжав ему руку у локтя.
– Я хочу сказать, что среди них были стряпчий, мэр, кюре, мельник… может быть, и нотариус… Это я не про вас, господин Тайян: вы тогда, верно, только на свет родились; и не про тебя, племянничек: ты был бы слишком прост для такого дела.
– Итак, поджариватели забрали деньги? – подсказал нищему нотариус.
– Не забрали они их, вот что самое забавное! Они подпекали ножки несчастному простофиле Бриколену… Это было ужасно… Чудовищное было зрелище…
– Так это происходило у вас на глазах? – спросил мельник, не в силах сдержаться.
– Нет, нет, я этого не видел, – открестился нищий, – но один мой дружок, который был там, рассказал мне обо всем.
– Ну, слава богу, – вымолвил мельник, у него отлегло от души.
– Пейте свой чай, папаша Кадош, – сказала мельничиха, – и не болтайте столько, а то вам хуже станет.
– Иди ты, мельничиха, ко всем чертям со своим кипятком, – ответил нищий, отталкивая чашку, – терпеть не могу это пойло. Дайте мне дорассказать мою историю; долго она лежала камнем у меня на душе, и сейчас я хочу, пока не помер, выложить ее всю до конца, а меня то и дело перебивают!
– Это правда, – сказал нотариус, – сегодня утром вы пытались рассказать ее людям на церковной площади, но все поворачивали к вам спину, говоря: «Ну вот, папаша Кадош снова завел свою историю про поджаривателей, пошли отсюда!» Но меня-то она заинтриговала, и я охотно дослушаю. Продолжайте же.
– Так вот, значит, этот человек, про которого я говорил, попал туда не совсем по своей воле: был он бедный крестьянин, и его заставили – тогда только он и пошел. А потом его разобрал страх, и он хотел было улизнуть, но ему пригрозили, что застрелят его тут же на месте, ежели он не сядет на лошадь, которую подвели к нему; она, как и другие их лошади, была подкована наоборот, чтобы сбить с толку возможных преследователей, когда шайка будет возвращаться после дела… И когда этот человек оказался там, то с волками жить – по-волчьи выть: пришлось ему делать то же, что и другие делали. Он принялся всюду шнырять да рыскать, ища деньги. Ему это было менее противно, чем помогать поджаривать беднягу Бриколена: он был не такой уж плохой человек – приятель, про которого я вам рассказываю. Да, не нравилась ему эта затея, жутко было видеть… и отвратительно… Несчастный вопит, орет, как зарезанный… женщины в обмороке, а проклятые ноги болтаются в огне, подскакивают… так и вижу их сейчас перед глазами. Ночи не было с тех пор, чтобы они мне не снились! Бриколен в то время был сильным мужчиной: он так отбивался, что погнул ногами железный брус, который подогревался огнем… Но я, я не принимал в этом участия, клянусь богом, не принимал! Когда меня заставили прижимать ему салфетку ко рту, меня прошиб холодный пот…
– Вас? – переспросил потрясенный мельник.
– Человека, который мне про это рассказывал… И человек тот наконец улучил момент, убрался оттуда и пошел искать, перерывать весь дом снизу доверху, выстукал все стены киркой – нет ли где полости, крушил направо и налево что ни попадалось под руку, – словом, вел себя, как и другие. И случилось так, что он попал, извините за выражение, в свинарник, и попал туда один. С этих пор я и полюбил свиней и каждый год выращиваю по хрюшке… Выстукивает он стенки, прислушивается… Слышит – вроде бы пустота. Осматривается кругом… Гляжу – я совсем один! Тут он начинает бить стену, залезает в дыру руками и находит – угадываете, что? – Чугунок он находит. Мы хорошо знали, что это копилка папаши Бриколена. Слесарь, запаявший ее наглухо, в свое время проболтался, и я тотчас узнал, что это и есть тот самый горшок с медом. Ну и тяжелый же он был! Но у приятеля моего вдруг обнаружилась бычья силища! Он тут же дал деру и был таков – с чугунком вместе! А йотом сразу же – шмыг из этих мест, ни с кем не попрощавшись, – только его и видели! Ведь он в крупную игру ввязался: шутка ли – сто тысяч! Поджариватели как пить дать укокошили бы его, коли бы настигли.: Он шел день и ночь без остановки, не пил, не ел, пока не оказался в большом лесу. Там он зарыл чугунок и проспал уж не знаю сколько часов подряд. Ох и устал же я тогда от этого груза. Когда я почувствовал голод, то не знал, что делать. У меня в кармане не было ни су, и я знал, что на все мои сто тысяч франков нет ни одной немеченной монеты! Я их все пересмотрел, перед тем как зарыть, – не мог удержаться, – и увидел, что по этим проклятым меткам полиция, которой, уж конечно, сообщили о происшедшем, тотчас их опознает. Попытаться выскрести метки было бы еще хуже. И затем, коли бы такой голодранец, как тот, о ком я вам рассказываю, вздумал разменять луидор, чтобы купить кусок хлеба у булочника, это сразу показалось бы подозрительным. Ему оставалось только одно – начать попрошайничать. И он стал нищим. Полиция в то время орудовала не так проворно, как нынче: тому доказательством, что ни один из поджаривателей не покинул округи и не был наказан. Ремесло нищего недурное, когда умеешь взяться за дело… Мне на нем удалось кое-что скопить, притом, что я ни в чем себе не отказывал. Мой приятель не сделал такой глупости, чтобы позвать слесаря сызнова запаять чугунок. Чугунок и лежит, зарытый прямо посередине той жалкой, крытой соломой хибарки, что служит этому человеку жильем; он ее сам построил в лесной чаще. Сорок лет никто его не трогал, потому как никто не завидует его судьбе, и он находил удовлетворение в том, что был богаче и независимее тех, кто его презирал.
– А что ему был за прок от его золота? – спросил Анри.
– Он любуется им каждый раз, когда возвращается в свою хибарку, и складывает туда денежки, собранные за неделю. Оставляет он себе лишь то, что ему потребно на табак и водку. Время от времени он заказывает обедню, чтобы отблагодарить бога за услугу, которую тот ему оказал. И так вот сорок лет благодаря своей осмотрительности и расчетливости прячет он концы в воду. Он не настолько безумен, чтобы вынуть хоть одну монету из своего хранилища, хотя сейчас это уж не вызвало бы подозрений. История та забыта, и дело похерено. Но люди могли бы подумать, что он богат, и не стали бы подавать ему милостыню. Такова, дети мои, история чугунка. Как вы ее находите?
– Великолепно! – воскликнул нотариус. – И весьма поучительно!
Наступило глубокое молчание. Присутствующие смотрели друг на друга, не зная, что сказать. Они испытывали смешанное чувство удивления, испуга и презрения, но притом их почему-то разбирал смех. Кадош, утомленный своим словоизлиянием, в изнеможении откинулся на подушку; его обескровленное лицо приобрело зеленоватый оттенок; длинная, жесткая, еще достаточно черная борода усугубляла мрачное впечатление от его землисто-серой физиономии и делала облик его совсем уже устрашающим. Глубоко сидящие глаза, которые пламенно сверкали, пока язык его был развязан пьяным возбуждением и лихорадкой, казалось, еще глубже ушли в глазницы и остекленели, как у мертвеца. Лицо, заостренное худобой, резко выступающий, тонкий с горбинкой нос, узкие губы, все его черты, в молодости, возможно, даже приятные, не свидетельствовали о природной жестокости; в них выражалась странная смесь скупости, хитрости, недоверчивости, чувственности и, казалось бы, несовместимого с этими качествами добродушия.
– Ну и ну! – нарушил наконец молчание мельник. – Что это мы слышали сейчас: пересказ сна, который ему привиделся, или подлинную исповедь? Кого надо звать: лекаря или кюре?
– Господь сжалился над ним! – произнес Лемор, внимательнее других наблюдавший за тем, как изменялось лицо нищего, и заметивший, что дыхание его стало более стесненным. – Или я сильно ошибаюсь, или же ему осталось жить несколько минут.
– Мне осталось жить несколько минут? – повторил его слова нищий, приподнимаясь с подушки. – Кто это сказал? Лекарь? Я не верю лекарям. К черту их всех!
Он отвернулся к стене, опустошил до дна бутылку, затем принял прежнее положение, но вдруг, почувствовав нестерпимую боль, громко застонал.
– Мне придавили сердце, – через силу произнес он. – Может статься, я и не выкарабкаюсь из беды. Что же будет, ежели мне больше не вернуться домой? Кто позаботится о моей бедной хрюшке? Она привыкла сжирать хлеб, что мне подают, – я ей приношу хлебца каждую неделю. Правда, у меня там есть молоденькая соседка – она выводит мою хрюшку пастись. Плутовка этакая! Она делает мне глазки: надеется получить от меня наследство! Дудки! Вот мой наследник!
И он торжественным жестом указал на Большого Луи.
– Он всегда был ко мне добрее других. Он один обходился со мной, как я заслуживаю: укладывал меня на свою постель, давал мне табачок, водочку, мясцо – это не то что их хлебные корки, к которым я никогда не прикасался. Я всегда держался одного хорошего правила: не забывать добра! И я всегда любил Большого Луи и господа бога, затем что они делали мне добро. Так вот, я желаю составить завещание в его пользу, как я ему не раз обещал. Как ты думаешь, мельничиха, не настолько я болен, что не успею сделать это?
– Да нет, нет, божий человек! – воскликнула мельничиха; ангельски чистая душа, она приняла рассказ нищего за некую фантазию. – Не составляйте завещания: говорят, это приносит несчастье и приближает смерть.
– Напротив, – возразил господин Тайян, – от этого только лучше становится: наступает облегчение. Человек чуть ли не с того света возвращается.
– В таком случае, нотариус, – сказал нищий, – я хочу испробовать это средство. Я ценю то, что у меня есть, и хочу, чтобы имущество мое перешло в хорошие руки, а не в руки молоденьких вертихвосток, что увиваются вокруг меня, да без толку, потому как не получат ничего, кроме букетика и ленты с моей шляпы, чтобы им украшаться по воскресеньям. Нотариус, берите перо, слушайте и пишите, как положено по форме, и ничего не пропуская: «Я отказываю и завещаю моему другу, Большому Луи из Анжибо, все, чем я владею: мой дом, расположенный в Же-ле-Буа, мой картофельный огородик, мою свинью и мою лошадь!..»
– У вас есть лошадь? – спросил мельник. – С каких же пор?
– Со вчерашнего вечера. Нашел я ее; шел, шел и нашел.
– А не моя ли это лошадь часом?
– Твоя и есть, твоя старая Софи, что не стоит и подков, которыми она подкована.
– Извините, дядюшка! – воскликнул мельник, обрадованный и обиженный одновременно. – Я дорожу моей Софи, она стоит больше, чем иные люди! Черт возьми, вы не постеснялись украсть у меня Софи! А я-то вам так доверял, что мог бы отдать вам ключ от мельницы! Ах вы старый лицемер!
– Молчи, племянник, ты глупо рассуждаешь, – с важностью произнес Кадош, – красиво ли это, чтобы дядя не имел права воспользоваться лошадью своего племянника? Все твое – мое, поскольку, согласно моей воле и моему завещанию, все мое будет твоим.
– Ладно, пусть будет по-вашему! – отозвался мельник. – Завещайте мне Софи, завещайте, завещайте, дядюшка, я не против. Слава богу еще, что вы не успели ее продать!.. Вот старый проходимец! – пробормотал он сквозь зубы.
– Что ты сказал? – спросил нищий.
– Ничего, дядюшка, – ответил мельник, заметив, что у старика в груди начался прерывистый хрип, – я говорю, что вы правильно сделали, раз уж вам взбрело в голову просить милостыню верхом!
– Вы кончили, нотариус? – произнес Кадош слабеющим голосом. – Больно медленно вы пишете! Я уж засыпать начал. Быстрей шевелитесь, законник, не тяните!
– Готово! – сказал нотариус. – Сумеете подписаться?
– Получше, чем вы! – ответил Кадош. – Но я плохо вижу. Дайте мне мои очки и понюшку табаку.
– Вот, возьмите! – сказала мельничиха.
– Эх, хорошо! – крякнул нищий, в полную меру насладившись понюшкой. – Вроде я и пободрей стал. Еще, видать, жив курилка… хотя все у меня болит, болит чертовски! – Он бросил взгляд на завещание и забеспокоился:
– А вы не забыли чугунок и его содержимое?
– Конечно, нет! – ответил господин Тайян.
– И правильно сделали! – сказал Кадош подчеркнуто ироническим тоном. – Хотя все, что я вам тут наговорил, – басня. Я ее сочинил, чтобы посмеяться над вами.
– Я не сомневался в этом! – радостно воскликнул мельник. – Будь у вас эти деньги, вы бы вернули их по принадлежности. Вы же всегда были порядочным человеком, дядюшка!.. Правда, вы украли мою кобылу, но это одна из ваших шуточек; вы бы привели ее обратно! Бросьте, не подписывайте эту чепуху! Мне ваш скарб без надобности, а какому-нибудь бедняку он может пригодиться. Да, впрочем, у вас, может быть, есть какой-нибудь родственник; я не хочу, чтобы он лишился хоть одного су из той малости, что вы скопили.
– Нет у меня родственников! Я их всех похоронил, слава богу! А что до бедняков, то я их презираю! Дай мне перо, или я тебя прокляну!
– Ладно, ладно, позабавьтесь, дядюшка! – сказал мельник, передавая ему перо.
Нищий поставил свою подпись; потом, с ужасом оттолкнув от себя бумагу, закричал:
– Заберите, заберите от меня это! Она на меня накличет смерть!
– Порвать ее? – спросил Большой Луи, готовый привести свои слова в исполнение.
– Нет, нет, не рви! – запротестовал нищий, в последний раз собрав свою волю. – Положи ее себе в карман, мой мальчик, и, может быть, ты на этом не потеряешь. Да, а лекарь-то где же? Он мне нужен, чтобы прикончил меня поскорее, ежели мне суждено еще долго так мучиться!
– Придет, придет! – успокоила его мельничиха. – И кюре придет с ним. Я позвала обоих.
– Кюре? – переспросил Кадош. – А его-то зачем?
– Чтобы сказать вам слово утешения, папаша Кадош. Вы ведь всегда помнили о боге, и душа ваша заслуживает заботы о себе, как и всякая другая. Я уверена, что господин кюре не откажется приехать к нам, чтобы дать вам причаститься святых даров.
– Значит, пропащее мое дело? – произнес умирающий с глубоким вздохом. – Коли так – довольно глупостей! Пусть этот кюре идет ко всем чертям, хотя он по сути добрый малый и не дурак выпить. Но попам я не верю. Я почитаю господа бога, а священников не уважаю. Господь дал мне деньги, а священник заставил бы меня их вернуть. Дайте мне умереть спокойно! Племянник, ты обещаешь мне раскроить дубиной башку проклятущему колымажнику?
– Ну, не то чтобы раскроить башку, но отдубасить как следует обещаю.
– Хватит болтать! – резко сказал нищий, подняв бескровную руку. – Я бы хотел умереть за разговором, да сил нет. А все же не так уж я болен, как вы думаете. Сейчас я посплю, и, может быть, ты еще не скоро получишь от меня наследство, племянничек!
Нищий снова упал навзничь, и вскоре дыхание в его груди стало клокочущим и свистящим. Он сильно покраснел, затем кровь опять отлила от его лица. Несколько минут он постонал, испуганно открыл глаза, словно смерть предстала перед ним в зримом обличье, и вдруг, слегка улыбнувшись, как если бы к нему вернулась надежда на жизнь, испустил дух.
Смерть человека, даже очень плохого, ощущается благочестивыми душами как таинственное и многозначительное событие, внушает им богобоязненный трепет и потребность в сосредоточенном молчании. Все, кто был на мельнице, словно застыли, погруженные в печаль, когда нищий старик Кадош скончался. Несмотря на его пороки и шутовство, несмотря далее на его странную исповедь, в правдивость которой действительно поверил один нотариус, мельничиха и ее сын питали дружеское расположение к старику просто потому, что привыкли делать ему добро; ибо если верно суждение, что нас ненавидят за нам же причиненное зло, то следует признать справедливым и обратное заключение.
Мельничиха опустилась на колени у кровати и стала произносить слова молитвы. Лемор и мельник в мыслях также вознесли моление тому, в чьей руце высшая справедливость, чтобы он в неизреченном милосердии своем не покинул бессмертную душу, некогда ниспосланную им с небес и прошедшую свой путь земной в неприглядном обличье этого несчастного, жалкого человека.
Только нотариус спокойно отвернулся и проглотил чашку чаю, равнодушно произнеся: «Ite, missa est, Dominus vobiscum!» [38]38
Ступайте, обедня совершена, с вами бог (лат.).
[Закрыть]
– Слушай, Большой Луи, – сказал он затем, вызвав мельника из комнаты, – надо сейчас же отправляться в Же-ле-Буа, до того, как туда дойдет известие о его кончине. А то какой-нибудь бродяга вроде него самого перевернет всю хижину вверх дном и вытащит из гнезда яичко.
– Какое еще яичко? – удивился мельник. – Что там есть? Свинья да какие-нибудь лохмотья?
– Нет, чугунок!
– Сказки это, господин Тайян!
– И все-таки надо посмотреть. А кроме того, там твоя лошадь.
– Ах, да, моя старая, верная Софи! Вы правы, я и забыл совсем! Она такая добрая, и дружим мы с ней так давно, что грех не съездить за пей хоть в какую даль! Мы же с ней почти однолетки, она да я. Еду! Ну, а что, если он и про нее наврал, посмеялся надо мной? Старикан был большой шутник…
– Поезжай, поезжай, говорю тебе, не ленись! Я верю в этот – как его там? – чугунок, или железный горшок, и вера моя «тверда, как железо», говоря по-нашему, по-местному.
– Но скажите на милость, господин Тайян, неужто этот клочок бумаги, который вы измарали себе на забаву, в самом деле имеет какую-то ценность?
– Завещание написано по всей форме – за годность его я ручаюсь. Оно может тебя сделать обладателем ста тысяч франков.
– Меня? Но вы забываете, что если рассказанное им правда, то половина денег принадлежит госпоже де Бланшемон, а другая – Бриколенам?
– Это еще один довод за то, что надо спешить. Ты согласился принять дар Кадоша именно с тем, чтобы вернуть его законным владельцам. Отправляйся же за ним. Когда ты окажешь столь большую услугу Бриколену, он будет последним негодяем, если не отдаст за тебя дочку!
– Отдаст за меня дочку? Да разве я помышляю о его дочке? Разве его дочка может думать обо мне? – воскликнул мельник, заливаясь краской.
– Ладно, ладно, скромность – всегда добродетель, но я видел, как вы танцевали вместе, и смекнул, почему папаша вас так грубо оторвал друг от друга.
– Выбросьте это из головы, господин Тайян, зряшный разговор… Я отправляюсь. Но если в самом деле там зарыт клад, что мне с ним делать? Не надо ли доложить судебным властям?
– Чего ради? Судебные формальности изобретены для тех, кто неправосуден в сердце своем. Надо ли бесчестить память этого старого шута, который умудрился, прокоптив небо восемьдесят лет, всю жизнь слыть человеком порядочным. Тебе нет также нужды доказывать людям, что ты не вор: это и так никому не придет в голову. Ты просто вернешь деньги владельцам – и дело с концом.
– Но если у старика есть родственники?
– Их у него нет; а если бы и были, – ты, что же, хочешь, чтобы они унаследовали то, что им не принадлежит?
– Это верно; я совсем одурел от происшедшего… Я верхом поеду.
– Не больно удобно тебе будет ехать на лошади с этим самым чугунком, который «так тяжел, так тяжел!» Дороги-то там достаточно проезжие?
– Вполне. Отсюда надо ехать на Трансо, потом – на Лис-Сен-Жорж, а оттуда – на Же-ле-Буа. Это все одна проселочная дорога, недавно починенная.
– Тогда бери мою двуколку, Большой Луи, и не мешкай.
– А как же вы?
– А я покамест сосну здесь, у вас.
– Вы славный человек, дьявол меня заешь! А что, как постель будет для вас жестковата – вы же маленько привередливы по этой части?
– Пустяки! Одна ночь не имеет значения. Да и, кроме того, не может же твоя матушка оставаться наедине с покойником: это уж больно невесело. Ведь ты должен взять с собой работника. Когда имеешь при себе большие деньги, второй человек не лишний. В сумках двуколки ты найдешь Заряженные пистолеты. Я без них не езжу, потому что мне нередко доводится перевозить ценности. Ну, с богом! Скажи матушке – пусть приготовит мне еще чаю. Мы с ней посидим, побеседуем подольше, а то мне из-за покойника в доме как-то не по себе.
Пять минут спустя Лемор и мельник ехали, окутанные ночным мраком, по дороге в Же-ле-Буа. Дадим им время, чтобы добраться туда, и вернемся на ферму посмотреть, что происходит там, пока они в пути.








