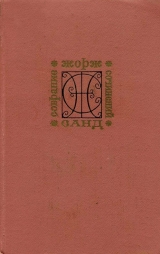
Текст книги "Мельник из Анжибо"
Автор книги: Жорж Санд
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 24 страниц)
Сквозь лес наш мельник вез домой
Из города деньжата,
Как вдруг услышал шум глухой
Среди листвы богатой.
Наш мельник был смельчак и хват,
Но тут струхнул он, говорят…
Друзья, страшитесь этих мест
И выбирайте длинный,
Далекий путь, – но путь в объезд
Черной Долины.
Помнится, в песне пелось иначе:
Друзья, страшитесь этих мест,
Людской страшитесь злобы
И выбирайте путь в объезд
Лесной чащобы;
но Большой Луи, которого правильность стихотворного размера заботила не больше, чем воры и привидения, для забавы приспосабливал слова к обстоятельствам своей жизни; и эти наивные куплеты, некогда очень популярные, но теперь распевавшиеся только на мельнице в Анжибо, часто скрашивали ему скучные одинокие поездки по округе.
Приблизившись к человеку, который ожидал его, не трогаясь с места, он нашел, что позиция для нападения выбрана довольно удачно. Брод был неглубок, но загроможден большими камнями, из-за которых Софи должна была продвигаться вперед с большой осторожностью, и, кроме того, съезжая в воду, надо было крепко держать узду, так как спуск был довольно крут и лошадь могла упасть.
«Посмотрим, посмотрим», – говорил самому себе Большой Луи, не теряя спокойствия и присутствия духа.
XVIII. Анри
Путник в самом деле подошел вплотную к голове лошади, и Большой Луи, успевший под аккомпанемент своей песни прикрепить к концу бича свинцовую пулю с дыркой, проделанной нарочно для этой цели, уже занес руку с намерением заставить злоумышленника, если тот схватит лошадь под уздцы, разжать пальцы, как вдруг знакомый голос дружелюбно произнес:
– Мэтр Луи, позвольте мне переправиться на тот берег в вашей таратайке!
– Милости просим, дорогой парижанин! – воскликнул мельник. – Наконец-то мы снова встретились! Я ведь проискал вас все утро. Влезайте, влезайте, мне как раз надо сказать вам пару слов.
– А мне надо задать вам больше, чем пару вопросов, – отозвался Анри Лемор, без всякой опаски вскакивая в тележку и усаживаясь на сундучок рядом с Большим Луи, как человек, не ожидающий для себя ничего плохого.
«Вот наглый парень», – подумал мельник, почувствовав новый прилив злости и с трудом сдерживая себя, несмотря на то, что они находились сейчас посредине речки. – Знаете, приятель, – сказал он, кладя Анри на плечо свою тяжелую руку, – мне чего-то больно охота свернуть в сторону и пустить вас сделать нырок с запруды.
– Забавная мысль, – спокойно ответил Лемор, – и, возможно даже, осуществимая. Только я бы, дружище, стал бешено защищаться, потому что в настоящий момент, впервые за долгое время, жизнь мне весьма дорога.
– Одну минутку! – произнес мельник, останавливая лошадь на прибрежном песке после переезда через речушку. – Здесь будет удобнее поговорить. Прежде всего, милейший, соблаговолите сказать мне, куда вы направляетесь.
– Я и сам не очень-то знаю, – ответил Лемор смеясь. – Просто иду куда глаза глядят. Разве сейчас погода не подходящая для прогулки?
– Не такая подходящая, как вам кажется, и вы могли бы вернуться, вымокнув до нитки, коли бы я того захотел. Вы попросились на мою таратайку: это моя передвижная крепость, и с нее спуститься не всегда так же легко, как на нее взойти.
– Довольно зубоскалить, Большой Луи, – сказал Лемор, – и подстегните свою лошадь. Мне не до смеха, я слишком взволнован…
– Вы просто трусите, сознайтесь.
– Да, да, я «струхнул», как мельник в вашей песне, и вы поймете, когда я вам расскажу… если смогу рассказать… Я сейчас сам не свой…
– А все-таки, куда вы направляетесь? – переспросил мельник; он начал уже опасаться, что неверно думал о Леморе, и, вновь обретя способность ясно рассуждать, несколько поколебленную гневом, задавал самому себе вопрос, предался ли бы таким образом ему в руки человек, действительно повинный в низости.
– А сами вы куда, направляетесь? – в свою очередь, спросил Лемор. – В Анжибо? Оттуда же рукой подать до Бланшемона! Я как раз иду в ту сторону, хоть и не уверен, что осмелюсь дойти до места… Но… вы ведь слыхали, что магнит притягивает железо?
– Не знаю, из железа вы или нет, – ответил мельник, – знаю только, что и меня тянет в ту сторону крепкий магнитик. Итак, молодой человек, вы хотели бы…
– Ничего я не хочу, не смею ничего хотеть! Но она разорена, совсем разорена! Зачем же мне убегать?
– А зачем вы хотели пуститься в дальние края, в Африку или еще куда-то, к черту на кулички?
– Я думал, что она все-таки еще богата: триста тысяч франков, я вам уже говорил, сравнительно с моим положением – это богатство.
– Но она же любила вас, несмотря на это?
– Так что же, вы считаете – я должен был принять и деньги вместе с любовью? Ну вот, видите, мой друг, я больше не притворяюсь перед вами. Вам, как можно судить, поведали о вещах, в которых я ни за что бы не признался, хотя бы мне пришлось пойти на драку с вами. Но я поразмыслил… после того как покинул вас… несколько внезапно, сам толком не зная, что я делаю, потому что сердце мое было переполнено радостью и я не смог бы дальше молчать… Да, я поразмыслил над всем услышанным мною от вас и понял, что вам известно все и что глупо опасаться нескромности со стороны человека, столь преданного госпоже…
– Марсели! – закончил за него мельник, испытывая явное удовольствие оттого, что может запросто называть ту, о ком они говорили, ее крестильным именем, как он мысленно его определял, противопоставляя его родовой дворянской фамилии владелицы Бланшемона.
Лемор вздрогнул, услыхав это имя. Впервые оно зазвучало в его ушах. Так как он не имел никаких отношений с окружением госпожи де Бланшемон и никому не поверял тайну своей любви, то и не слышал никогда из чьих-либо уст звучания этого дорогого для него имени, которое он лишь читал с благоговением под строками приходивших к нему записок и осмеливался произносить только наедине с самим собой в минуты отчаяния или восторга. Он схватил мельника за локоть, колеблясь между желанием попросить своего нового друга вновь произнести это имя и боязнью профанировать его, позволив эху повторить его многократно в ночной тиши.
– Ну так! – произнес Большой Луи, тронутый чувством Лемора. – Вы поняли наконец, что не должны были, не имели причин питать недоверие ко мне? Но что до меня, то, сказать по правде, я все еще питаю некоторое недоверие к вам. Это происходит помимо моей воли, но я не могу с этим ничего поделать. Ну вот, скажите-ка, где вы провели весь сегодняшний день? Я думал, что вы прячетесь в каком-нибудь погребе.
– Наверное, я бы и забрался в погреб, окажись он где-нибудь поблизости, – с улыбкой ответил Лемор. – Мне было крайне необходимо скрыть от всех свое волнение и свою безумную радость. Знаете, друг мой, я ведь намерен был уехать в Африку и никогда больше не видеть ту, чье имя вы только что произнесли… Да, несмотря на письмо, врученное мне вами, в котором мне предлагалось вернуться через год, я чувствовал, что совесть требует от меня ужасной жертвы. И еще сегодня я был полон страха и неуверенности! Ибо если теперь мне не нужно в жестокой борьбе с самим собой преодолевать чувство стыда от того, что я, пролетарий, женюсь на богатой женщине, то еще остается сословная вражда, борьба плебея с патрициями, которые будут преследовать эту благородную женщину за выбор, почитающийся недостойным. Но, быть может, низостью было бы уклониться от этого испытания. Не ее вина, если в ней течет кровь угнетателей, и, кроме того, дворяне утратили свое былое могущество, его обрели люди иного свойства. Дворянские воззрения лишились авторитета, и возможно, что та… которая удостоила меня своим вниманием… не будет порицаема всеми. И тем не менее это ужасно – не правда ли? – заставить любимую женщину вступить в конфликт с родными, навлечь на нее осуждение со стороны тех, среди кого она прожила всю жизнь! Какими другими душевными связями заменю я ей эти связи, правда, второстепенные, но многочисленные, радующие любвеобильное сердце, которое не может без сожаления разорвать их? Ведь я одинок на всей земле; неимущий всегда одинок, а простой народ не понимает еще, как он должен был бы встречать тех, кто приходит к нему из такой дали, преодолев невероятные препятствия. Увы! Я провел часть дня где-то в зарослях, сам не знаю где, в каком-то месте, куда случайно забрел, и лишь после долгих часов напряженного и тревожного раздумья решил найти вас и попросить устроить мне свидание с нею на час… Я безуспешно искал вас, в то время как вы, возможно, тоже искали меня, ибо именно вами была подсказана воспламенившая меня мысль отправиться в Бланшемон. Но я полагаю, что с вашей стороны это было неблагоразумно, а с моей – и вовсе безумно, потому что она запретила мне даже разузнавать, куда она удалилась из Парижа, и назначила ради соблюдения приличий во время траура нашу встречу через год.
– Только и всего? – спросил Большой Луи, несколько испуганный тем, как оборачивалась его идея, утром казавшаяся весьма остроумной, – подбить возлюбленного Марсели на поездку к ней. – Ужели вы придаете столь серьезное значение этим самым «приличиям», о которых вы толкуете, и обязательно ли должен протечь со смерти дурного супруга целый год, чтобы порядочная женщина могла увидеть лицо порядочного мужчины, имеющего намерение жениться на ней? Это что же, такого обычая придерживаются у вас в Париже?
– В Париже не больше, чем в других местах. Благоговейное чувство, которое люди испытывают перед тайной смерти, конечно, повсюду определяет в душе человека срок, отводимый для воспоминаний о похоронах.
– Я знаю, что обычай блюсти траур в одежде, в речах, во всем поведении порожден добрыми чувствами, но нет ли здесь того недостатка, что он превращается в лицемерие, когда о покойнике не приходится особенно сожалеть и когда любовь недвусмысленно обращена на другого человека? Разве оттого, что вдова должна жить в строгости, человек, который хочет на ней жениться, обязан покинуть родину и не вправе даже пройти перед дверью своей любимой и бросить на нее украдкой взгляд, когда она не смотрит в его сторону?
– Вы не знаете, добрая душа, как злы те, кто величает себя «людьми большого света» – странное наименование, не правда ли, но справедливое с их точки зрения, ибо они считают одних себя людьми, а народ в счет не идет; ведь они претендуют на то, что на всем свете лишь они имеют право властвовать; так было всегда я еще будет некоторое время!
– Охотно верю, – живо подхватил мельник, – что они злее, чем мы! Но все же, – добавил он сокрушенно, – и мы не так добры, как следовало бы. Мы тоже бываем не прочь поперемывать косточки нашим ближним, понасмехаться над ними и обычно склонны осудить слабого. Да, вы правы, мы должны быть осторожны, чтобы никто не посмел дурно говорить об этой даме, глубоко чтимой нами обоими; достаточно одного дня, и, глядишь, уже ее обвинят в легкомысленном поведении. Поэтому я считаю, что вам не следует показываться в Бланшемоне.
– Вы хороший советчик, Большой Луи, и я был уверен, что вы не дадите мне совершить опрометчивый поступок. Я выкажу мужество и последую совету вашего рассудительного ума, во искупление той вздорности, что я выказал утром, распалившись при первом проявлении вашего благожелательного отношения ко мне. Я еще поболтаю с вами, пока мы не доедем до вашей мельницы, а затем вернусь в *** и завтра оттуда отправлюсь в дальнейший путь.
– Полно, полно! Вы бросаетесь из одной крайности в другую, – урезонил его мельник, который, беседуя с Лемором, придерживал Софи, не давая ей переходить с шага на рысь. – Анжибо в одной миле от Бланшемона, и вы можете переночевать у нас, не ставя под угрозу ничью репутацию. Под моей крышей сейчас нет ни одной женщины, за исключением моей старой матушки, а она-то уж не станет болтать лишнее. Вы сделали недурную прогулочку от *** до этого места, и я был бы бездушным, бессердечным человеком, коли бы не заставил вас поужинать на скорую руку да прилечь вздремнуть, как говорит наш кюре, который сам-то не любит неосновательности в этих делах. Да и кроме того, разве вам не нужно написать письмо? У нас вы найдете все, что для этого требуется. Вот разве что красивой почтовой бумаги нету. Я числюсь помощником мэра в нашей коммуне [26]26
Коммуна – во Франции наименование низших административных единиц в системе местного управления.
[Закрыть], и я пишу официальные акты не на веленевой бумаге; но даже если вам придется положить вашу любовную прозу на бумагу с гербовой маркой мэрии, письмо все равно прочтут, и скорее всего не один раз! Так едемте же ко мне, вот я уже вижу – дымок поднимается из-за деревьев: это готовится ужин для меня. Сейчас подгоним маленько Софи, потому как матушка, верно, проголодалась, а без меня она за стол не сядет. Я обещал ей сегодня вернуться пораньше.
Анри до смерти хотелось принять приглашение доброго мельника, по он еще поупирался для виду: влюбленные такие же притворщики, как дети. Хотя он и отказался от безумной идеи отправиться в Бланшемон, но словно какая-то чудесная сила толкала его в этом направлении, и каждый следующий шаг Софи, приближавший его к «центру притяжения», усиливал волнение в его сердце, сломленном недавней борьбой, в которой он изнемог. Поэтому он очень скоро сдался на уговоры, в глубине души благословляя настойчивость гостеприимного мельника.
– Матушка! – воскликнул, соскакивая с таратайки, Большой Луи. – Ну что, не сдержал я слова? Если часы господа бога не испортились, то сейчас звезды Креста показывают на Дороге святого Якова десять часов [27]27
Крест – это созвездие Лебедя, а Дорога святого Якова – Млечный Путь. (Прим. автора.)
[Закрыть].
– Сейчас, может быть, только чуточку больше, – ответила Большая Мари. – Ты приехал всего на час позже обещанного. Бранить мне тебя не за что, тем более что ты, как я вижу, занимался делами нашей милой гостьи. Ты собираешься отвезти все это в Бланшемон еще сегодня?
– Нет, что вы, матушка! Уже чересчур поздно. Госпожа Марсель сказала мне, что лишний день для нее не имеет значения. Да и кроме того, разве можно войти в новый Замок после десяти часов вечера? Ведь они же недавно только починили зубчатую стену, что окружает двор, и забрали ворота железной решеткой. Они способны установить подъемный мост над своим рвом без воды. Черт меня побери! Господин Бриколен считает себя уже бланшемонским сеньором. Он вскоре прилепит на камин свой герб и прикажет величать его деБриколеном… Но поглядите, матушка, я привез к нам гостя. Узнаете вы этого молодого человека?
– Э, да это тот самый господин, что был здесь с месяц тому назад! – сказала Большая Мари. – Мы еще приняли его тогда за поверенного в делах владелицы Бланшемона. Но она вроде бы и незнакома с ним?
– Нет, нет, совсем незнакома, – подтвердил Большой Луи, – и он не поверенный в делах, а чиновник по составлению поземельного кадастра [28]28
Кадастр – систематизированный свод сведений о чем-либо, составляемый периодически или путем непрерывных наблюдений. Различают кадастр налоговый, водный, поземельный и др.
[Закрыть]для нового обложения налогом. Ну-с, землемер, садитесь за стол да поешьте горяченького.
– Скажите-ка, сударь, – обратилась к гостю мельничиха, когда на стол подали первое блюдо – суп из репы. – Это вы оставили свое имя у нас на одном из деревьев возле реки?
– Да, я, – ответил Анри. – Прошу извинить меня за глупое мальчишество. Может быть, даже я погубил эту молодую вербу?
– То бишь серебристый тополь, не в обиду вам будь сказано, – вмешался мельник. – Вы настоящий парижанин и, конечно, не умеете отличить коноплю от картошки. Но Это не суть важно. А деревьям нашим ваш ножик нипочем, и матушка спрашивает вас просто так, для разговору.
– Право, я не поставила бы вам в укор какое-то одно деревце. У нас их тут еще останется, – сказала мельничиха. – Но дело в том, что недавно посетившая нас молодая госпожа прямо извелась, пытаясь узнать, кто же написал Это имя. А ее сыночек сам прочитал его, только подумайте, сударь, четырехлетний малыш, а видит в буквочках то, чего я за всю мою жизнь не научилась видеть!
– Так она была здесь? – растерянно спросил Лемор, который в этот момент несколько утратил ясность рассудка.
– А вам-то что до этого? Ведь вы с ней незнакомы, – сказал в ответ Большой Луи, энергично подталкивая Лемора коленом, чтобы тот не забывал притворяться – перед присутствовавшим тут же подручным с мельницы в особенности.
Лемор поблагодарил Большого Луи взглядом, хотя мельник остерег его далеко не деликатным образом, и, боясь уже сказать что-нибудь лишнее, не разжимал больше рта иначе, как для поглощения пищи.
Когда все разошлись «прикорнуть», как выразилась мельничиха, Лемор, которому отвели место в маленькой комнате на первом этаже, где ночевал сам мельник, как раз напротив ворот, попросил Большого Луи не запирать еще дверь и позволить ему четверть часа побродить по берегу Вовры.
– А я тоже пойду с вами, – заявил Большой Луи, весьма заинтересованный любовной историей своего нового друга, очень похожей на его собственную. – Я знаю, куда вы отправитесь помечтать, а мне не так спешно отправляться на боковую, и я вполне могу прогуляться с вами при луне: вон она уже встает, собирается полюбоваться своим отражением в воде. Пойдемте, дражайший мой парижанин, посмотрим, какой белянкой-гордячкой выглядит она в водах Вовры, и вы скажете мне, есть ли в Париже такая красивая луна и такая красивая речка! Стойте! – воскликнул он, когда они оба подошли к дереву, на котором была вырезана надпись. – Вот тут она стояла, опершись на загородку, и читала ваше имя, и глаза у нее при этом раскрылись так широко, как мне – хоть умри – и нарочно не сделать. Да, кстати, выходит – вы знали, что она приедет сюда, раз вы оставили для нее свою подпись?
– Удивительнее всего, что я этого не знал и лишь по чистой случайности, из какого-то ребячества, решил оставить таким образом память о своем пребывании в этих прекрасных местах, не предполагая, что мне когда-нибудь доведется в них вернуться. В Париже я слышал, что она разорена. Как я хотел, чтобы это была правда! Я приехал сюда, чтобы определить, какой линии мне держаться, и когда узнал, что она все еще слишком богата для меня, твердо решил распрощаться с ней навсегда.
– Вот видите! Не иначе как сам господь бог заботится о влюбленных: коли бы не он, вы бы точно никогда сюда не воротились. Именно так! Ведь я по одному лишь виду госпожи Марсели, когда она меня расспрашивала о молодом человеке, написавшем это имя, сразу догадался, что она любит кого-то и что ее любимого звать Анри. Тут меня как молнией озарило, и я догадался обо всем остальном, потому как мне ничего ведь не говорили – я сам обо всем догадался; мой грех, винюсь, но и не похвалиться не могу.
– Как? Вам ничего не открывали, а я признался во всем! Да свершится воля божья! Я распознаю за всем этим руку всевышнего и более не боюсь отдаться чувству безусловного доверия, которое вы внушаете мне.
– Я хотел бы ответить вам тем же, – отозвался, беря Анри за руку, Большой Луи, – потому как нравитесь вы мне, парень, дьявол меня заешь, коли это не так! А все-таки что-то меня еще царапает и царапает.
– Да как можете вы все еще подозревать меня в дурном, раз я вернулся с вами в Черную Долину только для того, чтобы подышать воздухом, которым дышала она, теперь, когда мне известно, что она обеднела?.
– А не могло быть так, что утром, пока я разыскивал вас по всему городу, вы бегали по адвокатам и нотариусам? И что, если вы узнали, что она еще достаточно богата?
– Что вы говорите, неужели это правда? – горестно вскричал Лемор. – Не играйте так со мной, дружище! Вы возводите на меня такие смешные обвинения, что я и не подумаю оправдываться. Но по поводу одного из них я хочу сказать вам несколько слов. Если госпожа де Бланшемон еще богата, то захоти она даже ответить на любовь пролетария, каким являюсь я, я должен буду расстаться с нею навсегда! О, если это действительно так, если мне суждено узнать… ведь я, бога ради, еще не узнал? Дайте мне помечтать о счастье до завтра, а утром я покину этот край… на год… или навсегда…
– Ну, вы, видать, маленько тронутый, приятель! – воскликнул мельник. – И более того: вы кажетесь мне сейчас настолько неестественным, что я подумываю, не напускаете ли вы на себя все это нарочно, чтобы меня провести.
– Значит, вы непохожи на меня, мельник? Вы не питаете ненависти к богатству?
– Нет, клянусь богом! Ни ненависти, ни любви к богатству самому по себе я не питаю, а смотрю, зло оно мне приносит или добро. Например, экю папаши Бриколена я ненавижу, потому как они мне мешают жениться на его дочери… Ах, черт! Я проговорился, называю имена, которых лучше бы вам не знать… Но, в конце концов, раз мне известны ваши дела, то и вам могут быть известны мои… Так вот, я говорю, что эти экю я ненавижу; но упади с неба мне в руки тридцать-сорок тысяч франков, которые позволили бы мне посвататься к Розе, они пришлись бы мне здорово по вкусу.
– Я не разделяю вашего мнения. Будь у меня даже миллион, я не стал бы за него держаться.
– Вы предпочли бы бросить его в речку, вместо того чтобы купить себе титул, который сделал бы вас ей ровней? Ну и чудак же вы!
– Вероятно, я роздал бы его беднякам, подобно ранним христианам-коммунистам, чтобы от него избавиться, хотя я хорошо знаю, что не совершил бы этим истинно доброго дела. Ведь, отказываясь от имущества, эти первые поборники равенства закладывали основы определенного общественного уклада, давали обездоленным опору в жизни, устанавливая законы, которые одновременно были и религией.
Раздаваемые деньги были насущным хлебом для души – не только для тела. Раздел имущества был доктриной, которая завоевывала приверженцев. Ныне ничего подобного нет. Есть идея священного, угодного богу сообщества, но еще никто не знает его законов. Нельзя просто возродить мирок ранних христиан, чувствуется, что необходима доктрина; ее нет, а кроме того, люди не готовы воспринять ее. Деньги, розданные горсточке несчастных, породят в них только себялюбие и лень, если не постараться растолковать им, что ассоциация – это их человеческий долг. Таким образом, с одной стороны, повторяю вам, посвящение в этот новый орден не сопровождается достаточно ясным изложением его целей, а с другой стороны, посвящаемые не выказывают достаточно доверия, сочувствия и преданности идее. Вот почему, когда Марсель… (я тоже осмеливаюсь назвать ее, раз вы называли имя Розы) предложила по примеру апостолов раздать беднякам свое богатство, внушавшее мне ужас, я испугался такой жертвы, чувствуя, что не обладаю ни научным знанием, ни гениальной интуицией для того, чтобы подсказать ей способ, каким можно было бы обратить эти деньги на благо человеческого прогресса. Как, владея богатством, сделать его полезным для людей? Для Этого мало быть добросердечным человеком; надо быть человеком гениальным. Я не таков, и, думая о глубоких пороках, о чудовищном себялюбии богачей, испытываю непреодолимый страх. Я благодарю бога за то, что он сделал меня бедняком, хотя я мог быть богатым наследником, и я клянусь, что никогда не буду иметь ничего сверх своего недельного заработка.
– Так, значит, вы благодарите бога за то, что он, по доброте своей, хотел умудрить вас, и, выходит, что не поступаете дурно лишь потому, что вас уберег от этого счастливый случай? Этакая добродетель дается очень легко, и она меня не так изумляет, как вы, наверно, полагаете. Я понимаю теперь, отчего госпожа Марсель так радовалась вчера тому, что разорилась: вы заморочили ей голову своими прекраснодушными бреднями! Слова красивые, но на значат ровным счетом ничего. Ну что это, в самом деле, за рассуждение: «Если бы я был богатым, я был бы злым, а потому пляшу от радости, что не богат»? Это похоже на мою бабушку, которая говаривала: «Угря я не люблю, и премного сим довольна, потому как ежели бы я его любила, то стала бы его есть». А почему бы вам не быть одновременно богатым и щедрым? Если бы даже принесенное вами добро состояло лишь в том, что вы накормили бы окружающих вас голодных людей, уже одно это было бы немало, и лучше бы богатство было в ваших руках, чем в руках скупердяев… О, я вижу, что вы за птица! Мне все теперь ясно; я не так глуп, как вы думаете: я почитываю газеты да книжонки и знаю, что происходит в городах, а не только в нашей деревенской глуши, в которой, верней всего будет сказать, ничего нового не происходит. Вы, как я понимаю, один из тех, кто изобретает новые системы, экономист, ученый!
– Нет. В том-то, может быть, моя беда, что я слаб в счетной науке и ничего не смыслю в нынешней политической экономии. Это порочный круг, и вращаться в нем – удовольствие не по мне.
– Вы не дали себе труда изучить ту самую науку, без которой, по вашим словам, нельзя предпринять ничего нового? В таком случае вы ленивец.
– Нет, я мечтатель.
– Понимаю. Вы то, что называется – поэт.
– Я в жизни не писал стихов, а теперь я рабочий. Не принимайте меня слишком всерьез. Я ребенок, влюбленный ребенок. Вся моя заслуга в том, что я сумел выучиться ремеслу и собираюсь заняться им.
– Отлично! Зарабатывайте себе на жизнь трудом, как это делаю я сам, и я не буду приставать к вам с вопросами, как устроен да куда идет мир, потому как вы все равно ничего сделать не можете.
– Что за логика, дружище! Если бы, к примеру, тут, посредине реки, на ваших глазах опрокинулась лодка, в которой плыла бы семья с детьми, а вы, допустим, были бы привязаны к этому дереву и не могли оказать им помощь, то что же – вы бы смотрели равнодушно, как они погибают?
– Нет, сударь, я бы переломил дерево, будь оно даже в десять раз толще. Мое желание помочь им было бы таким сильным, что бог совершил бы для меня это небольшое чудо.
– Однако семья человеческая гибнет, – горестно вскричал Лемор, – а бог не совершает больше чудес!
– Понятное дело: ведь никто больше не верит в него по-настоящему! А я верю, и вот что скажу, поскольку теперь уже мы можем ничего не скрывать друг от друга: в глубине души я никогда не терял надежды жениться на Розе Бриколен. Правда, добиться того, чтобы папаша Бриколен взял в зятья человека неимущего, это будет впрямь чудо из чудес: легче голыми руками, без топора, переломить воя Это толстенное дерево. Так вот же: чудо это свершится, не Знаю как, но пятьдесят тысяч франков у меня будут. То ли я найду их в земле, сажая капусту, то ли выловлю из речки неводом, а может быть, мне придет в голову какая-нибудь идея… та или иная – все равно. Что-нибудь я придумаю, потому как достаточно, говорят, идеи, чтобы перевернуть мир.
– Вы придумаете способ ввести равенство в обществе, которое существует только благодаря неравенству? – с грустной улыбкой спросил Лемор.
– А почему бы и нет, сударь? – с веселым задором отозвался мельник. – Когда я сколочу себе состояние, то, поскольку я не хочу быть скупым и злым и уверен, что никогда таким не буду, равно как моя бабка до самой смерти не полюбила угря, которого терпеть не могла, придется мне сразу стать более серьезным ученым, чем вы, и дойти своим умом до того, чего вы не нашли в ваших книгах, то есть открыть способ, как использовать свое могущество, чтобы устанавливать справедливость, и как с помощью своего богатства делать людей счастливыми. Вас это удивляет? А ведь я, мой дорогой парижанин, было бы вам известно, смыслю в политической экономии куда меньше, чем вы, проще говоря – не смыслю ни аза! Но какое это имеет значение, если у меня есть воля и вера? Почитайте-ка Евангелие, сударь. Мне сдается, что вы, мастер красно говорить, Запамятовали, кто такие были первые апостолы; а были они люди простые, ничего не знали, как я. Господь бог вдохновил их, и они стали знать больше, чем все школьные учителя и все кюре их времени.
– О народ! Ты обладаешь провидческим даром! В самом деле, для тебя господь совершит чудеса, и на тебя снизойдет дух святой! Тебе неведомо уныние, ты не подвержен никаким сомнениям! Ты знаешь, что сердце могущественнее науки, ты чувствуешь свою силу, силу своей любви и полагаешься на вдохновение! Вот почему я сжег свои книги, вот почему я захотел вернуться в народ, от которого меня оторвали мои родители. Вот почему меня влекут к себе бедняки и чистые сердцем простолюдины: у них я хочу почерпнуть веру и истовость в следовании божеским заветам, утраченные мною в то время, когда я рос среди богачей.
– Понимаю! – сказал мельник. – Вы больной, жаждущий исцеления.
– Ах, я бы исцелился, если бы жил подле вас.
– Я бы охотно способствовал вашему исцелению, если бы вы обещали мне не заражать меня своей болезнью. Для начала скажите одну разумную вещь – обещайте, что женитесь на госпоже Марсели, каково бы ни было ее материальное положение, если она согласится выйти за вас.
– Вы снова пробуждаете во мне тревогу. Раньше вы сказали, что у нее нет больше ничего; потом заговорили как-то по-другому и вроде бы дали мне понять, что она еще богата.
– Ну что ж, пора вам узнать правду: это было испытание для вас. Триста тысяч франков еще существуют, и папаша Бриколен напрасно старается: я подам ей такой совет, что она их сохранит. С тремястами тысячами франков вы, приятель, вполне можете творить добро, раз я с пятьюдесятью тысячами, которых у меня еще нет, собираюсь спасти мир.
– Я восхищаюсь вашим веселым нравом и завидую вам, – сказал Лемор с подавленным видом. – Но вы снова убили меня. Я обожаю эту женщину, этого ангела, но я не могу стать супругом женщины богатой. В обществе существуют предрассудки относительно чести; помимо своей воли я завишу от них и не могу их отвергнуть. Я не мог бы считать своим это состояние, которое она должна и хочет, конечно, сохранить для сына. Я не мог бы и помыслить о том, чтобы употребить свое богатство на пользу людям, ибо уже одним этим нарушил бы нравственный закон. Кроме того, меня не оставляла бы в покое совесть, что я обрек на бедность бесконечно дорогую мне женщину и ребенка, чьей независимостью в будущем я не вправе пренебречь. Я страдал бы оттого, что подвергаю их лишениям, и беспрестанно дрожал бы за них, опасаясь, что они не выдержат тягот такой жизни и сломятся под их бременем. Увы! И это дитя и эта женщина – не нашей с вами породы, Большой Луи! Разжалованные из господ, они все же потребовали бы от своих бывших рабов такого же ухода и таких же удобств, к каким привыкли прежде. Они тосковали бы и чахли под нашими соломенными кровлями. Любой труд оказался бы непосильным для их слишком неясных рук, и всей нашей любви, возможно, Ее хватило бы, чтобы поддержать их до конца той борьбы, которая становится уже непосильной для нас самих…
– У вас снова начинается приступ вашей болезни, снова вас покидает вера! – прервал Лемора Большой Луи. – Вы не верите даже в любовь, не видите, что эта женщина все снесла бы ради вас и чувствовала бы себя при этом счастливой? Вы недостойны такой большой любви, право, недостойны!
– Ах, друг мой, пусть только она обеднеет, совсем обеднеет, но чтобы мне не пришлось упрекать себя в том, что я способствовал такому повороту, и вы увидите, смогу ли я быть ей надежной опорой.








