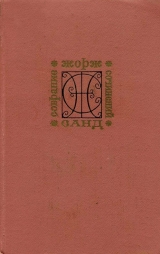
Текст книги "Мельник из Анжибо"
Автор книги: Жорж Санд
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 24 страниц)
Жорж Санд
Мельник из Анжибо
Соланж *** [1]1
Роман посвящен дочери Жорж Санд, Соланж Дюдеван. Жорж Санд верила, что только следующему поколению суждено обрести истину. «Пусть придет царство истины. Я верю в нее, хотя хорошо знаю, что ее царство будет не для того поколения, в котором живу я», – пишет она Сент-Беву в письме от 7 июля 1845 г.
[Закрыть]Дитя мое, поищем вместе.
День первый
I. Введение
На башне церкви святого Фомы Аквинского пробило час ночи, когда маленькая черная фигурка быстро проскользнула вдоль высокой стены, осененной деревьями пышного сада – одного из тех садов, что сохранились еще на левом берегу Сены и стоят ныне немалых денег ввиду своего расположения в центре столицы. Ночь была теплой и ясной. От цветущих дурманов исходил пряный аромат, и под блестящим глазом полной луны они казались большими белыми призраками. Широкое крыльцо особняка де Бланшемон отличалось старинным великолепием, а обширный, хорошо ухоженный сад придавал еще более богатый вид этому погруженному в безмолвие дому, ни одно из окон которого не было сейчас освещено.
Яркое сияние луны несколько тревожило молодую женщину в трауре, которая пробиралась но самой темной из аллей к невысокой двери в конце стены. Но тем не менее она уверенно продолжала свой путь, ибо не в первый раз уже подобным образом рисковала своей репутацией ради чистой, безгрешной любви, на которую отныне приобрела неоспоримое право: месяц тому назад она овдовела.
Воспользовавшись прикрытием, которое создавал густой ряд акаций, она бесшумно добралась до двери в стене, выходившей на узкую, безлюдную улочку. Почти тотчас дверь отворилась, и неслышными шагами в сад вступил тот, кому было назначено здесь свидание; затем он молча проследовал за своей возлюбленной к маленькой оранжерее, где они оба и укрылись, запершись изнутри. Но баронесса де Бланшемон, движимая безотчетной стыдливостью, извлекла из кармана изящную коробочку, обтянутую кожей русской выделки, выбила искру и зажгла стоявшую в углу свечу, по-видимому, нарочно припасенную заранее, а исполненный робости и почтения молодой человек простодушно помог ей осветить помещение. Для него было таким счастьем видеть ее!
Окна теплицы были закрыты глухими деревянными ставнями. Принесенная из сада скамейка, несколько пустых ящиков да садовые орудия составляли всю меблировку, а свечка, воткнутая вместо канделябра в полуразбитый цветочный горшок, была единственным источником света в этом ныне заброшенном, а в былые времена уютном уголке, некогда служившем тайным убежищем для любовных утех какой-нибудь маркизы.
Наследница этих маркиз, белокурая Марсель, была одета строго и просто, как и подобает добродетельной вдове. Украшали ее лишь прекрасные волосы, ниспадавшие золотистой волной на черную креповую косынку. Только маленькие алебастровой белизны ручки да ножки в атласных башмачках выдавали принадлежность их обладательницы к аристократическому сословию; по всем же остальным чертам ее облика ее можно было бы принять за ровню молодому человеку, стоявшему перед нею на коленях, – за парижскую гризетку, ибо есть гризетки, несущие на челе печать королевского достоинства и поистине святого простосердечия.
У Анри Лемора было приятное лицо, скорее умное и одухотворенное, нежели красивое. Смуглое от природы, а сейчас к тому же очень бледное, оно казалось несколько угрюмым, и впечатление это еще усиливалось благодаря обрамляющим его густым темным волосам. Сразу можно было сказать, что этот молодой человек – истинный сын Парижа, не отличающийся крепкой конституцией, но сильный духом. Его платье, скромное и опрятное, свидетельствовало о незаметном общественном положении; довольно плохо повязанный галстук говорил либо о полном отсутствии франтовства, либо о постоянной озабоченности чем-то иным, более насущным; а уже одни коричневые перчатки позволяли с несомненностью заключить, что человек этот, как сказали бы лакеи из особняка де Бланшемон, не годится ни в мужья, ни в любовники для «госпожи». Молодые люди, но возрасту почти одногодки, знавали и раньше счастливые минуты встреч в этом павильоне в таинственные ночные часы; но на этот раз они не видались уже целый месяц: тяжкие переживания омрачили их любовь. Анри Лемор весь дрожал и словно утратил дар речи; Марсель де Бланшемон, казалось, совсем оцепенела от страха. Анри опустился перед Марсель на колени, но-видимому, желая поблагодарить ее за предоставленное ему последнее свидание, но, не произнеся ни слова, быстро поднялся; в его поведении ощущалась какая-то скованность, едва ли не холодность.
– Наконец-то! – с усилием вымолвила она, протягивая ему руку, которую он тут же каким-то судорожным движением поднес к губам; черты его при этом, однако, и на мгновение не озарились радостью.
«Он меня не любит больше», – подумала она, закрывая лицо обеими руками, и, охваченная безумным страхом, продолжала стоять в безмолвном оцепенении.
– Наконец? – отозвался Лемор. – Вы, наверно, хотели сказать уже?Я должен был заставить себя ждать еще дольше, но не смог… Простите меня!
– Я не понимаю вас! – воскликнула молодая вдова, бессильно роняя руки.
Лемор увидел, что в глазах у нее блеснули слезы, и, ложно истолковав причину ее волнения, продолжал:
– О да, я виноват перед вами! Видя, как вы страдаете, я понимаю, какие угрызения совести испытываете вы из-за меня. Прошедшие четыре недели показались мне столь долгими, что у меня не хватило мужества сказать себе: погоди, еще слишком рано! И потому сегодня утром, едва лишь написав вам письмо с просьбой разрешить мне увидеть вас, я сразу же раскаялся в этом поступке. Я устыдился собственного малодушия и принялся корить себя за то, что понуждаю вас заглушать в своей душе голос долга; когда же я получил ваш ответ, такой достойный и добросердечный, мне стало ясно, что лишь из жалости вы приглашаете меня к себе.
– О Анри, как больно мне слышать от вас такие слова! Что это – игра или предлог, чтобы уйти? Зачем было просить меня о свидании, если вам оно не приносит счастья и если в вас так мало доверия ко мне?
Молодого человека вновь пронизала дрожь, и, упав на колени, он воскликнул:
– Лучше бы мне встретить высокомерие и упреки; ваша доброта убивает меня!
– Анри, Анри, – вскричала Марсель, – значит, вы в чем-то виноваты передо мной! О, у вас вид преступника! Вы меня забыли или отреклись от меня – не иначе!
– Ни то, ни другое невозможно, – возразил молодой человек, – на мое несчастье мне суждено до гроба почитать вас, поклоняться вам, верить в вас, как в бога, и не любить на всей земле никого, кроме вас одной!
– Что ж! – откликнулась Марсель, охватив обеими руками темноволосую голову бедного Анри. – Не такая уж беда, что вы любите меня так сильно, – ведь и я люблю вас не меньше. Послушайте, Анри, теперь я свободна, и мне не в чем себя упрекнуть. Я отнюдь не желала смерти своему мужу, я была настолько далека от таких мыслей, что никогда не позволила себе задуматься над тем, как распорядилась бы я своей свободой, если бы она вдруг была мне возвращена. Вы же знаете, хотя мы никогда об этом не говорили, – вы не могли не знать, что я горячо люблю вас, однако сейчас впервые я так смело высказываю вам это! Ах, но как же вы бледны, мой друг! Руки совсем ледяные, и такой страдальческий вид! Вы пугаете меня!
– Нет, нет, говорите, говорите еще, – молвил Лемор, подавленный нахлынувшими на него чувствами – сладостными и мучительными одновременно.
– Так вот, – продолжала госпожа де Бланшемон, – моя совесть не может испытывать те сомнения и тревоги, от которых вы хотели бы уберечь меня. Когда мне принесли окровавленное тело моего мужа, убитого на дуэли из-за другой женщины, я, признаться, испытала потрясение и испуг. Сообщая вам об этом ужасном событии и прося вас некоторое время не появляться, я полагала, что исполняю этим свой долг. О, если преступлением было считать, что время это тянется бесконечно долго, то я за него достаточно наказана вашим беспрекословным послушанием! Но за минувший месяц, который я прожила уединенно, посвятив себя исключительно воспитанию сына и утешению родителей господина де Бланшемона, я хорошо разобралась в своем сердце и более не считаю себя столь уж виновной. Я не могла любить этого человека, никогда не любившего меня, и все, что я могла делать, – это оберегать его честь.
Ныне, Анри, у меня нет перед его памятью иного долга, кроме обязанности выказывать внешние знаки уважения, дабы соблюдены были приличия. Я буду с вами видеться втайне и редко – ничего не поделаешь! – до окончания моего траура; а через год или, если не выйдет иначе, то через два…
– Что, что будет через два года, Марсель?
– Вы спрашиваете, кем будем мы друг для друга, Анри? Я же говорю, вы меня не любите больше!
На этот упрек Анри даже не обратил внимания. Он так мало заслужил его! С жадностью внимая словам своей возлюбленной, он взмолился к ней, прося ее вести дальше свою речь.
– Да, так вот, – снова заговорила она, покраснев, как целомудренная девушка, – разве вы не хотите жениться на мне, Анри?
Анри упал головой на колени Марсель и несколько минут оставался недвижим, словно подломившись под бременем нахлынувших на него чувств радости и признательности; но затем он резко поднялся, и в чертах его отразилось безысходное отчаяние.
– Разве печальный опыт вашего брака не был для вас достаточным уроком? – сказал он почти жестко. – Вы хотите снова подпасть под это иго?
– Мне становится страшно от ваших слов, – испуганно помолчав, вымолвила госпожа де Бланшемон. – Вы ощущаете в себе задатки деспота или сами опасаетесь ига вечной верности?
– Нет, нет, дело совсем не в том, – сокрушенно отвечал Лемор, – вам известно, чего я опасаюсь, чему я никак не могу подвергнуть вас и подвергнуться сам; но вы не хотите, не можете понять меня. Мы ведь уже столько говорили об этом, когда нам и в голову не приходило, что подобные споры в некий день приобретут для нас уже не общее, а совершенно личное значение и то, что мы обсуждаем, станет для меня вопросом жизни и смерти.
– Неужели, Анри, вы до такой степени привержены к вашим утопическим фантазиям? Как? Даже любовь не в силах взять над ними верх? Ах, как плохо умеете вы любить, вы, мужчины! – добавила она с глубоким вздохом. – Не норок, так добродетель иссушает вам душу, и, как ни кинь, оказывается, что под влиянием низменных ли, возвышенных ли побуждений вы любите только самих себя.
– Послушайте, Марсель, если бы месяц тому назад я потребовал, чтобы вы пренебрегли своими правилами, если бы моя любовь стала умолять вас о том, что в вашем представлении несовместимо с религией и нравственностью и что вы поэтому почли бы проступком чудовищным, непоправимым…
– Вы от меня не требовали этого, – произнесла Марсель, покраснев.
– Я так безмерно любил вас, что не мог потребовать, чтобы вы страдали и лили слезы из-за меня. Но если бы я поступил именно так, что тогда? Отвечайте, Марсель!
– Вопрос ваш нескромен и неуместен, – избегая прямого ответа, сказала она с милой игривостью, давшейся ей сейчас не без труда.
Ее грация и красота заставили Лемора затрепетать, и он страстно прижал Марсель к своему сердцу. Но, стряхнув с себя мгновенное опьянение, он отступил назад и, возбужденно шагая позади скамейки, на которой она сидела, заговорил снова изменившимся вдруг голосом:
– А если бы сейчас я потребовал от вас этой жертвы, которая, ввиду смерти вашего мужа, была бы, конечно, уж не такой страшной… не такой ужасной…
Госпожа де Бланшемон опять побледнела, лицо ее стало серьезным.
– Анри, – ответила она, – я бы почувствовала большую обиду, была бы оскорблена до глубины души, приди вам в голову такая мысль сейчас, когда я предложила вам свою руку, которую вы, кажется, отказываетесь принять.
– Я глубоко несчастен оттого, что не могу изъясниться так, чтобы вы меня верно поняли, и выгляжу каким-то ничтожеством, когда сам ощущаю в себе способность пожертвовать всем ради любви, – с горечью сказал он. – Эти слова, наверно, кажутся вам чересчур громкими и вот-вот вызовут у вас жалостливую улыбку. Но в них чистая правда; одному господу ведомы мои страдания… Они ужасны, я не знаю, хватит ли у меня сил терпеть их и дальше…
И он разрыдался.
Горе молодого человека было таким глубоким и искренним, что госпожа де Бланшемон испугалась не на шутку. Безудержные слезы Анри красноречивей всяких слов выражали решительный отказ от счастья, прощание навсегда с иллюзиями молодости и любви.
– Мой дорогой Анри! – вскричала Марсель. – Почему вы хотите доставить горе и себе и мне? Почему вы в таком отчаянии, когда вам принадлежит право распоряжаться моей жизнью, когда ничто не мешает нам больше принадлежать друг другу перед богом и людьми? Не сын ли мой стоит между нами? Ужели вы сами не уверены в своем душевном благородстве и сомневаетесь, что сможете распространить на него чувство, которое питаете ко мне? Вы боитесь когда-нибудь упрекнуть себя в том, что из-за вас рожденное мною на свет дитя оказалось несчастным и заброшенным?
– Ваш сын, ваш сын! – заговорил Анри сквозь рыдания. – Не того боюсь я, что он был бы мне немил. Куда страшнее то, что он был бы мне слишком дорог, и я не смог бы безучастно смотреть, как в суете мирской он вступает на стезю, противоположную моей. Почтенный обычай и общественное мнение потребовали бы, чтобы я отдал его свету, а я хотел бы вырвать его из этой среды даже ценой того, чтобы он стал несчастным, обездоленным бедняком, как я сам. Нет, я не мог бы быть по отношению к нему настолько равнодушным и черствым, чтобы согласиться сделать из него человека, во всем подобного людям его класса… Нет, нет!.. И это, и еще другое, и вообще все, при том различии, что существует между вашим и моим положением в обществе, является препятствием неодолимым. С какой стороны ни рассматриваю я такое будущее, я вижу в нем только бесконечную борьбу, несчастье для вас, проклятие себе!.. Это невозможно, Марсель, никогда не будет возможным! Я слишком сильно люблю вас, чтобы принять от вас жертву, которую вы хотите принести, не оценивая ее величины и не предвидя ее последствий. Нет, вы плохо знаете меня, Марсель. Я кажусь вам витающим в облаках, слабохарактерным мечтателем. Да, я мечтатель, но я упрям, и меня не свернуть с моего пути. Вы, возможно, не раз мысленно обвиняли меня в нарочитости моего поведения; вы полагали, что стоит вам сказать слово, и я сразу же обращусь на путь, который вы считаете истинным и разумным. О, я несчастнее, чем вы думаете, и люблю вас больше, чем вы можете сейчас себе представить. Потом… когда-нибудь потом вы будете в глубине души признательны мне За то, что я сумел быть несчастным один, без вас.
– Потом? Но почему же? Когда? Что вы имеете в виду?
– Потом, говорю я вам, потом, когда вы стряхнете с себя то наваждение, которому поддались мы оба, когда вы вернетесь в свет и вновь полной грудью вдохнете его легкий, сладостный дурман, когда, наконец, вы перестанете быть ангелом и спуститесь на землю.
– Да, да, когда меня иссушит себялюбие и вконец испортит лесть! Вот что вы имеете в виду, вот какое вы мне предвещаете будущее! В своей безумной гордыне вы считаете меня неспособной подняться до ваших идей и понять вашу душу. Скажем прямо: я, по вашему мнению, недостойна вас, Анри!
– Это ужасно – то, что вы говорите, Марсель, такая борьба между нами долее нестерпима. Позвольте мне удалиться прочь от ваших глаз, ибо сейчас мы не можем понять друг друга.
– Итак, вы покидаете меня, Анри?
– Нет, я не покидаю вас, я ухожу, для того чтобы вдали от вас созерцать ваш образ, который я уношу в своем сердце, и втайне поклоняться вам. Я буду страдать вечно, но буду питать надежду, что вы меня забудете, и, горько сожалея о том, что жаждал и добивался вашей любви, буду черпать утешение по крайней мере в том, что не совершил низости – не воспользовался вашим чувством ко мне вам во зло.
Желая удержать Анри, госпожа де Бланшемон поднялась было с места, по силы оставили ее, и она снова рухнула на скамью.
– Зачем же вы хотели встретиться со мной? – спросила она холодным и оскорбленным тоном, видя, что он совсем уже готов удалиться.
– Да, да, вы вправе упрекать меня, – отвечал он. – Напоследок я снова смалодушничал; я чувствовал, что поступаю дурно, но не мог противиться желанию увидеть ту, кого люблю, еще один раз… Я надеялся, что за это время чувства переменились в вас; молчание ваше дало мне повод поверить, что так оно и произошло; горе растравляло мне душу, и я подумал, что, быть может, ваша холодность исцелит меня. Зачем я пришел? Зачем вы любите меня? Разве я не самый грубый, не самый неблагодарный, не самый неотесанный, не самый отвратительный из людей? Но пусть лучше именно таким я выгляжу в ваших глазах; по крайней мере вы будете знать, утратив меня, что вам не о чем сожалеть… Так будет лучше, не правда ли, и я хорошо сделал, что пришел?
Анри говорил, словно в беспамятстве; его строгие, приятные черты исказились, голос, обычно глубокий и мягкий, стал хрипловатым и жестким, режущим слух. Марсель видела, что Анри страдает, но и сама страдала так тяжко, что не в силах была ни сделать, ни сказать что-либо, от чего обоим стало бы хоть немного легче. Бледная, сомкнув губы и сцепив пальцы рук, она застыла в одной позе, словно статуя. Дойдя до двери, Анри обернулся и, пораженный видом госпожи де Бланшемон, бросился к ее ногам, обливаясь слезами.
– Прощай, – воскликнул он, – прекраснейшая и чистейшая из женщин, преданнейшая подруга, несравненная моя возлюбленная! Пусть встретится тебе в этом мире сердце, достойное твоего, человек, который будет тебя любить, как я, и не принесет тебе вместо свадебных даров отчаяние и ужас перед жизнью. Будь счастлива и твори добро, не зная борьбы с тяготами, которыми полна жизнь людей, подобных мне. Наконец, если в среде, что окружает тебя, не совсем еще умерли порядочность и человечность, то да будет тебе дано оживить их своим божественным дыханием и снискать спасение для того сословия, того общества, к которому ты принадлежишь и за которое одна лишь ты можешь предстательствовать перед господом.
Произнеся эти слова, Анри Лемор ринулся прочь, уже не помня, что оставляет Марсель в отчаянии. Казалось, Эриннии преследуют его.
Госпожа де Бланшемон некоторое время оставалась неподвижной: она словно окаменела. Когда же она вернулась в дом, то принялась медленно ходить взад и вперед по комнате и, пока не забрезжил рассвет, все шагала, не проронив за долгие часы ни слезинки и ни единым тяжким вздохом не потревожив безмолвие ночи.
Было бы слишком смелым утверждать, что эта двадцатидвухлетняя вдова, красивая, богатая и заметная в свете благодаря своему обаянию, дарованиям и уму, не была уязвлена и даже до известной степени возмущена унизительным для себя отказом незнатного, небогатого и незаметного в обществе человека принять ее руку.
По-видимому, на первых норах она черпала стойкость в своей оскорбленной гордости. Но вскоре присущее ей истинное благородство души навело ее на более серьезные размышления, и она впервые постаралась глубоко вглядеться в собственную жизнь и в жизнь окружающих ее людей. Она припомнила все, что Анри говорил ей прежде, в то время, когда они еще не могли и помышлять о счастливой любви. Ее удивило то, что она не принимала достаточно всерьез идей этого поистине ригористического молодого человека, считая их прекраснодушными фантазиями – не более. Теперь она судила о нем с тем спокойствием, к которому среди сердечных треволнений способны принудить себя люди возвышенного и сильного духа. По мере того как утекал один ночной час за другим, о чем среди тишины огромного спящего города возвещали серебристо-звонким мелодичным боем часы на далеких башнях, чуть запаздывая друг против друга и словно перекликаясь, на Марсель нисходило просветление, которое обычно наступает после долгого ночного бдения, заполненного раздумьями, и приносит облегчение страданий.
Ей, воспитанной в правилах совсем иных, нежели те, коих придерживался Лемор, было, однако, как бы на роду написано ответить взаимностью на любовь этого плебея и найти в ней для себя убежище от бессодержательной жизни аристократического круга. Она была одной из тех нежных и одновременно героических душ, которые испытывают постоянную потребность преданно служить кому-нибудь и счастливы лишь тем счастьем, коим оделяют других. Не зная радости в семейной жизни, томясь в светском обществе, она с безоглядностью юной мечтательницы дала себя увлечь этому чувству, вскоре поглотившему ее целиком. В ранней юности она отличалась пылкой набожностью, а теперь отдала всю душу возлюбленному, который чтил ее строгую добродетель и преклонялся пред ее чистотой.
Само благочестие Марсели окрасило восторженностью ее чувство к Анри, и из благочестия же она, став свободной, сразу пожелала освятить их любовь нерасторжимыми узами брака. Она была готова с радостью пожертвовать материальным благополучием, которое так высоко ценит свет, и пренебречь сословными предрассудками, которые, впрочем, никогда не накладывали печати на ее суждения о людях. Она полагала, бедняжка, что поступить так – значило сделать очень много, и в самом деле это было много, ибо свет осудил бы или осмеял ее. Ей и в голову не могло прийти, что все это будет значить еще очень мало и что гордый плебей отвергнет приносимую ему жертву, сочтя ее едва ли не оскорблением себе.
Испуг, отчаяние, упорство Лемора заставили Марсель увидеть вещи в их истинном свете, и теперь, смятенная, она перебирала в памяти признаки общественного неблагополучия, которые ей доводилось замечать ранее. Для женщины нашего времени нет ничего недоступного в самых высоких сферах мысли. Каждая может ныне, в меру своего ума, не тщеславясь и не выглядя смешной, повседневно изучать во всех формах – будь то газета или роман, философия, политика или поэзия, официальная речь или частная беседа – великую книгу современной жизни, книгу печальную, запутанную, противоречивую и при всем том глубокую и многозначительную. Поэтому Марсель, как и все мы, знала, что отягощенное пережитками и страдающее многими болезнями настоящее с трудом высвобождается из цепких объятий прошлого и неохотно откликается на зов будущего. Она видела, что небо уже прорезают грозные молнии, и предчувствовала, что, раньше или позже, неизбежно грянет великая битва. Натура не из трусливых, она не зажмуривала глаз и смотрела вперед без боязни. Сожаления, жалобы, страхи и обиды старших успели надоесть ей ещё в раннем возрасте и навсегда отвратили ее от всякого страха! Тем, кто молод, не свойственно проклинать пору своего цветения, им дороги эти исполненные прелести годы, какими бы бурями они ни были чреваты. Нежная и храбрая Марсель говорила себе, что с милым не страшны ни гром, ни град: можно укрыться под первым попавшимся деревом и радоваться жизни. «Разорение, ссылка, тюрьма – да какое все это имеет значение? – Так говорила себе Марсель, в то время как все вокруг нее, люди, которых общество привыкло считать баловнями судьбы, пребывали в постоянном страхе. – Любовь сослать нельзя, а я к тому же люблю человека безродного и безвестного, которому ничто не угрожает».
Одно лишь до тех пор не приходило ей в голову: что эта глухая, подспудная борьба, неутихающая, несмотря на репрессии властей [2]2
В 30-е гг. не прекращается борьба против Июльского режима. Происходят восстания республиканцев (июнь 1832 г., апрель 1834 г., май 1839 г.), первые самостоятельные выступления пролетариата (лионские восстания 1831 и 1834 гг., выступление парижских рабочих в марте 1831 г.). Они жестоко подавляются правительством. Получил известность, например, процесс «Монстр» (после лионских событий), где обвиняемых защищал Мишель из Буржа, адвокат и общественный деятель, сыгравший значительную роль в идейных исканиях Жорж Санд. Она познакомилась с ним в 1835 г.
[Закрыть]и видимые разочарования, вторгнется в область ее отношений с тем, кто был ею любим. Эта борьба несходных во всем воззрений и идей зашла ныне уже очень далеко, и Марсель тоже оказалась втянутой в нее; в одно мгновение ей пришлось расстаться с иллюзиями, словно ее внезапно пробудили от глубокого сна. Различные классы, которым присущи прямо противоположные верования и страсти, объявили друг другу войну в сфере интеллекта и нравственности, и Марсель встретила непримиримого врага в лице своего обожателя. Испугавшись вначале сделанного ею открытия, она постепенно свыклась с этой мыслью и, исходя из нее, стала придумывать новые планы, еще более благородные и утопические, нежели те, что она лелеяла весь предыдущий месяц. После долгого хождения по безлюдным, погруженным в безмолвие апартаментам она обрела спокойствие, приходящее обычно вслед за принятием решения, которое, впрочем, в данном случае было таким, что у всякого, кроме самой Марсели, вызвало бы улыбку, выражающую восхищение или жалость.
Все это происходило совсем недавно, возможно, в прошлом году.








