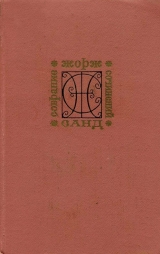
Текст книги "Мельник из Анжибо"
Автор книги: Жорж Санд
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 24 страниц)
День четвертый
XXV. Софи
Мельничиха была погружена в невеселые размышления и по привычке, свойственной многим старым людям, говорила сама с собой в то время, как переходила от шкафа к гладильной доске и обратно, приводя в порядок свой старинный корсаж с длинной баской и ситцевый передник в клетку, который она заботливо берегла с молодых лет, весьма его ценя, потому что он стоил в ту пору вчетверо дороже, чем намного лучшая ткань стоит в наши дни.
– Не огорчайтесь, матушка! – сказал Большой Луи, который, стоя у порога, слушал ее, поначалу ею не замеченный. – Что уж тут! Чему быть, того не миновать! Но сын ваш, будьте уверены, все сделает, чтобы вам счастливо жилось!
– Ах, сынок, я и не видела, как ты вошел! – воскликнула мельничиха, смутясь от того, что сын застал ее, женщину пожилую, с неприбранными, спустившимися на плечи волосами, ибо крестьянки Черной Долины во времена ее молодости почитали весьма неприличным показываться на люди простоволосыми. Но это непроизвольное чувство неловкости, пережиток старинных преувеличенных представлений о благопристойности, тотчас оставило Большую Мари, когда она рассмотрела, как выглядит ее сын, – а он был бледен и одежда его была в беспорядке.
– Силы небесные! – воскликнула она, всплеснув руками. – Что у тебя за вид, сынок? Ты словно всю ночь мокнул под дождем! Так и есть, ты все еще не просох! Быстро пойди переоденься! Что же это, не нашлось дома, где спрятаться от дождя? А как ты осунулся, как побледнел! Ах, сынок, ты как будто нарочно заморить себя хочешь!
– Полно, матушка, не растравляйте себе душу зазря! – отвечал мельник, пытаясь принять свой обычный веселый вид. – Я провел ночь под гостеприимным кровом, у людей, к которым поехал по делу. Они меня накормили хорошим ужином. Дождиком меня помочило только недавно, когда я домой возвращался, потому как я шел пешком.
– Пешком? А куда ты девал Софи?
– Я ее одолжил одному человеку… Там…
– Какому человеку? Где это – там?
– Ну, словом, одолжил… Потом вам все расскажу. Ежели вам охота поехать на празднество, я возьму вороную кобылку, и вы сядете позади.
– Напрасно ты отдал Софи, сынок! Другой такой лошади нету! Ее бы надо поберечь! Лучше уж было бы отдать обеих других лошадей – я так считаю.
– Я тоже. Но что поделаешь? Так уж вышло. Ну, я пойду переоденусь, матушка, а когда вы соберетесь ехать – кликните меня.
– Нет, так не пойдет, сыпок. Я вижу, что ты глаз не сомкнул этой ночью, и хочу, чтобы ты прежде соснул. У нас еще достаточно времени до заутрени. Ах, Большой Луи, у тебя совсем усталый вид! Душу из себя выгоняешь, а что толку?
– Не тревожьтесь, матушка, я чувствую себя здоровым, а такое скоро не повторится. Надо же иногда покуролесить!
И мельник, еще больше приунывший оттого, что он огорчил мать, чье беспокойство и недовольство никогда не выражалось иначе, как в крайне сдержанной и деликатной форме, пошел к себе и в досаде бросился на кровать так резко, что разбудил Лемора.
– Вы уже встаете? – спросил Лемор, протирая глаза.
– Нет, я, с вашего разрешения, ложусь! – ответил мельник, подтыкая тюфяк яростными ударами кулака.
– Вы чем-то очень расстроены, дружище? – спросил Лемор, которого окончательно разбудили эти явные признаки того, что в Большом Луи клокочет гнев.
– Расстроен? Да, сударь, признаюсь, расстроен, – и, может быть, больше, чем стоило бы. Но хоть я и понимаю это, мне все равно не легче! Ничего не могу с собой поделать!
И из покрасневших от усталости глаз мельника покатились крупные слезы.
– Друг мой! – вскричал Лемор, соскочив с постели и быстро одеваясь. – Я вижу, с вами ночью стряслась какая-то беда! О господи! А я-то спокойно спал! Что могу я сделать для вас? Куда надо бежать?
– Ах, не бегите никуда! Бесполезно! – ответил Большой Луи, пожав плечами, словно устыдился собственной слабости. – Я бегал всю ночь как шальной, и все попусту! Прямо дух из меня вон. И добро бы еще было из-за чего! А то ведь ерунда какая! Но смейтесь не смейтесь, а к животным привязываешься, все равно как к людям, и о старой лошади горюешь, как о давнишнем друге. Вам, горожанам, этого не понять, но мы, деревенские, живем бок о бок с нашей скотинкой и сами мало чем отличаемся от нее…
– Словом, я понимаю: вы потеряли Софи.
– Да, потерял… То есть ее украли.
– Не вчера ли в заказнике?
– Именно. Вы помните, у меня было дурное предчувствие! Когда мы с вами расстались, я вернулся на то место, где спрятал ее. Она сама, бедняжка, оттуда, конечно, никогда бы не ушла; ведь она терпелива, как овечка, и за всю свою жизнь ни разу не порвала ни уздечки, ни недоуздка. Так вот, сударь, и лошади и уздечки как не бывало! Я искал, искал, с ног сбился. Тю-тю, поминай как рвали! Да притом еще не очень-то я мог расспрашивать, особенно на ферме. Люди бы стали подозревать неладное. Меня бы самого спросили, как это так вышло, что я уехал верхом и но дороге потерял лошадь? Решили бы, что я был пьян, и госпожа Бриколен не упустила бы случая доложить мадемуазель Розе, что я влип в какую-то дрянную историю. А это, разумеется, не к лицу мужчине, для которого только свету, что в окошке, то есть в ней, в Розе. Сперва я подумал, что кто-то захотел надо мной подшутить: обошел все дома в селе – почти нигде еще не спали; забрел к одному, к другому, к третьему, вроде бы невзначай, сунул нос во все конюшни, умудрился даже незаметно заглянуть в конюшню нового замка… Софи нет как нет! В это время в Бланшемоне бывает полно всякого сброду, и, понятное дело, среди пришлого люда мог найтись какой-нибудь ловкий пройдоха, который пришел пешим ходом, а уехал верхом – весьма довольный: праздник начался для него раньше, чем для других, а дальше ему уже было неинтересно. Ну ладно, нечего больше ломать себе голову! Хорошо еще, что во всей этой заварухе я не вовсе одурел: успел-таки на своих двоих слетать в Лашатр и повидать нотариуса. Правда, было уже поздновато, господин Тайян недавно отужинал и несколько осовел после плотной еды. Но он пообещал мне пораньше приехать на праздник. Уйдя от него, я еще поискал свою пропажу, шарил по кустам, словно ночной охотник, шатался в грозу, под ливнем до самого рассвета, все надеялся, что обнаружу, где прячется мой ворюга… Ничегошеньки! Я не хочу трезвонить об этом происшествии, а то выйдет шум, и, коли начнется дознание, хороши мы с вами будем с такой историей: спрятали лошадь в заказнике, оставили ее одну на целый час, а почему да зачем – объяснить никак невозможно. Я поставил ее подальше от места вашего свидания, для того чтобы она, коли бы вдруг задвигалась или заржала, не привлекла внимания к вам. Бедная Софи! Надо было мне положиться на ее понятливость. Она бы и не пошевелилась.
– Так, значит, эта неприятность приключилась из-за меня! Я еще более расстроен, чем вы, Большой Луи, и, надеюсь, вы позволите мне хоть отчасти, в меру моих возможностей, возместить нанесенный вам ущерб.
– Уши вянут вас слушать, сударь! Будто бы тут дело в грошах, которые можно выручить за старую лошадь на ярмарке! Тьфу на них! Ужели вы думаете, что я стал бы так убиваться из-за какой-то сотни франков! Да ни в жисть! Я говорю о ней самой, а не о деньгах, что она стоит по рыночной цене, потому как в моих глазах ей цены нет. Она была такая выносливая лошадка, такая умница, так хорошо знала меня! Вот право же, она сейчас думает обо мне и даже смотреть не хочет на того, под чью опеку попала! Хоть бы только он на самом деле пекся о ней! Будь я в том уверен, я б уж как-нибудь утешился. Но он же будет лупить ее кнутовищем и кормить шелухой от каштанов! Ведь это, наверное, какой-то проходимец из Марша – чего от такого ждать? Уведет он мою Софи в ихние горы, и пусть себе бедная лошадушка пасется на выгоне, утыканном камнями, – ему и горя мало! Эх, не видать ей больше того славного лужка у реки, где ей так хорошо жилось и где она еще вовсю резвилась вместе с молодыми кобылками: трава-то сочная, зеленая – как не взыграть?..
Да, вот так-то… А уж как матушка будет оплакивать ее! И притом я никогда не смогу объяснить ей, отчего произошло это несчастье. У меня еще не хватило смелости сказать ей, что Софи украли. Не говорите и вы, пока я не сочиню какую-нибудь такую историю, чтобы известие было для нее менее горьким.
В простодушных сетованиях мельника было одновременно что-то смешное и трогательное. Лемор, глубоко опечаленный тем, что явился причиной его горя, впал в величайшее уныние, и теперь уже добряк Луи принялся утешать своего сотоварища.
– Ну, полно, полно! – сказал он. – Можно ли так раскисать из-за четвероногой твари? Я не считаю вас ни в чем виноватым, у меня и в мыслях не было укорять вас. Пусть эта история не портит нам воспоминания о вашем счастье, дружище. Цена не так уж велика за этот прекрасный час, который вам выпал в этот вечер. Довелись мне когда-нибудь иметь такое свидание с Розой, я бы согласился всю жизнь ездить верхом на помеле. Не рассказывайте только ничего госпоже Марсели; с нее станется купить мне лошадь за тысячу франков, а это меня, поверьте, только огорчило бы. Я не хочу больше привязываться к животным! Достаточно в жизни хлопот с людьми. Одним словом, думайте о своей любви да пойдите приоденьтесь, – но на деревенский лад! – и отправляйтесь на праздник, потому как нужно, чтобы наш народ попривык к вашей физиономии. Этак будет лучше, чем прятаться, а то как раз поползут слухи. Вы увидите госпожу Марсель; не вздумайте завести с ней разговор! Да, впрочем, у вас и случая не будет. На танцы она не пойдет, она ведь в трауре. Но Роза-то не в трауре, черт возьми! И я рассчитываю плясать с ней до упаду, до самой ночи, поскольку теперь ее папашенька дал на то свое согласие. Посему я смекаю, что мне надо поспать часок-другой, чтобы вид у меня был не как у покойника. Не печальтесь больше. Через пять минут услышите мой заливистый храп.
Мельник сдержал слово, и когда около десяти часов утра Жанни подвел ему вороную кобылу, значительно более красивую, хотя и куда менее дорогую его сердцу, чем Софи, когда он в своей воскресной куртке тонкого сукна, чисто выбритый, посвежевший и снова весело глядящий вокруг, уверенно сжал своими длинными ногами бока коренастой и сильной лошади, мельничиха, усаживаясь позади него с помощью стула и при поддержке Лемора, ощутила гордость оттого, что ее сын-мукомол такой писаный красавец.
На ферме спали в эту ночь не больше, чем на мельнице, и мы вынуждены вернуться немного назад, дабы осведомить читателя о событиях, происходивших там за эти сутки.
Тогда, в заказнике, Лемор, охваченный тягостным и тревожным чувством, которое оставило в нем странное столкновение с безумной, и одновременно опьяненный радостью от встречи с Марселью, не заметил, что мельник тоже был взволнован, почти как и он сам. У мельника было для того достаточно оснований. Когда по приезде в Бланшемон он отправил Лемора в заказник и пошел на ферму, то, войдя во двор, увидел, что там царит чрезвычайное оживление. Вдоль ряда хлевов и навозных куч стояли две грузные колымаги и три на совесть сработанных кабриолета, уперев в землю выпростанные оглобли. Все бедные соседки, неизменно готовые услужить за небольшую толику денег, были рекрутированы, дабы споспешествовать обитателям фермы в приготовлении ужина для гостей, которые оказались более многочисленны и более голодны, нежели рассчитывали хозяева нового замка. Господина Бриколена сильнее подмывало тщеславное желание выставить напоказ свое богатство, чем тревожили связанные с этим расходы, и он был в наилучшем расположении духа. Его дочери, сыновья, двоюродные братья и сестры, племянники и зятья подходили к нему один за другим и спрашивали по секрету, когда же наконец он будет справлять новоселье в старом замке, восстановленном и заново окрашенном, с его вензелем на воротах вместо герба.
«Ведь ты же станешь хозяином и повелителем Бланшемона, – повторялся один и тот же припев, – и будешь распоряжаться доставшимся тебе наследством всех этих графов и баронов получше, чем они сами, к вящей славе новой аристократии – дворянства кошелька». Бриколен так и сиял от самодовольства, и, отвечая с хитрой улыбкой своим дорогим родственникам: «Еще не сейчас, еще не сейчас! А может быть, и никогда!», он упивался возможностью разыгрывать из себя важного барина. Он уже не думал о расходах, отдавал распоряжения слугам, матери, дочери и жене громовым голосом и раздувался от спеси так, что его брюхо чуть не касалось подбородка.
В доме стоял дым коромыслом; матушка Бриколен ощипывала свежезарезанных цыплят, громоздившихся дюжинами, а госпожа Бриколен командовала в этой кухонной суматохе, причем вначале рвала и метала, но затем, увидев, что наготовлены горы снеди, что комнаты чисто прибраны и что гости млеют от восхищения, тоже повеселела, – на свой лад, конечно. Толчея и беспорядок на ферме позволили Большому Луи без помех поговорить с Марселью, а сама она, сославшись на головную боль, смогла уклониться от присутствия на пиру и отправиться в заказник на свидание с Лемором.
И Роза, пока накрывали на стол, тоже без труда нашла несколько вполне естественных поводов, чтобы пройтись по двору и, как было издавна заведено, бросить на ходу Большому Луи дружеское словечко. Но мамаша Розы, ко терявшая все же дочь из виду, со своей стороны нашла способ без проволочки удалить мельника с фермы. Вынужденная подчиниться мужу, который строго-настрого запретил ей смотреть волком на Большого Лун, она надумала утолить свою злобу и притом устыдить Розу за ее дружбу с мельником, выставив его на посмешище перед другими своими дочерьми и прочими родственницами, которые, все как на подбор, и молодые и старые, были на редкость неприятными, нагло-заносчивыми особами. Она поспешила каждой в отдельности доверительно поведать, что этот деревенский ферт вообразил, будто нравится Розе; что Роза не виновата в том ни сном, ни духом и не обращает на него ни малейшего внимания; что господин Бриколен, не желая верить худому о мельнике, обращается с ним чересчур ласково, но что у нее есть любопытные сведения из надежного источника, не больно-то красящие этого молодца, к которому так и льнут все девицы дурного поведения в окрестных деревнях: оказывается, он – каков гусь! – не раз похвалялся, будто может понравиться любой богачке, за которой вздумает приударить, – ни одна не устоит! К этому сообщению госпожа Бриколен присовокупила имена присутствующих особ и, давясь ехидным, злорадным смехом, прикрывала рот передником и хлопала себя кулаком по ляжке. От женской части семейства доверительное сообщение, переходя из уст в уста и нашептываемое на ухо, быстро дошло до всех бриколеновских родственников мужского пола, так что вскоре на Большого Луи, которому не терпелось выбраться отсюда и пойти за Лемором, посыпались язвительные замечания, настолько нелепые, что он не мог их взять в толк. Уходя, он слышал за своей спиной плохо приглушенные смешки и бесстыдное перешептывание. Не понимая, чем он вызвал такую веселость, Большой Луи покинул ферму раздраженный, встревоженный и полный презрения к грубому зубоскальству всех этих деревенских буржуа, которых вдруг столько навалило в Бланшемон.
По совету госпожи Бриколен, гости постарались скрыть Заговор от ее супруга и условились возобновить травлю Большого Луи завтра в присутствии Розы. «Необходимо, – утверждала ее мать, – унизить перед нею этого мужлана, чтобы она не поддавалась на удочку его хваленой «душевности» и вообще научилась держаться подальше от простонародья».
После ужина пригласили бродячих музыкантов и, предвосхищая завтрашнее празднество, уже сегодня затеяли пляс во дворе фермы. Плясали долго, затем наступила передышка, и как раз в это время Большой Луи, беспокоясь и торопясь в Лашатр, решил, что вечеринка в новом замке пришла к концу, и заставил влюбленных расстаться – намного раньше, чем им хотелось бы.
Когда Марсель вернулась на ферму, веселье уже снова было в полном разгаре, и, ощущая ту же потребность в одиночестве и сосредоточении на своих мыслях, которая увлекла Лемора в блуждания по тропам Черной Долины, она пошла обратно в заказник и бродила там до полуночи. Звуки волынки и рылейки, соединенные вместе, на близком расстоянии несколько режут слух; но, слышимые издали, голоса этих сельских инструментов, наигрывающих порой прелестные напевы, наивная простота которых особенно очевидна в силу крайне неразвитой гармонии, обладают своеобразным очарованием. Они покоряют бесхитростные души и заставляют сильнее биться сердца тех, кто в счастливые дни детства засыпал под их убаюкивающее звучание. Громкое, прерывистое гудение волынки с хрипотцой и гнусавостью, скрежет рылейки с ее нервным staccato [34]34
Отрывисто (музыкальный термин, итал.).
[Закрыть]как бы созданы друг для друга и оказывают взаимное облагораживающее воздействие. Марсель долго и с удовольствием слушала эту музыку; открыв, что по мере удаления простые мелодии звучат все более чарующе, она в конце концов оказалась на другом краю заказника, погруженная в мечтания о пастушеской жизни, которую мы склонны представлять себе как заполненную одной лишь любовью и свободную от всех тягот.
Но вдруг она остановилась, едва не споткнувшись о распростертую на земле безумную, лежавшую недвижимо, словно мертвое тело. После нескольких попыток растормошить ее Марсель, преодолев отвращение, которое внушала ей крайняя неопрятность этого убогого существа, обхватила Бриколину руками, подтащила ее к дереву и прислонила к стволу. Не чувствуя себя в силах волочить ее далее, она уже вознамерилась бежать на ферму За помощью, как вдруг Бриколина зашевелилась и бессильным движением изможденных рук попыталась поднять свисавшие ей на лицо длинные космы, в которых застряли травяные стебли и гравий. Марсель помогла ей убрать с лица эту тяжелую завесу, стеснявшую ее дыхание, и, впервые рискнув к ней обратиться, спросила, не больно ли ей.
– Конечно, больно! – ответила безумная таким пугающе безразличным тоном, каким могла бы сказать: «Я еще жива»; затем добавила отрывисто и резко: – Ты его видела? Он вернулся. Он не хочет говорить со мной. Сказал он тебе почему?
– Он сказал мне, что снова придет, – ответила Марсель, желая ее хоть немного успокоить.
– Нет, он не придет! – вскричала безумная, вскакивая в неистовом порыве. – Он не придет! Он боится меня! Все меня боятся: ведь я очень, очень богата, так богата, что мне нельзя жить. Но я не хочу быть богатой; завтра я обеднею. Пора покончить с этим. Завтра все обеднеют. Ты тоже обеднеешь, Роза, и тебя перестанут бояться. Я накажу злодеев, которые хотят убить меня, посадить под замок, отравить…
– Но есть люди, питающие к вам жалость и желающие вам добра, – сказала Марсель.
– Нет, таких людей нет на свете! – в страшном возбуждении вскричала безумная. – Все люди мне враги! Они меня мучили, они надели мне раскаленный обруч на голову. Они прибивали меня гвоздями к деревьям, тысячи раз сбрасывали меня с верхушки башни на каменные плиты. Они протыкали мне сердце большими стальными булавками, обдирали с меня кожу, для того чтобы я, одеваясь, испытывала отчаянные боли. Они хотели бы выдрать у меня все волосы, потому что знают, что только волосы и защищают меня немного от их ударов… Но я отомщу! Я составила жалобу! Пятьдесят четыре года писала я ее на всех языках, чтобы она дошла до всех государей мира. Я хочу, чтобы мне вернули Поля; они прячут его в погребе и мучают, как меня. Каждую ночь, когда они принимаются пытать его, до меня доносятся крики, и я узнаю его голос… Тише, тише, слышите? Он опять кричит, – добавила она жалобным тоном, прислушиваясь к веселым звукам волынки. – Его терзают, как только могут! Они хотят уничтожить его, но они будут наказаны, наказаны жестоко! Завтра я заставлю их помучиться! И они будут мучиться до тех пор, пока я сама не сжалюсь над ними…
Все это несчастная произнесла единым духом, захлебываясь, как говорят в бреду, а затем ринулась сквозь кусты по направлению к ферме. Она так неслась и совершала такие немыслимые прыжки, что Марсель была не в состоянии угнаться за ней.
XXVI. Беспокойная ночь
Никогда еще на ферме не плясали так упорно и неутомимо. Слуги тоже приняли участие в общем развлечении, и ноги их вздымали густые клубы пыли, что, впрочем, беррийскому крестьянину никогда не мешает самозабвенно плясать, – равно как и камни, палящее солнце, дождь или усталость после жатвы или косьбы. Ни один народ на свете не пляшет так истово и страстно.
Если бегло взглянуть на танец, называемый бурре, в котором группы по четыре пары размеренно и едва ли не лениво движутся взад-вперед, словно часовой маятник, то не поймешь, что за удовольствие находят люди в этом однообразном упражнении, и совсем уж не заподозришь, насколько трудно войти в ритм танца, казалось бы, несложный, и соблюдать полное соответствие ему в каждом на и в каждом повороте тела, притом еще мастерски скрывая напряжение плавностью и видимой непринужденностью движений. Но, понаблюдав некоторое время за танцующими, начинаешь удивляться их необычайной выносливости, оцениваешь мягкую грациозность и простоту танца, которая позволяет им работать ногами без устали. Когда своими глазами увидишь, как люди отплясывают десять – двенадцать часов подряд и не сваливаются при этом замертво, то либо решишь, что они укушены тарантулом [35]35
Французское выражение «быть укушенным тарантулом» обозначает состояние нервного возбуждения.
[Закрыть], либо придешь к заключению, что они одержимы фанатической любовью к танцам. У молодежи внутреннее возбуждение время от времени прерывается громким возгласом, но лица при этом остаются невозмутимо серьезными. Иногда какой-нибудь парень с силой топнет ногой о землю или подпрыгнет, как молодой бычок, но уже в следующее мгновение, ловко и без всякой натуги приобретя прежнее положение, снова приноравливается к общему маятникообразному флегматичному движению. В этом танце выражается весь характер беррийского крестьянина. Что касается женщин, то они должны все время едва скользить но земле, прикасаясь к ней лишь пальцами ног; это требует невообразимой легкости движений; их грациозность в танце сочетается со строгой целомудренностью.
Роза танцевала бурре не хуже любой крестьянской девушки, – а этим уже сказано немало, – и отец с гордостью смотрел на нее. Веселье заразило всех; музыканты, которым то и дело щедро подносили горячительного, не жалели своих рук и легких. В полумгле ясной ночи танцующие женщины и девушки казались еще более невесомыми, а Роза – особенно: эта очаровательная девушка была похожа на белую чайку, парящую над тихими водами; она словно отдалась на волю несущего ее вечернего ветерка; томность, разлитая в ее движениях, придавала ей необыкновенную прелесть.
Вместе с тем Роза, которая в глубине души была настоящей крестьянкой Черной Долины и отличалась природной непосредственностью, перебирала ногами не без удовольствия, хотя пошла плясать лишь с целью поупражняться перед завтрашним днем, дабы оказаться в танцах под стать Большому Луи, ибо ясно было, что он пригласит ее не раз и не два. Но внезапно волынщик покачнулся на бочке, служившей ему подмостками, и в мелодию, которую он исполнял на своем инструменте, ворвалась странная, жалобная нота, отчего все танцоры в изумлении остановились и повернули головы к музыканту. В тот же миг к ногам Розы покатилась рылейка, выбитая из рук второго музыканта, и безумная, прыжком дикой кошки перенесясь от сельского оркестра в гущу танцующих, возопила: «Горе, горе убийцам, горе палачам!» Госпожа Бриколен подбежала к дочери, чтобы сдержать ее, но та бросилась на мать и, вцепившись ей в шею когтями, неминуемо задушила бы ее, если бы матушка Бриколен не повисла на своей несчастной внучке и не оттащила ее прочь. Бабушка была единственным человеком, которому безумная никогда не сопротивлялась: либо она, не узнавая ее, сохранила к ней безотчетную привязанность, либо узнавала ее одну среди всех и не утратила какого-то воспоминания о том, что старушка пыталась заступиться за ее любовь. Она покорно позволила бабке увести себя в дом, испуская, однако, душераздирающие вопли, которые повергли всех присутствующих в оцепенение и ужас.
Когда Марсель, старавшаяся поспеть за Бриколиной, вбежала во двор, она увидела, что празднество расстроено, все стоят перепуганные, а Роза почти без чувств. Госпожа Бриколен, конечно, страдала в глубине души, хотя бы оттого, что ее незаживающая рана вдруг обнажилась перед всеми. Но ее настойчивое стремление подавить буйство сумасшедшей и заставить ее замолчать больше походило на жестокость и непреклонность жандарма, заключающего в тюрьму бунтовщика, нежели на заботу матери, которой придает силы отчаяние. Матушка Бриколен занималась укрощением безумной с таким же рвением, но выказывала при этом больше сострадания. Больно было смотреть, как бедная старуха, наделенная от природы грубым голосом и мужскими ухватками, обнимала безумную, гладила ее и говорила ей ласковые слова, успокаивая ее, как ребенка, которого утешают попеременно сладостями и лестью.
– Ну полно тебе, деточка, – приговаривала она. – Ты же у нас такая разумница, ты же не захочешь огорчать свою бабушку! Ложись спокойненько в постельку, а не то я рассержусь и не буду тебя любить.
Безумная ничего не понимала и даже не слышала того, что ей говорилось. Судорожно ухватившись за ножку кровати, она испускала чудовищные вопли; больному воображению Бриколины, по-видимому, мерещилось, будто ее подвергают тем самым карам и пыткам, фантастическую картину которых она нарисовала Марсели.
Сама же Марсель в это время, убедившись, что Эдуард спокойно спит под присмотром Фаншоны, должна была заняться Розой, которая совершенно потерялась от страха и горя. Из сломленной души Бриколины сегодня впервые излилась наружу накопившаяся в ней за двенадцать лет ненависть. Прежде один раз в неделю – не чаще – она плакала и кричала, когда бабушка заставляла ее переменить одежду. Но то были крики ребенка, а сейчас – вопли фурии. Прежде она ни к кому не обращалась ни с единым словом, а сейчас, впервые за двенадцать лет, стала сыпать угрозами. Прежде она ни на кого не поднимала руку, а сейчас чуть не лишила жизни родную мать. Наконец, в течение двенадцати лет эта бессловесная жертва родительского стяжательства сторонилась людей, неся в себе свое невыразимое страдание, и почти все уже привыкли с черствым безразличием смотреть на плачевное зрелище, которое она собой являла. Ее больше не боялись, устали жалеть, присутствие ее терпели как неизбежное зло, и если испытывали порой угрызения совести, то не признавались в них самим себе. Но терзавший ее ужасный недуг, по-видимому, временами обострялся, и сейчас наступил момент, когда страдалица стала опасной для окружающих. Пора было заняться ею всерьез. Господин Бриколен, сидя на лавочке перед домом, выслушивал с отупелым видом неуклюжие соболезнования родичей.
– Это большая-пребольшая беда, – говорили ему, – и вы слишком долго сносите то, что она у вас все время перед глазами. Этакое терпение просто выше сил человеческих. Надо наконец решиться поместить вашу несчастную дочь в сумасшедший дом.
– Да ее не вылечат там! – отвечал Бриколен, мотая головой. – Я уж все испробовал. Никакой нет возможности: слишком тяжелая ее болезнь. Помрет она, поди.
– Это было бы счастьем для нее. Вы же видите, что она самое разнесчастное существо на всем белом свете. Но даже если ее не вылечат, вы хоть освободитесь от забот о ней и не будете видеть ее постоянно перед собой. Она не сможет вредить вам. Если и дальше смотреть сквозь пальцы, кончится тем, что она убьет кого-нибудь и сама наложит на себя руки у вас на глазах. Представляете, какой это будет ужас!
– Но что я могу поделать? Я сто раз говорил об этом жене, но жена не хочет с нею расставаться. Коли заглянуть поглубже, она, поверьте, все еще любит ее, и удивляться тут не приходится: так уж, видать, устроено, что матери всегда питают какие-то чувства к своим чадам.
– Но ей там будет лучше, чем здесь, можете быть совершенно уверены. Существуют превосходные заведения, где у больных нет недостатка ни в чем. Их содержат в чистоте, занимают работой, не предоставляют самим себе, даже, говорят, развлекают; их водят в церковь и дают слушать музыку.
– В таком случае они живут счастливее, чем у себя дома, – заключил господин Бриколен. Подумав немного, он добавил: – Но все это, должно быть, стоит больших денег…
Роза была потрясена до глубины души. Кроме бабушки, она одна не осталась бесчувственной к горю бедняжки Бриколины. Она избегала говорить о ней, но лишь потому, что, заговорив, не могла бы не обвинить родителей в духовном убийстве родной дочери; по двадцать раз на дню она ловила себя на том, что дрожит от негодования, слыша сентенции матери во славу себялюбия и скупости, которым была принесена в жертву ее сестра. Как только она вышла из полуобморочного состояния, она захотела присоединиться к бабушке и вместе с ней постараться успокоить безумную, но ее мать, боясь, как бы ужасное состояние Бриколины не произвело на Розу слишком тяжелого впечатления, и скорее почувствовав, чем рассудив, что такое чрезмерное горе может оказаться заразительным и подействовать на здоровье младшей дочери также, отослала Розу прочь с обычной своей суровостью, хотя на этот раз ею руководила вполне оправданная тревога. Оскорбленная Этим запрещением, Роза возвратилась к себе и в сильном возбуждении почти всю ночь проходила взад и вперед по комнате, не вступая, однако, в разговор с Марселью из опасения слишком резко высказаться по адресу родителей.
Таким образом, радость, испытанная Марселью поздним вечером, была омрачена для нее последующими крайне тягостными часами. Крики безумной временами прекращались, а затем возобновлялись, становясь еще страшнее, еще ужаснее. Они не затихали постепенно, а обрывались внезапно, на самой пронзительной ноге, словно их останавливала насильственно причиненная смерть.
– О боже! Ее словно убивают! – воскликнула Роза; у нее не было ни кровинки в лице, ее шатало, но усилием воли она удерживалась на ногах. – Это похоже на казнь, – добавила она.
Марсель не стала говорить ей о том, каким жестоким пыткам подвергается безумная в своем воображении постоянно и, конечно, сейчас тоже. Она скрыла от Розы разговор между нею и безумной в парке. Время от времени она заглядывала к больной и всякий раз находила ее в одном и том же положении: Бриколина лежала на полу, крепко обхватив руками ножку кровати, и, казалось, едва дышала, изнемогая от крика, по глаза у нее были открыты и смотрели пристально куда-то вдаль, а мозг, как можно было судить, лихорадочно работал. Бабушка, стоя перед ней на коленях, безуспешно пыталась подложить ей под голову подушку или просунуть в ее стиснутый рот ложку с успокоительным питьем. Госпожа Бриколен сидела в кресле напротив, бледная и неподвижная; на ее резких, Энергичных чертах лежала печать глубокого страдания, но видно было, что эта женщина перед самим богом не признается в своем преступлении. Толстая Шунетта забилась в угол и рыдала, не помня себя; она не предлагала своих услуг, и никому в голову не приходило их от нее требовать. На лицах всех трех женщин была написана горькая безнадежность. Только безумная, казалось, в те минуты, когда она переставала вопить, предавалась мрачным, мстительным мыслям. Из соседней комнаты доносился храп: господин Бриколен спал тяжелым, беспокойным сном; порой, видимо, его мучили кошмары, и тогда он просыпался, но затем засыпал опять. Из-за противоположной стены слышались кашель и кряхтенье папаши Бриколена; он был равнодушен к чужим страданиям – у него едва хватало сил переносить свои собственные.








