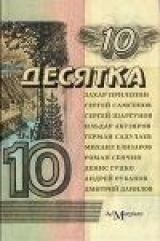
Текст книги "Десятка"
Автор книги: Захар Прилепин
Соавторы: Андрей Рубанов,Роман Сенчин,Михаил Елизаров,Сергей Шаргунов,Сергей Самсонов,Герман Садулаев,Дмитрий Данилов,Ильдар Абузяров,Денис Гуцко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц)
Сергей Шаргунов

Родился 12 мая 1980 года. Выпускник МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности журналист-международник.
С 2000 года автор литературного журнала «Новый мир» как прозаик и критик.
Лауреат независимой премии «Дебют» в номинации «Крупная проза».
Лауреат государственной премии Москвы в области литературы и искусства.
Библиография:
«Малыш наказан», Амфора, 2003.
«Ура!», ЭКСМО, 2003.
«Как меня зовут?», Вагриус, 2006.
«Птичий грипп», АСТ / Астрель, 2008.
«Битва за воздух свободы», Алгоритм, 2008.
Вась-вась
Пока он жив, увидим его живым.
Он спокойно всем тыкал: ты-ты-ты…
Перекрестье двух морщин на высоком лбу.
Он несколько лет сидел в Америке, в офисе, в Нью-Гемпшире. Компьютерная техподдержка налоговой компании. Его мужественную физиономию то и дело озаряла улыбка. Крупная и крепкая. При любой погоде – снежная. Улыбка пылала. Понимай как хочешь: морозилка американского супермаркета или наш деревенский сугроб. «Янки-витязь, – мысленно я обозвался, когда его увидел, – витязь-янки».
Рослый ян-ви, плечистый ви-ян. Светло-русая борода. Ясные ребячливые глаза.
Тридцать восемь, пора разлива. У него была жена его лет и дочь была, 12, – два притока. Два прихлопа снежных варежек. В родных отражалось солнечное облако сильной улыбки. Улыбкой он то и дело награждал других, обнажая зубы до десен, и, казалось, так исполнял какой-то важный план, который – в скрипе сосен и ветре над морем, движении облаков и пробках больших дорог. Под этой улыбкой другие ему тоже начинали, расслабляясь, тыкать. Улыбка при всей непременной мощи менялась: чтобы понять, какая она – наступательная или оборонительная, – достаточно было заглянуть в Васины глаза.
Три года он жил в Америке припеваючи и насвистывая. Там грозил ему только рост. Но он поверил в Бога. Ему приснился русский иконописный Бог, дал во сне хлеб. Вера начала утягивать все глубже, в молитвенную бездонную глушь, и Вася решил: вернусь!
В Москве он отправился в первый попавшийся храм рядом с домом матери. Жена и дочь последовали за ним безропотно. Он стал алтарником и шофером при храме. Он все время держался храма, откуда выходил с неохотой, и сразу бежал в машину (свою, но уже не свою: черный «хаммер» пожертвовал храму). Зато внутри храма двигался привольно. Плавно вступал с тяжелой свечой на солею. Проплывал из алтаря сквозь темень люда, выныривал светлой головой посередке и читал молитвы, распахнутые на аналое, быстрым уверенным голосом.
Стены и своды белели, без росписи. В светлом стихаре с золотыми нитками, в тесном живом кругу, он стоял, русобородый и прямоносый.
Первый раз я его увидел однажды утром. Витязь, которого перебросило в наше время. Грубый луч солнца раздваивал сизо-дымчатый воздух. Частил чтец, но четко, четко. И вдруг подпрыгнуло деловитое «р» в слове «гордыня», снова дернулось в слове «гроб», округлилось, чванливое, в слове «виноградарь», и все это на автомате: ты уже американец, Вася!
Нас познакомил мой папа-батюшка, настоятель храма. Вася мне помог. Сначала забрал из роддома моего сына Ваню и жену Аню, вскоре отвез их на дачу, а потом стал захватывать меня к ним. Он родился в этом поселке. У него было там два дома. В одном жили его жена с дочкой, а в другом предложил пожить лето Ане с Ваней.
…И вот пришла пора помирать. Был июль. Была оказия: Вася взял меня на дачу, он за рулем, я рядом, сзади мои приятели, которых я поманил за городскую черту.
– Болел? – спросил я.
– Болел.
– По тебе незаметно.
– Проснулся и встать не мог. Это кондишн надул. День полежал в доме причта. Уже нормал.
– Температура?
– Жар, еще эта… ломота… Кашлял. Я боялся, что воспаление легких. Вроде цел. Слабость одна… Да просто искушение!
– А не аллергия? – мечтательно отозвалась Ульяна.
– У кого аллергия? – взволнованно выкрикнул Петя.
Вася держал взглядом дорогу.
Надо рассказать про приятелей на заднем сиденье.
Петя раньше был физик, но, закончив МГУ, проклял науку и решил быть поэтом. Он писал обычно четверостишия, украшая ими даровые литературные сайты. Состязался в лирических интернет-забегах и каждый раз требовал высылать в его честь эсэмэски. Худощавый и малорослый, с наглым вздутым подбородком, он стригся «под ежик», постоянно носил черный кожаный пиджак. В сереньких жидких глазах плескались рыжие крапинки ярости.
Ульяну он нашел в Йошкар-Оле. Но родом она была вятская. Запутанные маршруты большой родины. Увидел ее Петя на литературном вечере. Она тоже стихи писала. Песенные. Беловолосая, тонкокостная. Зеленоватые стебельки жилок на висках. Лукавый разрез зеленых глаз.
Ульяна ему не дала. Приглашенная им, въехала в Москву, в его комнату, делила с ним топчан, но отказала. Ужасно, признавался он мне, было лежать с ней ночами, отворачивая нос с похотливо раздутыми ноздрями, благородно опасаясь уснуть, перевернуться и навалиться, – сон расслабляет волю. Но самыми щекотными были покровительственные взгляды маменьки за завтраком, игривое: «Вы, молодежь, варенье-то накладывайте!» – и хулиганом-добряком подмигивал отец.
Итак, юные поэты ехали на заднем сиденье. Я обернулся к ним и подумал, что они выглядят как Васины дети. Они могли бы сойти за его детей. Их с ним роднила жертвенность лиц. Как они мне все были милы – остановись, мгновенье. Жизнь, дари только причудливое!
Стоп. Это сколько в часах? Примерно девяносто часов, учитывая, что нынешний, который я расписываю, день был подъеден. Я считаю расстояние до смерти водителя.
Солнце стояло высоко.
Я почему-то запомнил одну деталь. Встали в пробку. На дороге металась собака. Рыжая, хорошая. Колли. Потерявшая разум и страх, одинокой остроносой волной она носилась среди машин, лизала, представьте, колеса. Может, прокусить хотела? Как в порноролике, у нее выпорхнул язык и мазнул по шине, задержался на миг, розовый лепесток на темной резине, и глаза скосились сучьи: снято? Она хвостом развеивала дымки и подвывала, заглядывая в машины. Справа от нас был жигуль, стекло опущено. Из жигуля рвалась песня, мерцали цепи востока, ложное золото. Песня гремела, водила вертел колючим профилем.
– Выбросили ее, – сказал Вася. – Свихнулась. Бедолага!
– Ага, – согласился я эхом.
Казалось, еще одна солнечная минутка – и машины будут плавиться, перемешиваясь и образовывая новые диковинные формы.
– Наше будущее… Или уже настоящее? – сказал Вася про жигуль и с покровительственным зевком добавил: – Музыка врага.
– Ага, – отозвался я (из вежливости).
Пробка зашаталась. Машины дернулись. Муэдзин рыдал в жигуленке. Собака вынеслась на тротуар и отрывисто, вопросительно залаяла: гав? гав? гав?? гав???
Когда этот солнечный эпизод снова и снова память станет выталкивать, я в безумии воображу: невозможное возможно! Истинный Всевышний – Аллах, и нет Бога, кроме Аллаха, и Вася тогда… оскорбил… фразой своей песню задел, ту, что орала из жигуленка… была не песней, но молитвой… назвал «музыкой врага»… И за это все случилось. А я добавил: «Ага»… Пощади, сжалься, мусульманское небо Москвы! Смуглое от гари!
Правоверный читатель сейчас задумчиво и согласно кивнет.
Но я вспоминаю: Вася захворал раньше. Он жаловался на недавние жар и ломоту до того, как мы поравнялись с песней. До того!
Может, собака замешана?.. Колли. Она прокляла нас своим вопросительным лаем. Под этот лай Васина хворь, которая так бы угасла и рассеялась, вспыхнула и заполыхала.
Или есть тайные события, изнаночное время. И мы с пробкой угодили на непостижимый уровень несчастья, в невидимую тучу, беременную жгучими градинами беды.
Оглядывая эту историю от предыдущих дней до оставшихся часов, я понимаю: приговор прозвучал гораздо раньше. Вероятно, в ту ночь, когда Васе привиделся Спаситель с хлебом. Лай сумасшедшей собаки на проспекте – это мелкая зарубочка на пути к смерти. А исламская песня? Откуда ж я знаю, что в ней пелось! Может, араб орал: «Прощай, прощай! Ничего не обещай!»
Какая только каша в голову не лезет! Узнав о смерти знакомого, ищешь любую надежду, что он в порядке, сообщат: выжил, жив-здоров, извинятся за недоразумение. Или, наоборот, нужна самая нелепая причина, почему вдруг человек пропал.
– Жарко, – сказал я.
– Кого? – пророческим голосом выкрикнул Петя.
Вася рассмеялся, заражая смехом глаз и светом бороды, и обернулся, щедро сверкая глазами:
– Не жалко, а жарко!
Мы жужжали по шоссе, лесная кулиса темнела, перегретая, по правому борту. Гудел тугой ветерок, но все равно жарко было до изжоги.
– Хорошо бы к воде махнуть. Не хочешь завтра?
– Хочу, – он кивнул. – Есть близко озеро волшебное. В моем детстве пруд был в самом поселке. Мутный, правда. Как перестройка началась – пересох.
– Судьба страны в зеркале пруда… – подхватил я. – В перестройку пересох. В застой подернулся ряской. В оттепель вышел из берегов. Вась, а рыба там водилась?
– При Сталине – акульи стаи! – Петя заерзал, коленями давя меня сквозь кресло. – При Ленине – тюлени!
– Караси, плотва, уклейки, – ответил Вася молитвенным речитативом.
– Поднять стекло? – сказал я. – Тебя опять не продует?
– Все о'кей! Я поправился! – Машина жизни набирала скорость. – Слушай! Давно собирался… – Он напрягся и выдохнул: – Наташа – цыганка!
– Наташа?
– Нянька ваша!
– Молдаванка!
Он зачастил, не отрываясь от дороги, как будто дочитывая часы, спешил к первому возгласу литургии.
– Они все цыгане, Сереж! Я свою вину знаю. Я вам эту бабу привел. Этих молдаван у нас в поселке наняли. Ее муж со товарищи храм строят.
Я и растаял! Обрадовался – у нас никогда храма не стояло. Когда ее увидел, подумал: молодая, денег мало, дай-ка вам помогу и ее пристрою, и спросил: будешь младенца нянчить? Она ласково так согласилась. Разговорились. Сказала, что в Бога верит. Оба природу любим, грибы, ягоды. Рассказал ей про куриный гриб – по вкусу второй шампиньон, – великое дело. Она говорит: если грибы три часа вываривать, потом хоть поганку жуй. Я за своими компьютерами все эти годы скучал по лесу с грибами!
Не разобрался я в ней. Наглая она! Она, Сережа, хуже компьютера. От меня убегает, сына твоего уносит. Я к твоим заходил раз-другой. Дочку привел, Ванюшу поцеловать. А эта манки – только я на двор – бегом. Или на дорогу с коляской. Или за дом. Или в дом. Лишь бы от меня. Глаза прячет, под нос бормочет, ребенка прижимает, он ревет. Даже Любка моя заметила: «Пап, а чего тетя такая идиота?»
– Идиота?
– Вместо идиотка – идиота говорит. Это после Америки. Привыкла. Но я не переучиваю. Слово-то плохое.
– А Аня?
– Прости, по-моему, цыганка твою жену подчинила. Хоть бы раз она обезьяну одернула! Одна молчит, другая хамит. Хамит и бегает – вот-вот ребенка уронит!
– Я с тобой согласен, – сказал я. – Мне Наташа тоже не нравится. Она меня не уважает. Я бы ее выгнал, но кого взять?
– Некого совсем. Но обезьяна – это ноу комментс. Год назад жила одна старуха, Полина Никитична. Так с детишками ладила… Супер! Поменялся поселок. Мало кто остался. Мать в Москве, отец в могиле, дед с бабкой тоже лежат. Бывало, сяду над лужей и муравья на подорожнике плавать запущу. И такая тишина вокруг. Где замки богачей – там коровы паслись. Мой поселок, моя родина, школа здесь моя, наше кладбище. Теперь все забились по домам, по дворам. Или гуляют в специальном месте – на детской площадке. Раньше весь поселок был детская площадка! И лес… Я с четырех лет по лесу один гулял.
– Не боялся? – прозвенела Ульяна.
Мы въехали на окраину поселка.
– Ученые доказали: в лесу кислорода – как в открытом море! – провозгласил Петя. – Голова варит – можно открытия совершать!
– Вот именно, – одобрил Вася. – В лесу надо уметь плавать. С детства. Однажды на полянке заяц выскочил, еще до школы было. Я к нему шаг, и он ко мне. Не поверите: я его по голове гладил! За ухом чесал! Как кошку! Верите?
– Куда ж без веры… – устало сказал я и, уже сказав, уловил в своем голосе иронию и печаль.
Центральная улица была отутюженная, серо-стальная. По краям выстроились деревянные домики. Мы свернули на улицу Льва Толстого, половина которой лоснилась той же гладью, и это было понятно: вдоль краснели кирпичом пять одинаковых крепостей, самодовольно жмущихся друг к дружке. Дальше гладь обрывалась, начинались деревянные жилища и дорога превращалась в острые куски старого асфальта, так что остаток Льва Толстого вилял, прыгал и бранился из-под колес.
Затем случилась столь же расхристанная ул. Маяковского. Мы свернули на Лермонтова, где был вызывающе короткий отрезок глади у одинокой красной крепости, и дальше простиралась голая земляная пыль.
Справа деревянные дома, слева деревья леса. Приехали.
– Будьте здоровы! – сказал Вася и улыбнулся очаровательно.
Я, как всегда, предложил ему деньги.
– Да ты в своем уме! – Он засмеялся и укатил. В конец улицы, к своим.
Смерть придвигалась к нему.
– Счастливо!
Я отпер калитку.
– Наконец-то! – Жена кормила сына на деревянных ступеньках. Грудью, выпростанной из цветастого сарафана.
Я и не подумал ревновать ее грудь к Пете, смущенно засопевшему у меня за спиной, точно это его кормят.
Дом был большой, двухэтажный. Напротив – строение кухни. От дома к кухне вел дворик шириной в два кошачьих прыжка. Пятачок с вкраплениями бетона, выложенными морской ракушкой и блестками затупившегося стекла, и с подметенной уютной землицей. Из-за куста жимолости краснела коляска. У кухни расположился водопровод: жестяная раковина. Вытянутое тонкое железо, изгибаясь на конце, выдавало сейчас струю. Блестящая, она рассекала знойный воздух и рушилась. Как здорово жидкий холод совпадал с летом, нагретым двором, по квадрату которого ползали вялые, подбитые жарой мухи… И с этой любимой молодой женщиной и моим младенцем.
Он, не отвлекаясь, ел молочко, почавкивая в лад одному ему слышному гудению жары и морщась бровкой на гром воды. Толстоморденький.
– Хорошо, что вы приехали! Здесь так скучно! – сказала Аня приподнятым голосом.
Она сложила губы и вытянула для поцелуя. Скуластая, темные с медным оттенком волосы до плеч. Яркие глаза. Хрупкие раскосые брови.
Я подошел и поцеловал. Засосал ее рот – с четкой лодочкой верхней губы и мякотью нижней.
Она была притягательно вспухшая после родов. Вся она жадно дышала под сарафаном – гладкокожая. Тело – воплощенное лето. Вот от этого лета напитывался наш сын.
Я смотрел на них и ощущал всю ее под сарафаном: после рождения ребенка, мне мнилось, я мог переселяться в ее тело. На мгновения я стал ею. Дышал, подрагивал теплый живот, ниже возбуждающе и мучительно кусались колючки: отрастала в паху вчера соскобленная шерсть.
– Здесь так хреново! – сказала Аня.
Ступня ее смуглела в дачном зеленом шлепанце, узкая, с облупившейся красной краской на мелких пальчиках.
Когда мы познакомились четыре года назад, Аня поразила меня. Глаза ее самонадеянно полыхали. Она припечатывала всех подряд вспышками негодования. А сейчас они были на мокром месте, ее глаза, острые уже не весельем, а обидой.
Раньше она была лиха и люта. Я ее принял такой, восхитился, но пытался управить. Она менялась. Все время от зачатия до родов, вопреки расхожим суждениям о злобных беременных, становилась тем добрее, чем больше рос живот… После родов она совсем смягчила сердце. Ночью, разбуженный горьким плачем любимого человечка, я бредово воображал, что вся ее злоба теперь перешла к нему.
Да, она избыла свою злобу. Но к этому ее новому теплу примешалось нечто жалкое. В нее проникла химия проигрыша.
Я смотрел, как сынок сосет грудь. Грудь настоящую, бабью. Эту грудь хотелось жать, дергать, награждать сосок щелбанами, выбивая молочную слезу за слезой.
В июльском саду пела вода, светила струя.
Из кухни вышла девка и выключила воду.
– Яви-ился… – Она шагнула на середину пятачка и командно встала, уперев тяжелые руки в тяжелые бока. – Обосраться и не жить…
На ней были потертые джинсы, нечистая голубая майка «Pepsi». Черные-черные волосы, вьющиеся и перепутанные, пронзали несколько шпилек. Лицо темнело, липкое и вытянутое. Глаза насмешливо гуляли.
– Скажи, Ванек, папашка! Небось в Москве – водка да бабы…
Это была Наташа. Няня. Ровесница, двадцать шесть, она внушала мне тайное стыдное почтение своим упрямым и озорным взором.
– Ну? И чо ты привез родным?
На свежем воздухе под запахи леса работал ее гипноз хозяйки. За этот гипноз я не любил Наташу все сильнее и безнадежнее. Интересы нянькины были просты – вылакать супец понаваристей, семечки погрызть, выпросить тряпку, завистливую гадость брякнуть. Она все время кляла тутошнюю местность, светлую малокровную землю, говорила, как хорошо было в ее румяном селе, где они жарили кабанчиков. Она вынуждена жить здесь, в вагончике, рядом со стройкой! Муж ее, укладчик кирпичей, тут.
Наташа нанялась к нам в няньки через Васю. Уже и Васю она закошмарила своей дикостью. Ты же слышал, читатель, как он только что ужасался в дороге! Но где было брать другую? Она помогала укладывать, мыть и возила в коляске моего сына.
– Шиш… – зашипела Наташа и заржала: – Шиш привез?
Я нагнулся, приложил губы к пуховой младенческой головушке. Мерное, четкое движение: втянул – проглотил, втянул – проглотил… Теплая голова, полная дивным молочным маревом. Втянул – проглотил. Раздражение мое вдруг пропало. Подумаешь, гадина. Зато сынок растет.
Я распрямился:
– Денежки тебе привез, Натали!
– Наташ, погуляешь с ним? – Аня спрятала грудь в сарафан.
Младенец заелозил лицом, слюнявя пеструю ткань.
Наташа выкатила коляску из куста. Аня, оторвав от себя младенца, уложила, и он заплакал.
Няня повела коляску, свободной рукой смахивая со лба путаницу волос.
– Часик! – крикнула жена, словно пробуя голос под гулкими сводами разношенного родами нутра. – Часик, Наташ!
Ребенок рыдал. Скрипели колеса. Няня, дернувшись комьями затылка и шпильками (это она кивнула), увозила мою кровинушку. Звук плача удалялся, но огорчение в плаче возрастало. Нет, Ваня не хотел быть с нею!
Калитка распахнулась, Наташа отступила.
На пороге сада стоял Вася. Она помедлила и привстала на носки кедов:
– Чо стал?
Ударила коляской вперед.
Вася отпрянул на траву. Калитка моргнула в мгновение ока, хлопок, плач младенца пропадал вдалеке.
– Вот… – Вася обреченно развел длинными пятернями программиста. – Обезьяна! Я почему зашел… Не получится завтра озеро. Я в Москву поеду, надо в храм.
Плач за забором совсем пропал.
– Радует дом? – Вася улыбнулся.
Зубы вспыхнули, крупные и ровные, и я представил его череп целиком. Наверное, в отсутствие плоти, волос и глаз эти зубы смотрелись бы еще очаровательнее.
– Радует… – протянула Аня, переминаясь и одергивая сарафан. – Только это… – И она торопливо сказала: – Все время воют собаки!
Петя лопнул хохотом:
– Как? – Он задыхался. – У-у-у-у-у… У-у… Гав! – Топнул.
Ульяна зазвенела. Я усмехнулся.
Вася уверенно держал белую крепость улыбки:
– Это же загород! Куда без них!
– Хочешь обедать? – спросила Аня.
– Жена ждет! – Он пошлепал зеленую рубаху в области живота. – Борщ на столе стынет.
– Больше не болей! – сказал я зачем-то.
– Больше не буду! – сказал он по-гамлетовски выразительно. – Я больше не буду.
В последний раз озарил сад улыбкой и нас покинул.
– Зачем приходил? – И Аня облегченно выдохнула: – Как же я устала!
Мы прошли на кухню.
На деревянных голых стенах висели приколотые рисунки – с крестами и бабочками, нимбами и цветами, – нарисованные церковными детьми и привезенные сюда Васей.
Картины со смещенными пропорциями, следы наивных кисточек, напоминали художество дикаря, отгоняющего беду. Но и воинственная ярость жила на этих бумагах, мятых от акварельной водицы. Бабочка зависла самолетом. Жуки наступали танками. И везде небо синело. Или его давали алчно, густо-густо, или воды не жалели, копируя жертвенную невесомость лазури.
Мы сели. Миска с овощным салатом, корзинка с черным хлебом, стеклянный саркофаг с маслом и отрезками сыра и ветчины.
Аня наливала суп. Крапивный. В свеже-зеленой гуще плавала долька вареного яйца, желток зрело поглядывал из белизны, словно в каждой тарелке – пейзаж Куинджи, буйные кущи, терпко вечереет, и луна между зарослей вступает в свои права.
– Сегодня сварила. Мы с Наташей у забора надергали, – говорила она, разливая ловко и вслепую, и нежно глядела мне в глаза. – Какая она хваткая! Какие у нее мышцы! Вчера баню топили. Так она дров нарубила. Разделась – у нее бицепсы настоящие! А кожа какая толстая! Рвем, значит, крапиву. Я в садовых рукавицах. Она руками голыми, и ничего, не больно. Оказывается, у них дома постоянно крапиву едят. Она с детства привыкла ее рвать.
– А платье из крапивы не носит? – спросил я.
– Как в сказке, – сообразила Ульяна.
Ели суп задорно.
– Крапива без пива – деньги на ветер! – выстрелил лозунгом Петя, резво мешая ложкой. – Фу! – поднял перевернутую ложку, с которой вместе с зеленым свисало нечто бесстыже черное, длинное, гибкое, что он опознал оглушительно:
– Волос!
– И у меня! – пропищала Ульяна, заглядываясь в свою копию Куинджи.
Я следом выудил крепкий черныш, который прилип к половинке яйца. Смахнул на пол.
Аня схватила тарелку, выбежала во двор, слышно было – выплеснула.
Петя оттолкнул тарелку. Подскочил, проплясал тесной кухонькой, скользя взглядом по детским рисункам.
– Простите! – сказала Аня, вернувшись. – Гадость. Это все Наташа, я ее просила суп посолить, пока я с Ванечкой была. Вечно она космами трясет. Ешьте сыр, ветчину! Я сейчас курицу разогрею. Курица точно безволосая!
– Эпиляцию сделали? – собрался с юмором Петя.
– Я есть не буду! – замотала головой Ульяна.
Но курица была вполне, и салат – радостным. Потом был чай, на тарелке – жимолость. Ягоды недавно поспели, Аня уже ободрала полкуста. Вяжущий вкус побеждал память о волосатом супе.
Мы вывалились на воздух.
– Мальчики, тут надо бы траву собрать. Лучше руками – так быстрее! – Аня включила воду. Ульяна укладывала тарелки в раковину.
– Чего за трава? – спросил я разморенно.
– Да муж Наташин покосил. Теперь надо в одно место отнести. Дождь пройдет, и гнить станет всюду.
– Труд веселит человека! – Петя скинул кожаный пиджак на ступеньки дома.
Я надел рукавицы, Петя рукава широкой черной байковой рубахи натянул на ладони. Мы стали таскать охапки мертвых растений с разных концов сада. Мы сносили стебли в одну кучу, у калитки, подле кустов крыжовника. Трава была разная, встречалась с колючками. И крапива, старая знакомая, была. Мы таскали в объятиях траву, пресную и душистую, вялую и кусачую, влажную и усохшую. Я поднес травинки к лицу и глубоко вдохнул все сразу: рождение, расцвет, смерть. Трава пахла разнузданно и начальственно, как волна, и я на секунды ощутил, что не я нюхаю ее, а она, затмив пол-лица, обнюхивает меня.
– Что я нашел! – закричал Петя.
Аня выключила воду и взволнованным шагом направилась на его крик. Я бросил охапку вместе с рукавицами и подошел:
– Что там?
Петя потрясал острой деталькой. Несомненно, значок. Темный от времени и земли.
– Узнали?
Железной крохоткой, зажатой в правую щепоть, он начал тереть по левой руке, закрытой черной байковой рубахой.
– Не узнали? А это детство наше… Я помню, все помню! Помнит зоркий глаз, – бормотал он, двигая значком, – мой советский класс…
Значок, с вкраплениями ржави, но свободный от грязцы, лежал у него на ладони.
– Пионерский! – опознала Аня.
Красная звезда, над которой краснело угловатое пламя. В центре – головка Ильича, как головка чеснока, белая и голая.
– Я в школе единственный не вступил в пионеры, – признался я. – Мне папа запретил. Объяснил: пионеры против Бога.
– А ты сейчас вступи! – Петя ликовал. – Бери и цепляй!
– Может, зароем его обратно? – Аня прижалась ко мне, теплая, и стала ластиться. Бедром, сиськой, скулой. – Тут такое творится… Они меня замучили. Выкиньте вы эту ерунду!
– Кто они? – Я обнял жену и стиснул. – Не бойся, я тебя от всех спасу!
– Потрясающе! – Петя перевернул значок. – Даже иголка осталась. Бери и цепляй!
Зашелестело хихиканье. Это Ульяна подкралась по мякоти живой и неживой травы.
Вдали гулко забрехали собаки. На разные лады. Жирное и дремучее: «Вась-Вась!» Звонкое и праздничное: «Вань-Вань-Вань!»
Трепеща губами, Петя хватал воздух. Я взял у него и стал крутить значок:
– Прямо знак от родной земли. Интересно, зачем он воскрес? Неужели могут вернуться пионеры?
Петя выпятил грудную клетку, шевельнул ушами, издал горловой писк и обрушил челюсть о челюсть:
– А-а-апчхи!
– Чих на правду! – обрадовалась Ульяна.
Хлопнула калитка.
– Наташа! – крикнула Аня.
Няня толкала впереди себя коляску и молчала, взглядом проницая пустоту. Свернула с дорожки на траву, подкатила к нам:
– Чо орешь? Своего не буди.
– Спит, – умилился я.
– Всю дорогу изводил. Позор какой: вопит и вопит! К нашим его возила. Он любит на нашу собаку смотреть! Собака на цепи – я его подношу, он смеется… А до этого как вопил! Только у нас заткнулся!
– Не говори «заткнулся» про моего сына.
– Она не со зла, – заступилась Аня.
– Нравится? – я показал значок.
– Старый… – Наташа всматривалась. – Откуда такой? Прикольный вроде. Отдашь, Анют?
– Дарю!
– Между прочим, это я нашел! – вмешался Петя. – Я траву собирал, вижу – какая-то фишка…
– Ты жадный, чо ль? – Наташа разбойно царапнула его глазком.
Петя пресекся и звучно сглотнул.
– Держи, пионерка! – я впечатал значок ей в руку.
Рука была горячая.
– Мы все пионеры, блин. При Союзе все дружно жили. Зачем Союз ломали? Наши родители и ломали, скажи, Ань? – Она вертела значок между пальцами. – Холодный какой… Васькин? Он же Ва-аськин… Васькин, да? Я его в говно спущу.
– Васин, – спохватился я. – Может, лучше Васе отдадим?
– Зачем? – спросила Наташа.
– Вряд ли он ему нужен, – сказала Аня.
– Не прет мужику по жизни! – Наташа заржала, будто всех призывая заржать. – Зарыл значок, а земля обратно выплюнула. Подарочков его не принимает!
– Ты! – Бешенство сузило мне дыхание. – Ты! Он дал нам этот дом. Он тебя нам посоветовал. Ты как смеешь!
– Смею я. Смелая! Чо он на меня зырит? Чо он лыбится? Противный…
– Ты же сначала с ним дружила.
Она кокетливо закрутила головой, ловя шпильками солнечные искры:
– Не разглядела. Сын твой – сразу в рев, как Васька подходит.
Ульяна пролепетала:
– Он к тебе клеился?
– Пусть попробует… – Наташа окинула ее сверху вниз, и девочка, казалось, уменьшилась. – Мой кобель ему причиндалы отгрызет.
Я вздохнул:
– Ты в Бога-то веришь?
– Мне Бог помогает, – сообщила она нахально и зачесала в кудлатой голове.
Я нагнулся к коляске. Здесь обитало главное существо белого света.
Я вел коляску. За спиной Аня тараторила с неестественным восторгом:
– Помнишь, блузку тебе дарила? Красный значок к белой блузке – это шик! Ты прикинь, как клево с таким значком! Забавно!
– Я чо, клоун?
– Ты – модница! Завтра у меня в шкафу пороемся! Хочешь, подарю тебе джинсовый костюм?
– Старый?
– Зимой купила. Надо померить. А значок, честно-честно, здоровский! Как будто детство нам вернул!
– Взрослые бабы! – хриплое в ответ. – Какое детство.
– Юные! Юные, Натуль!
Спал мой сын. Я отключился, украл мгновение, остался с ним наедине.
Я ощущал жажду его видеть, голодал по нему. Москва с делами забирала меня у Вани, но я рвался к нему. Я не умел и не хотел пеленать, купать, укачивать, бесконечно треща «чщ-чщ» или монотонно напевая. Предпочитал курлыкать, бережно щекоча ребрышки. А по правде – мне хватало мгновений. Просто взглянуть. Время подпрыгивало вспышками, несколько моментальных снимков: вот он, все с ним хорошо. В такие мгновения я словно передавал ему свою силу, впрыскивал в него, глядя пристально, укрепляющее любовное вещество.
Я вел коляску. Красный отсвет делал лицо младенца особо круглым. Но сквозь эту красную рекламную пелену я тревожно разобрал позеленевшую кожу, лиловатые печати на веках, соска застыла надгробием. Ваня не дышал.
Я погнал коляску. Остановил у крыльца. Окунулся по локти – и сверток выхватил вон, под солнце.
Живой?
Веки дрогнули и не успели раскрыться, прежде чем из мясистого ротика загремел плач.
На землю полетела соска.
– Ты обалдел? – Жена перехватила младенца и закачала всем телом.
– Я же тебе говорила, Ань.
– Что ты ей говорила? – Я крутанулся, понимая, что мой кулак сжат.
Наташа показала чудо быстроты: нагнулась, сцапала соску, страстно облизнула и ткнула в младенческие губы.
Звонил телефон.
Я бросился в кухню.
Мобильник молчал. Я включил его обратно в зарядку. Зарядку – в розетку. Дисплей озарился, я всматривался в мутное электрическое зеркальце. Номер был незнаком. Я перенабрал. С пятого гудка в трубке закружилось:
– Алле! Алле!
– Кто это?
– Это Екатерина! Прошу ваших молитв! Мы уезжаем!
– Екатерина?
– Василий наш заболел. – И тут из отрывистой речи (каждая фраза обособлялась влажным свистом) я понял, что это Васина жена. – Доча с нами. Доктор сказал: пулей! Плох Вася наш. Поспал полчаса, проснулся, горит весь. Синий!
– Синий? – Мой взгляд остановила детская акварель на стене.
Желтый подвисший человечек с зеленой бахромой по краям, и вокруг густая синева.
– Синий! В синяках весь. Спина синяя вся! Градусник поставила: тридцать восемь и семь. – Она последний раз ожесточенно свистнула.
Зажмурившись, я неловко перекрестился.
Вышел из кухни, тоскливо щуря глаза.
Аня, Петя и Ульяна стояли возле коляски, направив на меня ждущие чего-то лица.
– Где цыганка? – спросил я.
– Тсс… – Аня показала на коляску. – Ушла.
– Правда ушла? – Я заглянул в коляску, обнаружил любимый сверток и начал озираться. Мне представилось, что она никуда не делась. Пока я отлучался к мобильнику, все затеяли игру. Например, она забежала в баню и смотрит сквозь ветхие щели или позади дома схоронилась за заброшенным колодцем и там азартно дышит. Она не покинет нас, и все они согласились ей подыграть, лишь маленький Ванечка спит непритворно.
– Васю в больницу повезли, – сказал я.
– Все, что нас не убивает… – Петя замахнулся челюстью.
– О, только не это… – простонал я. – Не надо сентенций. Что это за болезнь, когда человек синеет?
– Рак крови, – рассудительно сказала Аня. – Сходите за вином?
– Синий – значит пьяный! – Петя щелкнул зубами, точно раскусил гранитный ломтик кроссворда.
– Ты же кормящая, – сказал я.
– Кормящая… – протянула жена, копируя мою грусть, и вернула с нотой мольбы: – Ну, немножко вина! А себе возьми пива…
До магазина было десять минут спокойной ходьбы сначала по земляной дороге мимо леса и дома Васи, потом поворот и – по старым кускам асфальта. Я взял бутылку белого чилийского – Ане и Ульяне. Себе пять бутылочек «Миллера» с сушеной рыбкой. Петя набрал коктейлей. Водка и дыня, и арбуз, и киви. Меня затошнило от одного пестрого вида этих жестянок, а Петя ничего, приободрился. С молодцеватым хрустом вскрыл киви и стал засасывать.
На нашей улице, на обочине, с белым бидоном стояла дородная старуха. Я пересекся с ней глазами. Волосатая родинка на двойном подбородке. Подбородок – как клубок шерсти.








