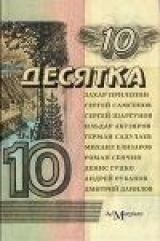
Текст книги "Десятка"
Автор книги: Захар Прилепин
Соавторы: Андрей Рубанов,Роман Сенчин,Михаил Елизаров,Сергей Шаргунов,Сергей Самсонов,Герман Садулаев,Дмитрий Данилов,Ильдар Абузяров,Денис Гуцко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 23 страниц)
Мне стало почему-то страшно за Айю, когда она скрылась за дверью туалета и долго пропадала, а потом, к моей радости, как фокусница с горящими глазами, появилась из другой двери.
– Знаешь, – сказала она, когда мы вышли из «нашего дома», – я села на унитаз, а стульчак оказался теплым, согретым чьим-то телом. Это такой кайф – садиться на теплый унитаз, согретый специально для тебя в бездушном музее, и думать, что кто-то дарит тебе тепло своего тела. В этом есть что-то супервеликое, суперчеловеческое.
И тогда я понял, что люблю ее, очень люблю, и мы пошли по вечернему городу, намереваясь зайти в булочную за батоном и в молочную за кефиром, и по пути я спросил ее:
– А знаешь ли ты притчу о собаке, обезьяне и свинье?
– Знаю.
Захар Прилепин

Родился 7 июля 1975 г. в деревне Ильинка Скопинского района Рязанской области.
Закончил университет им. Н. И. Лобачевского.
Дебютировал в 2003 году в газетах «Консерватор» и «Лимонка» с главами из романа «Патологии».
Публиковал рассказы и повести в журналах «Дружба народов», «Континент», «Медведь», «Наш современник», «Новый мир», «Русский репортер», «Сноб» и др.
Вел рубрику в «Литературной газете» и колонку в журнале «Русская жизнь».
Колумнист журнала «Огонек».
Главный редактор нижегородского издания «Новой газеты».
Проза Захара Прилепина переведена на 14 языков.
Лауреат премий «Национальный бестселлер», «России верные сыны», «Солдат Империи», «Ясная Поляна» и др.
Библиография:
«Патологии», Андреевский флаг, 2005.
«Санькя», Ad Marginem, 2006.
«Грех», Вагриус, 2007.
«Я пришел из России», Лимбус-пресс, 2008.
«Ботинки, полные горячей водкой», Астрель, 2008.
«Это касается лично меня», Астрель, 2009.
«Леонид Леонов: Игра его была огромна», Молодая гвардия, 2010.
Верочка
Даже не знаю, с этим ли солдатом или с другим, но она убилась на машине где-то через год, лобовая авария, сразу насмерть.
А тогда мы с Вальком, братиком моим, гнали корову с пастбища и трепались о чем-то.
Корова предусмотрительно шла подальше от нас.
Дня, может, четыре назад мы обнаружили у деда в сарае кнуты и быстро освоили, как издавать ими оглушительный щщщёлк. После каждого удара эхо несколько раз отщелкивалось в ответ, и даже кукушка, чертыхнувшись, умолкала.
Уже на следующий день корова шла домой, держась от нас на расстоянии, чуть превышающем удар кнутом. Едва мы пытались приблизиться к ней, они припускала бегом, косясь на нас сливовым глазом – умная животина.
Путь к дому пролегал мимо пруда.
На третий день на нас заорали рыбаки – им казалось, что щелканьем кнута мы отгоняем карася от их залипших в сиреневой воде поплавков.
Пожаловались на рыбаков деду. Он ответил спокойно:
– Этот пруд я вырыл, щелка́йте сколько хотите. А то опять зарою. Будут на черноземе рыбу ловить…
И добавил:
– Если опять заорут – подойдите и кнутом по заднице им…
Рыбаки все были наши соседи, мужичьё взрослое и нестрашное. Мне ж и Вальку исполнилось уже по тринадцать: подходила пора, когда бояться стоило нас самих, круторебрых, всегда возбужденных, с громкими, галочьими голосами.
Рубах мы не носили, обуви тоже, к середине лета покрывались загаром, замешенным с цветочной пылью, оттого серебрились на солнышке, заметные издалека, как пятаки.
Этих двоих мы увидели впервые – парня и девчонку. Они, нацелившись удочками, стояли на берегу, метрах в семи друг от друга.
Парень не посмотрел на нас или, скорей, сделал вид, что не посмотрел. Зато девчонка сначала быстро оценила нас, когда мы подходили слева, а потом, повернув голову направо, так засмотрелась нам вслед, что, неожиданно соскользнув ножкой по илистому берегу, не удержав равновесия, смешно и с размаху упала на задок.
Парень ее заржал в голос, она и сама засмеялась беззвучно, не пытаясь подняться, а продолжая смотреть на нас.
Мы с братиком тоже хохотнули картавым галочьим хохотком.
Девушка была очень хороша, молочна, белозуба, и белый, в незатейливых цветках, сарафанчик ее – там, где грудь, был плотно наполнен и подрагивал.
Нужно было как-то еще себя проявить, и мы с братиком, не сговариваясь, отожгли каждый своим кнутом такой «щщщёлк», что, казалось, воздух дважды лопнул, как бумага.
– Э, хорош там! – грозно сказал парень нам вслед.
– Ага, щас, – ответил я, сам чуть пугаясь своей наглости – парень был явно на пару лет старше нас, на голову выше меня, на полторы головы – Валька, и в плечах бугрист и напорист.
– Э! – крикнул парень вслед еще серьезнее – Гольцы, бля!
– Че надо? – ответил братик, повернувшись и ощерившись.
– Лёх, ну хватит, чего ты? – сказала вдруг своему спутнику девушка, поднявшаяся с земли, – одновременно легкими шлепками стряхивая с… себя темное пятно.
– Оборзели совсем, – сказал тот недовольно, имея нас в виду, но вроде смягчившись на уговор своей девчонки.
Мы развернулись и пошли дальше.
Отойдя с полста метров, братик еще раз исхитрился и вдарил кнутом погромче. Корова привычно отбежала несколько метров, и вскоре опять побрела привычным ей шагом.
Случившееся на пруду несколько озадачило – в поселке мы знали всех, и со всеми не первый год держали добрые отношения, благо, что юношества тут было с десяток голов, не больше. Откуда эти двое взялись, мы и понять не могли.
Спросили у деда, он сразу ответил:
– А с Москвы приехали, дом купили, крайний на дальнем порядке. Москвичи, – заключил дед с легким пренебрежением, – Сахаровы фамилие. Мать, бабка и брат с сестрой.
– Сестра! – обрадовались мы с братиком одновременно повернувшись друг к другу. – Она сестра ему!
Едва пригнав корову, мы развернулись и, мелко подрагивая, отправились на пруд.
– Холодновато что-то, – сказал братик хмуро, едва выйдя за ворота.
В сарайке у двора всегда висели старые дедовы пиджаки – мы быстро приоделись, а я еще и кепку нацепил.
Волосы мои белые, аляные падали на лоб, а мне хотелось чуб, как у Есенина, для чего я иногда то носил на глупой юной башке жесткую сетку с винной бутылки, то поливал голову водой и зачесывал прядь со лба назад. Пока волосы были сырыми, чуб смотрелся почти как у рязанского поэта. Но волосы подсыхали, чубчик начинал сначала рогатиться, а потом и вовсе осыпался ссохшейся соломой.
Кепку, в общем, надел я.
Шли молча, в двух словах решив, что если придется – драться будем вдвоем. Взрослого на пару не в западло завалить. По одному с ним никто из нас не справился бы.
Втайне, конечно, драться-то никак не хотелось, чё за удовольствие – нас же к сарафанчику влекло, а не в лоб получить московским кулаком.
Москвичей мы увидели издали – собрав удочки, они неспешно двигались нам навстречу. Мы чуть сбавили ход и приняли вроде как разбитной видок; ноги ж, однако, у нас были вполне себе деревянными.
Братик сплюнул в траву, я несколько раз сжал и разжал кулаки, москвич щурился, разглядывая нас, и слегка улыбался. Расстояние меж нами все уменьшалось, столкновение казалось неизбежным, но девушка вдруг встала, оперлась брату на плечо, сняла тапочку и начала вытрясать из нее сорную крупу.
Осмысленно ли сделала она это, нет ли – кто знает, – но сразу получилось так, что драться стало неуместно.
– Ничё не поймали? – кивнув на пустое ведерко в руках москвича, сказал братик с легкой усмешкой, но без особой издевки.
– А чего это вы оделись как клоуны? – не отвечая ему, ухмыльнулся парень, оценив наши пиджаки. Братику пиджак был великоват, и впопыхах он забыл засучить рукава. А мне, соответственно, маловат – и у меня руки свисали голые чуть не по локоть. И еще эта кепка на голове.
– Юрий Никулин, – кивнул парень на меня, – и Карандаш, – давясь от смеха, добавил, указав сестре подбородком на братика.
Девчонка тоже засмеялась, на обеих щеках у нее обнаружились ямочки. Мы смотрели ей в рот: казалось, что она только что ела мороженое с малиной.
Наконец она бросила тапочку на землю, сняла руку с плеча брата и представилась:
– Верочка!
– Валёк, – подумав, ответил братик.
И я назвался.
Помолчав секунду, парень протянул нам здоровую белую лапу:
– Лёха!
Лёха оказался веселым и приветливым типом шестнадцати лет, в дружбе совершенно беззлобным. Он запросто мог зарядить в челюсть незнакомому человеку по малейшему поводу, но едва ты становился его товарищем – прощал тебе такое, за что другому бы сломал голову.
Верочке давно исполнилось четырнадцать, и пятнадцать были уже недалеки. Эти ее розовые годы вовсю цвели; разговаривая с ней, я всегда смотрел куда-то наискосок – не было никакой возможности удержаться глазами на ее лице: глаза мои, как теплое сливочное масло, сразу начинали соскальзывать вниз и расползаться в стороны.
В наших новых друзьях не было ничего городского, московского – они замечательно просто вписались в деревенскую жизнь. Всякий раз, когда мы с братиком подходили к их дому, Лёха или мастерил за столярным станком, или, сидя на крыше, что-то подбивал там, или вычищал навоз из сарая. Верочка же прибиралась по дому, но, заслышав наши голоса, выбегала с веником, всегда улыбающаяся, махровый на трех пуговицах халатик до колен, ножки в белесом солнечном пушке, на груди ни крестика, ни цепочки.
Мать их с пяти утра была на работе, ложилась спать сразу после вечерней дойки, а бабка безвылазно сидела в доме – в общем, мы их даже не видели. Спросили как-то про отца – выяснилось, что отец Верку и Лёху оставил.
С тех пор Алексей оказался за старшего в семье, так себя и вел.
Но по кой черт им понадобилось продавать квартиру в самой Москве, чтоб перебраться в деревню, купив там дом, корову и кур, мы все равно не поняли.
Во дворе нам четверым было душно и жарко, и мы привычно решали перебираться на свое излюбленное место в недалекой посадке – там тенек и пенёчки, чтоб сидеть, и столик меж пенёчков, если придет в голову раскинуться в картишки. Чего ж еще делать.
– Щас только переоденусь, – говорила Верочка. Это ее «переоденусь» звучало необыкновенно и на минуту останавливало всякое течение мыслей.
– Потом домою! – отвечала Верочка кому-то в глубине дома и сбегала по приступкам нам навстречу все в том же белом сарафанчике. Впопыхах надетая тапочка, конечно, слетала с ноги, тогда Верочка цеплялась рукой за того, кто был ближе – за меня или за Валька, но уже никогда за Лёху. Когда Верочкина рука ложилась на плечо, почему-то отказывала речь, и с трудом произносимые слова поражали своей деревянной бессмыслицей. С тем же успехом вместо ответа «так…» на Верочкин вопрос «как дела?» можно было вскрикнуть, например, «Клац!» или «Гинь!» – в общем, издать любой звук, подобающий сломанному прибору.
Рука вспархивала, и только тогда речь возвращалась.
Дойдя до посадки, пересмеиваясь и подмигивая друг другу, мы раскидывали карты – никогда в жизни я не играл столько, сколько в детстве.
Верочка разглядывала то меня, то братика, постоянно забывая свой ход или ходя невпопад, за что ее раздосадованно отчитывал Лёха.
У Лёхи были светлые, длинные ресницы, круглое лицо, щеки с розовыми пятнами избыточного здоровья. Вконец разозлившись на Верочку, он кидал карты и шел к груше, привешенной им здесь же, – долбил ее с остервенением под дых и боковыми – раз! раз-два-раз! раз!
Потом, тяжело дыша, двигал к турнику, предлагая:
– Гольцы, давайте в «лесенку» сыграем? Сначала по одному подтягиванию, потом по два, в следующий заход – три раза, так до десятки и вниз. А?
Валёк, скептически щурясь, предлагал другой вариант:
– Сахар… – он сразу незатейливо прозвал так Лёху, потому что у них с Верочкой была сахарная фамилия, – …Сахар, давай лучше ты подтягиваешься, а я приседаю. Сначала один раз, потом два, и так до десятки? И кто проиграет, тот кукарекает?
– Ну конечно, хитрец, – добродушно ухмылялся Лёха.
– Зассал, – резюмировал братик, – ссыкун.
Лёха пытался отшутиться, но у братика был хорошо подвешен язык и он с детства умел держать базар.
– Ладно-ладно, мы все поняли, – снисходительно цедил братик, – приехало московское ссыкло. Я тебе нормальный расклад предложил – ты «лесенку», и я «лесенку», сразу бы выяснили, что вы стоите, столичные.
– Давай на турнике, – добродушно повторял Лёха, не умея отшутиться.
– Чего мы одно и то же будем делать? – до невозможности искренне дивился братик. – Давай не лепи тут свои отмазки. Тебе предложили – ты слился. Иди вон на груше повиси, орангутанг.
Необидчивый и не примечающий никакой разницы между собой, шестнадцатилетним, и нами, малолетками, Лёха действительно шел к груше, подпрыгнув, охватывал ее ногами и качался, вопя на непонятном и лесном языке.
Верочка хохотала, не сводя с Валька глаз.
Кажется, он нравился ей больше, чем я.
Дед наш тоже придумал нехитрое прозвище – но для Верочки.
– Как там ваша Сахарина? – спрашивал он, когда мы являлись к обеду.
Мы с Вальком, весело переглядываясь, ели жареную картошечку, закусывая помидоркой и огурчиком. Картошечка пылала, огурчики хрустели, помидорки таяли.
Дед и не настаивал на ответе, он просто так спрашивал.
После обеда шли купаться. Дорога на пляж пролегала через трассу. Привыкшие к земле и травке пятки удивлялись раскипяченному асфальту.
– Ты заметил, что у нее щиколотки толстые? – вдруг спросил братик, мелко ступая и глядя куда-то себе в ноги.
Надо же, я ведь не заметил.
У ладной, в меру булочной, изюмчатой, гибкой Верочки не было этой ланьей тонкости в щиколотках – ножки в этом месте, напротив, были почти круглые, как буратинное полешко. От этого всегда создавалось ощущение, что Верочка очень крепко стоит на ногах.
Братик посмотрел на меня иронично.
– И волосы у нее пахнут чуть-чуть потом и коровником… и парным молоком еще… – добавил он.
Мы оба не любили запах парного молока.
– …Но от этого она только лучше… – завершил братик свои размышления. Вот уже чего я от него не ожидал. Никакой сентиментальности в нем до сих пор не наблюдалось.
Он и сам, наверное, не хотел так засветиться, посему вдруг перевел разговор в иную плоскость:
– А давай Верочку позовем на сеновал?
У меня на секунду потяжелело где-то под ложечкой, и ответа я не придумал, вдруг задохнувшись.
– Ничего не будем делать там, – сказал братик. – Какие-нибудь журналы посмотрим, например…
Честно говоря, в тот год я и малейшего представления еще не имел, а что собственно можно делать с Верочкой. Валёк, похоже, знал, но не распространялся.
Вдохновленные, перебрасываясь никчемными словечками, мы так и шли, и каждый себе представлял, что вот мы с Верочкой на сеновале… Там такая пыль стоит в плотных столбах заходящего солнца… Верочка в сарафанчике… Иногда привстает, отряхивается, и мы все смеемся, будто бы в каком-то предчувствии… Можно погладить ее по руке, вроде бы как случайно, вот. И тут все перестанут смеяться…
У Верочки есть щиколотки. У нее есть затылок, по которому она иногда проводит крепкой ручкой с коротко стриженными матовыми ногтями. У Верочки есть родинка на запястье и родинка на плече. У нее есть два колена, круглые, как маленькие чайные чашечки. Чего только у Верочки нет.
На пляже, странно, не оказалось почти никого – хотя обычно в жаркую погоду там отмокал и стар и млад. Лишь полёживали и покуривали какие-то из соседнего поселка, постарше нас.
Мы поскидывали шорты и быстро уныряли на другой берег, поиграли там в салочки до посинения и, щелкая зубами, отправились обратно.
– Пацаны, вы откуда? – спросил нас на берегу самый взрослый, разговаривая с нами полулежа, с сигареткой в зубах. Губы его криво улыбались.
Мы сказали откуда, глядя ему в зубы.
Их было шесть человек. Один из них, самый мелкий, но, как свекла, крепкий, на кривых стойких ногах, подошел ко мне в упор и слегка толкнул в плечи. Неожиданно, как длинными ножницами, взмахнув ногами, я кувыркнулся и грохнулся на спину. И сразу понял, в чем дело: у меня за спиной, под ногами, присел, согнувшись, другой пацанчик – в итоге легкого толчка хватило, чтоб я уронился.
Валёк чертыхнулся – но делать ничего не стал: без мазы кидаться на шестерых, каждый из которых выше его ростом.
Я поднялся, подошел к воде, зачерпнул, поплескал на спину – саднило, но не так чтоб очень.
Смочив себя, вернулся, присел, натянул шорты и встал, глядя на самого блатного. Тот все покуривал и улыбался.
Мне не было страшно – мне было глупо. Чего я, чего они, чего мы – зачем все…
– Отдай мне свое колечко, – толкнувший меня кивнул на дешевый серебряный перстенек, украшавший мой безымянный на левой.
– Не могу, это… мой, – ответил я миролюбиво.
– А я думал – мой…
– Правда, не могу.
Повисла противная пауза. Я провел ладонью по лицу, будто снимая паутину. Валёк не шевелился и дышал неслышно.
– Что-то мне вас жалко, – наконец сказал самый блатной.
Мы поняли, что можно уходить. И пошли.
Всю обратную дорогу молчали.
Верочка, сеновал – дурь какая. Кому мы нужны на сеновале, недоделки.
Никогда так безрадостно не ходили за коровой.
Кнуты с собой не взяли.
Корова все оглядывалась и удивлялась, куда они делись и отчего мы не пугаем ее больше.
Наваристый июльский вечер тяготил, и комарье нудило отвратительно и обидно. В детской ненависти мы хлопали себя по щекам.
Вернулись домой, вяло поужинали, на прибаутки деда отмолчались. Он и не ждал никогда ответа, ему все равно было весело и аппетитно.
Вышли зачем-то с братиком на улицу, я так долго зашнуровывал ботинки, будто хотел укрепить их на ногах невиданным морским узлом.
Братик влез в калоши и, поплевывая, ждал меня, глядя куда-то в сторону коровника.
Не сговариваясь, сходили в гости к корове, я ласково почесал ей огромный лоб, она похлопала глазами и выдохнула. Валёк пошептался с курами, они откликнулись настороженно.
Выбрели на улицу: там, после животного тепла стойла, ласково и прохладно пахнуло деревом, землей, заходящим солнцем.
– Да ладно, чё ты? – вдруг сказал Валёк. – Херня. Отквитаемся. Умереть теперь, что ли.
Он пошел к воротам. Нехотя я отправился за ним.
Там Верочка все-таки.
По дороге мы заговаривали иногда, отмечая что-то в соседских домах – у кого забор заново покрашен, у кого малинник поломан, – но слова произносили, конечно, из-за того, что молчать было по-прежнему тошно.
За минуту до дома Сахаровых толкнулись плечами и разом споткнулись, услышав бодрый и незнакомый пацанский гогот.
У меня заекало в груди, но ноги сами несли вперед, будто кто-то подталкивал в спину.
Компания сидела на лавочке у дома – Верку и Лёху мы признали, а еще двоих в темноте разглядели не сразу.
– О, мальчишки, – сказала Верочка и подбежала к нам навстречу, светясь в темноте зубками. Верочкины волосы в фонарном свете серебрились и подрагивали.
Ее теплые касания впервые никак не отозвались в теле, которое стало скользким и во все стороны колотило сердцем.
Я смотрел мимо Верочки, через ее плечо, кажется, обо всем уже догадавшись.
Это были наши дневные знакомые – кривоногий, что толкнул меня, и старший, что с нами разговаривал со слюнявой сигареткой на брезгливой губке.
Мы подошли, пожали руку Лёхе, тот сразу подивился:
– Чего-т вы унылые? Мы отсюда слышим каждый вечер, как вы кнутами щелкаете, а нынче тишина была на пруду.
Валёк в ответ пробормотал что-то неразборчивое.
Лёха еще раз внимательно всмотрелся в нас и, ничего не поняв, представил двух новых товарищей, пояснив, что они, как я и думал, с соседнего поселка.
Я стоял к ним ближе и, хотя они не протягивали мне руки, протянул свою сам.
Кривоногий быстро, холодной, но очень сильной ладошкой цапнул мою руку – будто выхватив снулую, перегревшуюся рыбу из воды – и тут же выпустил, улыбаясь при этом во весь недобрый рот, где в странной последовательности толпились обильные и разноростые зубы.
Ладонь старшего оказалась мягкой – и он долго, но мягко держал мою почти безвольную, отсыревшую ладонь, все не отпуская и не отпуская меня.
Верочка кое-как все исправила, разбив наше рукопожатие, будто мы о чем-то спорили, и села на лавочку близко, даже слишком близко к этому самому старшему.
Кривоногий тут же присел с другой стороны и даже чуть приобнял с ехидной улыбкой Верочку за плечи, впрочем едва ее касаясь.
Мы себе и такого никогда не позволяли.
Братик как стоял поодаль, ни с кем не поздоровавшись, так и продолжал стоять.
Старшой скосился на него и сказал:
– Привет, эй.
– Привет, – повторил братик сдавленным голосом, будто только что услышал это новое нерусское слово, смысл которого ему не был ясен.
Все от нас отвлеклись, как-то почувствовав, что толку в общении с нами не будет, и заговорили о своем.
Старший и кривоногий погано шутили, а Верочка заливалась так, как с нами не заливалась никогда. А мне казалось, что только мы и умеем ее смешить.
Уходить было стыдно, стоять невыносимо. Братик первым присел на корточки, следом и я, причем как-то удивительно резко, будто мне разом небольно подрезали сухожилья в ногах.
Лёха что-то спросил у братика, Валёк ему ответил, и они какое-то время негромко переговаривались. Я никак не мог придумать, куда мне деть взгляд, и то смотрел Верке на тапочку, то на первую звезду, то на братика – с таким видом, словно меня очень занимал его разговор с Лёхой. По уму надо было бы встать и пересесть поближе к ним, но и подняться-то было пугливо – вдруг не устою.
Кривоногий в то время пристально вглядывался в меня, и улыбка с его гадкого лица никак не сползала. Один раз он сплюнул, и упало неподалеку от меня. Некоторое время я смотрел на плевок, он почти светился в траве.
– Ну, нам пора, – сказал братик, похоже, обретший в разговоре с Лёхой хоть какой-то голос.
– Чего так рано? – поинтересовалась Верочка.
– На рыбалку завтра, – ответил братик совсем спокойно.
Чуть качнувшись, поднялся и я, вдруг почувствовав, что ноги, как ни странно, могут ходить и готовы в путь.
Лёха, кивнув нам приветливо, побрел зачем-то во двор, вроде как по нужде. Стукнул калиткой и пропал.
Никому не пожимая руки, мы двинулись в сторону своего дома и сразу услышали, как Старший небрежно, с легкой юношеской бархотцой, процедил:
– Мы проводим пацанов.
– Куда это? – не поняла Верочка.
– Сейчас вернемся, – пообещал он.
Некоторое время шли, не сближаясь: мы двое впереди, и те двое за нами. Они еще и пересмеивались между собой.
Потом их голоса, – они болтали непринужденно и громко, – стали приближаться. Мы не оборачивались.
– Э-эй, – сказали где-то почти над ухом, и мне сделали легкую подножку. Я спотыкнулся, но не упал, и мы разом обернулись, я и Валёк.
– Ну чё, пацаны? – спросил кривоногий.
Он стоял лицом ко мне, а его старшой дружок – лицом к братику.
Несколько секунд все молчали.
– А ничего! – вдруг заорал я голосом подростка, внезапно лишившегося рассудка. – Погнали!
Странно, но за малую долю мгновения до того, как рвануться в драку, я решил для себя, что биться мне надо со старшим – он ведь был с меня ростом. А кривоногий должен достаться братику – они тоже мне показались одинаковыми.
Старший, видя мой неожиданный рывок по диагонали в его сторону, сделал шаг, потом другой назад, и оба мои удара – размашистый правой и еще более хлесткий левой – пролетели мимо него.
Спустя еще мгновение я вдруг с восторгом осознал, что, делая огромные прыжки, нагоняю неожиданно побежавшего от меня старшего. Через тридцать метров я его настиг – резко присевшего на землю ко мне спиной и даже закрывшего голову руками. В бешенстве я ударил его несколько раз по затылку, по темени, по затылку.
Выпрямившись и постояв немного, я пошлёпал в сторону братика.
Прыгая из стороны в сторону, но часто попадая кулаками в кривоногого, Валёк страшно матерился. Кривоногий, оступившись, вдруг упал на одно колено, и здесь я его неловко пнул ногой в спину, а с другой стороны братик ловко с ноги зарядил ему в грудь, да так, что слетела калоша.
– Пойдем, Валёк, не хера тут делать, – позвал я его.
– Погоди, калошу найду, – ответил он озабоченно и полез куда-то в кусты.
Кривоногий все это время стоял на колене, не шевелясь, и странно поводя вдоль тела руками. Его старший товарищ не возвращался и голоса не подавал.
Братик вскоре вернулся с калошей в руке, бросил ее наземь, обулся, и легкой трусцой мы побежали домой, хотя необходимости бежать не было никакой. Просто странно казалось так резко остановить взбесившееся сердцебиение. Пробежав чуток, мы остановились и пошли сначала быстро, потом медленнее, потом еще медленнее, потом вообще встали и начали хохотать, захлебываясь галочьей радостью.
В последнем разгаре еще жаркого августа гуляли с Верочкой и Лёхой по лугу, отгоняя оводиный гуд, обходя щедрые коровьи блины, вытирая сладкий пот.
Лёха пошел к дикой груше – в поисках плодов, а мы остались смотреть на Верочку. Тем более что, в отличие от Сахарова, мы прекрасно знали, что до сентября этими грушами можно только кидаться: твердые, мелкие и бестолковые – щебенка, а не груши.
Солнце висело над нами, тяжелое, как сковорода.
Нам с братиком было хорошо – рубахи мы как сняли в июне, так и забыли, где лежат, а Верочка, стоявшая поодаль, иногда дула себе на грудь, чуть поддев пальцами сарафанчик.
– Дала б мне подуть, я бы… изо всех сил дул… до вечера, не переставая, – вдруг негромко сказал братик. – …Лишь бы дала!
Я нехорошо хихикнул, словно икнул.
Лёха, который, как казалось, только что обламывал сучья на груше, пытаясь куда-то там добраться, вдруг оказался возле нас и добавил незлобно, даже с улыбкой:
– Только она никому не дает…
Вдумавшись в интонацию, с которой только что была произнесена эта фраза, я неожиданно услышал в голосе Алексея некоторое, ей-богу, сожаление.
Мы примолки, глядя на усмехающегося Лёху, а тот – ничего, два раза соскоблил крепкими зубами с мелкой, зажатой в его лапе, грушки кожицу, сплюнул разом пожелтевшей слюной и с отвращением забросил грушку в кусты.
– Пасите, – кивнул нам.
Мы вновь обернулись к Верочке. Та стояла к нам спиной и не могла оторвать глаз от того, что теперь видели все мы.
Через поле шли трое вроде как срочников – видимо, возвращались в свою часть, располагавшуюся неподалеку, сразу за насыпью.
Солдатики были смуглы и худы. На ногах у них чернели такие странные летом – тяжеленные кирзовые сапоги. На головах криво налипли пилотки. Ровно никакой одежды на них больше не наблюдалось. То есть совсем. Даже в руках они ничего не несли.
Не видя нас, солдатики не прикрывались.
Верочка, казалось, стала гипсовой – белой, недвижимой и, уверен, неморгающей.
Я сделал шаг, другой, третий и увидел ее лицо: внимательное и спокойное. Она разглядывала солдат совсем неизвестным мне очень прямым и твердым взглядом.
Валёк, не видя ее лица, сипло хохотнул и этим Верочку разбудил.
Она дрогнула плечом и близоруко обернулась к нам, посмотрела сначала на меня, потом на Валька…
Чтобы не идти вослед солдатам, мы двинулись домой другим путем – мимо пруда, где месяц назад познакомились с Верочкой и Лёхой.
Лёха с Вальком заспорили про какую-то мужскую ерунду, я приотстал, поджидая медленно и задумчиво идущую позади всех Верочку.
Лицо ее показалось мне грустным.
Никакая шутка, способная развеселить ее, не просилась ко мне на язык – и вместе с тем я чувствовал странную вину перед ней, непонятно за что.
С тех пор как мы подрались, никто кроме нас с братиком у ее дома не появлялся – только я и Валёк.
Однажды, оглядывая нас, собравшихся на вечерние посиделки, – на этот раз в резиновых сапогах, так как после дождя, – дед сказал весело:
– О. Как гусары. Сахарина растает, когда увидит.
И потом вдруг добавил серьезно:
– Одна беда: вы слишком молодые для нее.
Мы с братиком самолюбиво хмыкнули – кто в тринадцать лет признает себя слишком молодым!
Не знаю, зачем, вспомнив про этот разговор, я вдруг послюнявил безымянный палец на левой руке и поспешно стянул с себя серебряное колечко.
– Верочка, – позвал я.
– М? – подходя ко мне, она подняла лицо, слабо тронутое улыбкой.
– Вот. Это тебе.
Взял ее теплую кисть и, сразу угадав, какой именно пальчик годится, надел девушке колечко на указательный.
Ни в чем не отдавая себе отчет, я быстро поцеловал Верочку в потную, пахнущую травой, чуть липкую щеку – она чуть кивнула головой мне навстречу – и в итоге получилось почти что в губы.
Развернулся и побежал догонять братика с Лёхой.
Догнав их, раздумал останавливаться и побежал дальше.
Пацаны необидно засмеялись мне вслед.
Через неделю Лёха зачем-то укатил в Москву. Мало того, он уехал вместе с матерью, что означало одно: Верочка и бабушка остались вдвоем. Никого больше нет в их доме.
Да и что нам бабушка, бабушка вообще не считается. Мы ее так и не видели ни разу за все лето. Может, она с кресла не встает. Накроем ее простынкой, как дрозда…
С самого утра мы с Вальком затаились в нудном, неотвязном и душном предчувствии. Вечера ждали весь день, без конца забегая домой, чтоб посмотреть на часы – корову было положено пригонять к девяти вечера, но мы не сдержались и пошли за ней на пастбище, когда не было и семи.
Через сорок минут уже выслушивали незлобную ругань деда, который сердился, чего ж мы корову в обед не пригнали тогда.
– Позовет она нас в дом или нет? – не слушая деда, негромко спросил Валёк.
Я пожал плечами. То есть собирался пожать, но они у меня будто подпрыгнули. Братик с сомнением оценил мой жест.
– Ты спать не хочешь? – спросил он на полном серьезе, что в его случае значило готовность к наглой хохме. – Ты там книжку свою не дочитал вроде…
Я раскрыл обиженный рот, чтобы ответить, но, не дождавшись моих слов, Валёк засмеялся; ну и я за ним.
Вечеряли мы в лучшем случае минуты полторы, но, скорей, и того меньше. Не прожевав, хапнули кусок сала, кусок хлеба и, стараясь миновать деда, любившего ужинать с нами, вынырнули в заднюю дверь, ведущую в сад.
Прокрались меж деревьев, перелезли через забор и были таковы.
Отругиваясь на лай соседских собак, заспешили. Я иногда облизывал губы.
Верочкин дом оказался темным и безмолвным.
– Свет выключила и ждет нас, – сказал братик, обернувшись на меня.
В легкой полутьме вдруг показалось, что он все-таки всерьез жалеет, что взял меня с собой.
Мы постучались в окно, совсем негромко, чтоб бабушку не разбудить. Бабушкам ведь положено спать в такое время, пусть почивает себе.
– А давай Верочку развеселим, – предложил братик, не дождавшись ответа из дома. – Заберемся на крышу и позовем ее в печную трубу?
– А бабка? – засомневался я.
– Да не услышит эта бабка ничего, – уверил братик.
Мы вскрыли калиточку, запиравшуюся на деревянный засов изнутри, потыкались в темноте по двору, лестницу не нашли, но от соседского фонаря уже падал свет, и в этом богатом освещении мы обнаружили, что на крышу можно забраться с верстака.
Так и сделали: первым я, у братика чуть не хватило роста, тогда он снизу протянул мне палку, и я вытащил его, уцепившегося за эту палку руками.
Задыхаясь от смеха, мы карабкались по крыше, предвкушая, как сейчас развеселится Верочка.
Обхватив печную трубу, уселись по разные стороны от нее и тут услышали, как со скрипом раскрылась входная дверь в дом.








