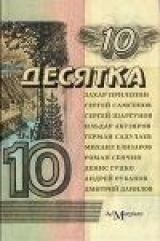
Текст книги "Десятка"
Автор книги: Захар Прилепин
Соавторы: Андрей Рубанов,Роман Сенчин,Михаил Елизаров,Сергей Шаргунов,Сергей Самсонов,Герман Садулаев,Дмитрий Данилов,Ильдар Абузяров,Денис Гуцко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 23 страниц)
ДЕСЯТКА
Антология современной русской прозы
От составителя
Дорогие читатели!
Вы держите в руках антологию современной отечественной прозы с абсолютно на первый взгляд произвольным и личным выбором авторов. Чтобы объяснить свою логику составителя, которая мне кажется, наоборот, объективной и почти единственно возможной, я и пишу это небольшое предуведомление.
Глядя со стороны, кто-нибудь наверняка скажет: вот она, мафия, круговая порука, то-се.
И тут как ни ответь, все найдутся недовольные.
Скажи я, не без комсомольского задора: «…о да, о да, мы поколенье – мы поколенье нулевых…» – тут же спросят, а кто вас, собственно, назначил в поколенье, молодые люди?
Скажу я: нет никакой поруки, потому что из этой десятки половина друг друга элементарно не знает – опять не поверят. Конспирология – любимая наука нового времени, суть ее – не верить глазам своим, но домыслить реальность по вкусу.
Посему отвечу просто.
Отчитаться за «нулевые» решил единолично я, и отобрал своих сотоварищей по литературе тоже я сам.
Все участники «десятки», получившие мои письма с предложением заявиться в качестве одной компании, сразу ответили согласием. Внешний вид, достоинства, недостатки и прочие общечеловеческие качества других участников «десятки» никого, насколько я помню, не смутили. Обычным ответом на мое предложение было: «Да, все ребята отличные, я за».
Принципы, по которым собиралась эта компания, – элементарны.
Во-первых, это писатели, которые начали публиковаться в «нулевые» годы.
Поправьте меня, если я оступился, но, по-моему, в 2000 году одновременно дебютировали Шаргунов, Елизаров и Абузяров. Писатель Данилов появился в 2002 году, Самсонов – в 2003, Гуцко – в 2004, Садулаев – в 2005, Рубанов – в 2006.
Один Сенчин чуть заступил черту и дебютировал в толстом журнале в 1997-м, но это, скорей, статистическая погрешность, да и первая книжка у него вышла в том же 2000.
Во-вторых, это писатели, которые в «нулевые» годы обрели какой-никакой успех, и в том числе – если хватило рук – дотянулись и сорвали себе по подарку с вечно новогодней елки литпроцесса.
В 2001 году Шаргунов взял «Дебют» (и со скандалом передал денежный эквивалент премии Лимонову, сидевшему тогда в тюрьме). В 2002-м Сенчину выдали «Эврику». В 2005 году Гуцко оборвал себе «Русского Букера». В 2008 все того же «Букера» крепкими харьковскими зубами в один укус сгрыз Михаил Елизаров. В том же году Садулаеву досталась «Эврика». И, наконец, в текущем 2011-м, с некоторым запозданием (лучше, чем никогда), Ильдар Абузяров получил Новую Пушкинскую премию.
То есть, чтобы составить эту компанию, достаточно было просто следить за пробегающими мимо литературными ландшафтами.
Никаких иных причудливых форм компанейства тут, милостивые государи, нету.
В первую очередь нет идеологического компанейства – потому что, к примеру, насколько я могу догадываться, политические взгляды Елизарова и Гуцко вообще противоположны.
Другой вопрос, что все собравшиеся здесь так или иначе убеждены в наглядном крахе российского либерального проекта – но покажите мне вменяемого молодого писателя, который в этом не убежден.
Тем более что главное сходство тут, скорей, другое: перед нами люди, по большому счету равнодушно отнесшиеся к деленью на патриотов и демократов. Они сразу выпали из тех парадигм, как из чужого гнезда. Отношение к советской власти для поколения «нулевых» не было определяющим: какая, в конце концов, разница – советский или антисоветский, раз это ничего уже не объясняет.
А вот что именно объясняет наше время – они (мы) и пытались понять, каждый в силу своих возможностей.
Впрочем, с возможностями-то как раз все в порядке, в чем я и предлагаю вам убедиться немедленно.
Захар Прилепин
Сергей Самсонов

Родился 12 декабря 1980 в г. Подольске Московской области.
Окончил Литературный институт им. Горького.
Работал книгопродавцем, копирайтером.
Публикуется с 2003 года в «Литературной газете», «НГ-Экслибрис», в журналах «Знамя» и «Октябрь».
Произведения переведены на итальянский и английский языки.
Библиография:
«Ноги», Амфора, 2007.
«Аномалия Камлаева», ЭКСМО, 2008.
«Кислородный предел», ЭКСМО, 2009.
Одиннадцать
1.
Не было у Бога неба, не было звезд. Над лагерем, запруженным холодным беспощадным белым светом больших прожекторов, над плацем, забеленным снежной крупой, отчаянный, взахлебный, рвущий, рыдающий, ощеренный, клыкастый песий перебрех, не расходясь, стоял – с урчанием вгрызаясь, кусали, рвали, жрали мясо тьмы взбешенные псы ночи, когтились, клацали зубами, упруго-мускулисто бились и хрипели, уже как будто конвульсивно дергались, охваченные спазмами своей же безысходной злобы, сбивались вдруг на совершено человеческую интонацию, затягивая жалобную песню, и было тут уже не отличить, вот в этом всюдном лае, высокого и чистого, будто бы детского, рыдания от злобного хохочущего лая бесноватых, от хохота танцующих на адских сковородках грешников.
Все десять тысяч пленных, поднятых средь ночи и согнанных, сколоченных побоями в шеренги, застыли с непокрытыми башками на плацу: одни – пугаясь предстоящей казни, чуя, как с каждым песьим щелканьем зубами убывает частица твоего прохваченного животным страхом существа… другие – перестав, устав бояться смерти каждый день, до равнодушия, до бесстрашия; последние легко опознавались по лицам будто бы обугленным, по просветлевшим, побелевшим взглядам, обращенным внутрь, глядевшим в пустоту внутри так, будто эти пленные постигли до конца смысл жизни и значение смерти.
Десятка два худых, мосластых пленных в распахнутых дырявых ватниках лежали лицом вниз у ног ярящегося неподвижно штурмбаннфюрера Радомски. Расставив ноги в жарко горящих сапогах, чуть-чуть подрагивая ляжкой и ухмылкой, стоял Радомски на недосягаемой для смертных высоте – прямой, как палка, страшный, будто последний царь земли, в бесстрастном белом сиянии абсолютной власти, которую никто уже не свергнет.
Совсем невидящие, будто от ярости, глаза его бесцветно-пусто, безнадежно переходили с одного распластанного тела на другое: скоты, ублюдки, унтерменши у его начищенных сапог все истекали жалкой тварной дрожью, почти невидимой, но ясно ощущаемой Радомски; один, другой… похоже, все лежали смирно, закаменев в усилии притвориться мертвыми, сцепив синеющие пальцы на затылках – не то напрасно прикрывая головы, не то будто прося пощады. Но нет: один, еще не истощенный до предела работой и голодом, физически здоровый, крепкий от природы, с широкими плечами будто пловца, спортсмена, лежал иначе – напружиненно и чутко, расставив руки широко, упором, будто готовый каждое мгновение вскинуться, вскочить. Радомски с проступившей сильней на губах больной, страдальческой улыбкой как будто не своей волей опустил на кобуру ладонь, рванул и вытащил голодный голоствольный пистолет.
Сегодня вечером вот эти или похожие на этих, как зерна в гречневой крупе, забили до смерти любимую овчарку штурмбаннфюрера. Широкогрудая, переливавшаяся мышцами под черным лоском выглаженной шкуры, пружинисто-стремительная, с божественным чутьем и дивным экстерьером, с отличной стойкой и умилительно-потешной сумрачной мордой, с печальными влюбленными глазами во сто крат умнее человеческих, носилась Альма мускулистой тенью вольно по всему Сырецкому концлагерю, сшибалась мощным телом с полицаями и пленными, прыжком валила с ног слабевших с каждым шагом смертников – да и здоровых, крепких тоже, летела своему хозяину навстречу, напропалую лая, задыхаясь от клокотавшего в груди восторга, напрыгивала, преданно дыша и тычась мокрым носом в руки… нет, не было такой собаки у Радомски и не будет больше никогда. Поехал штурмбаннфюрер в город – в машину прыгнула, прильнула, легла лобастой умной головой на колени, слезливо-преданно моргая… ну как тут устоять? На Институтской, где клала асфальт бригада пленных, почуяла запах съестного в сарае и ринулась. Скоты ее пытались отогнать, и Альма, разъярившись, клацнула зубами, вцепилась и сомкнула челюсти на локте, рвала трещавшего по швам ублюдка, таскала в сторону из стороны за – до кости прокушенную – руку – ее ударили лопатой по хребту и перебили. Все остальное, в общем, уже мало занимало опустошенного потерей Радомски: то, что в сарае был у пленных схрон, и то, что, судя по всему, бригада этих пленных готовила из города побег, и что скоты настолько эти вышли из повиновения, что даже голову разбили одному из полицаев… конечно, нужен был акт устрашения, конечно, нужно было расстрелять, помимо главных виноватых, еще с десяток выродков вслепую, в первой шеренге, через одного.
Полаяли немного полицаи, на родном ублюдочном наречии разъясняя строю пленных, что ожидает каждого из них хотя бы за косой, упрямый, исподлобья взгляд – не то что за злой умысел и неповиновение, и сухо, крепко треснул сквозь рыдающий, взахлебный лай овчарок первый выстрел: Радомски выстрелил сквозь сцепленные пальцы в затылок первому попавшемуся пленному – голова дернулась, и руки медленно сползли, будто стекли, с затылка. После второго скучного неумолимого удара, проделавшего дырку и выбившего мозг, один из пленных, тот, плечистый, сберегший хлесткую пружинистую силу, толкнулся крепкими руками от земли и с беспокойной, ясной пожирающей жадностью заозирался лихорадочно по сторонам… с одной потребностью – убить незнание, сейчасувидеть, кому из пленных размозжили головы.
– Лечь! – прорычал Радомски. – Убрать лицо, скотина! В землю, в землю!
Но этот рослый, крепкий славянин с широкоскулым кованым лицом, вместо того чтобы согласно лечь ничком, встал на колени, ненавидяще, в упор Радомски выедая тяжкими белесыми глазами… безного двинулся, пополз, ощерившись по-волчьи, усильно поднимаясь в полный рост.
– Убрать! Положите его, положите! – Радомски рявкнул, полицаи ринулись, вклещились в плечи этому безумному, ломали, гнули в восемь рук, и все никак не выходило согнуть-сломать, упрятать мордой в землю, убрать лицо, глаза, что вынимали из Радомски дух, что хоронили немца заживо… вот на одном лишь чувстве правоты, на чистой ненависти держался русский, не склоняясь, не ломаясь, хрипел, выхаркивал проклятия на своем наречии, перекрывая страшным матом песий перебрех… в плечах вылущивая руки, все упирался встать, и вдруг рванулось из него, как зверь, бредово-исступленное:
– «Динамо», слышишь?
И пронеслось над массой спаянных молчанием, безответностью людей, крепясь и возвышаясь:
– Слы-ы-ы-ы-шу-у! – И будто эхо загуляло по рядам, подхватывая этот одинокий голос человека: – Слы-ы-ы-ы-шу-у!
Рванулись полицаи, вклинились в ряды, выискивая в молчаливой темной прорве невидимых ответчиков. Пошли гулять дубинки по головам, по спинам пленных без разбора… Радомски с исковерканным, трясущимся лицом махнул охране отпустить и расступиться; так страшен этот русский был, что комендант впервые за войну заторопился с выстрелом; откинутый ударом в грудь, качнулся пленный, но не опрокинулся… и с радостным осклабом слыша отголосок родственного целого, отлично различивши напоследок товарищей, вдруг встал, вдруг тяжко распрямился. Радомски уже было хотел еще раз надавить на спуск, но русский дрогнул, пошатнулся и, будто срубленный под корень, рухнул на лицо.
Бездвижно, сомкнуто, безмолвно стояли серые ряды голодных пленных, и каждый, верно, был исполнен в этой массе сложного чувства радости, что уцелел пока, что жив, и в то же время крепкого, неистребимого стыда за то, что сам не встал перед убийцей в полный рост, всей силой жизни не потребовал с него ответа. Вдруг будто шевеление неясное почудилось, послышалось в рядах – и верно: кто-то силился там выбиться из строя, но перед ним стеснились, не пускали.
– А как же я-то? – бормотал потерянно неугомонный. – А как же я-то, Ваня, Коля?.. Я ж с ними был, мы вместе, заодно. Команда, целое! Давайте, ну!.. давайте, гады, и меня тогда! Пустите! Меня, меня давайте, гад, с ними рядом! – Шла горлом, сдавливала спазмом пустота. Всерьез, всерьез он рвался, чтобы лечь четвертым, – затиснули его, зажали рот, насилу заглушили, усмирили:
– Молчи, молчи, футбол! – на ухо прокричали. – Не надо, пули не выпрашивай!
А полицаи им уже кричали расходиться по землянкам, наподдавали в спины, чтобы двигались быстрее. Что ж делать – строй качнулся, развалился… десятки, сотни, тысячи нестриженых, обритых, завшивленных голов, десятки, сотни впалощеких, остро обтянутых синюшной кожей горьких лиц, и в этой куче, прорве лагерных страдальцев, сделанных лагерем похожими, как капли, друг на друга, лишь с высоты, с беззвездного слепого неба можно было различить разрозненно стоящих семерых, окостеневших, опустевших от своего предательства и все не могущих никак себя нащупать. У всех вот этих семерых в одной мольбе беззвучно, трудно шевелились губы. И еще долго, долго, до инфаркта, до рака легких, легкого исчезновения во сне, до окончательного мрака… после войны, после финалов европейских кубков и всесоюзных первенств-чемпионств, после веселых свадеб многочисленных детей, после рождения внуков им будет это вспоминаться с неслабеющей болью – не зарастало, не могло зажить: вдруг среди ночи с прежней силой рванется сердце прочь, чтобы жить своим биением будто в теле давно умершего и ставшего травой человека, чтоб биться в такт общему пульсу той, давно исчезнувшей, команды. Не рассказать, не втолковать проснувшейся встревоженной жене, зачем встаешь, садишься на кровати в глубокой тишине ночной и в чьи глаза все неотрывно смотришь, повторяя: «ну, простите, простите, что так!»
2.
Шли, шли ощеренной трехгранными штыками нестройной шаткой колонной новобранцы – в туман, сквозь туман, на голос далекого смутного пения, на зов протяжный и глухой будто самой земли, что тяжело, загубленно вздыхала там, впереди, вдали под сапогами фашистской черной нечисти-несмети и будто каждого из сыновей своих просила неколебимо утвердиться на каждой пяди родины, врасти в нее всей силой существа, так, чтоб не оторвать, не своротить тебя ни вражеской живой силой, ни железом.
Грунтовой гнутой дорогой в молчании звучно двигались, о котелки, противогазные коробки прикладами тяжелых длинных трехлинеек звякая порой, – мальчишки больше все, мальчишки в неладно сидящих на них гимнастерках, свежеобритые, со снегириными щеками, с припухлостью на нежных губастых и курносых лицах.
Зов ширился и нарастал, заполонял собой сокращенную туманом отдаленную невидимо страдающую землю и вширь, и вглубь, будто до самого первоистока жизни; зов восходил в незримое за плотной молочной наволочью небо, все явственнее и все неумолимее обозначаясь пронзающей сердце повелительной мелодией. И Клим, шагавший в первой шеренге правофланговым, уже и против своей воли влекся за этой неодолимой грозной музыкой; тоска и раздражение, поднявшиеся в нем от непривычки к воинскому строю, от неприятия душной спаянности в массу – когда чужая воля определяет логику твоих перемещений, – куда-то улетучились, и вещее предчувствие чего-то небывало важного неподотчетно захватило Клима.
Ему прирождена была вот эта тяга к отделению от коллектива, от всякой общности, познавшей силу согласованного образа мыслей и действий, но стоило сейчас колонне их спуститься в широкую низину, где разрозненные малые колонны соединялись в общий строй, в глухие бесконечные ряды живой великой завораживающей силы, как все перевернулось в нем, приобрело обратное значение; совсем уже ясными, сильными стали слова, которые сосредоточенно и строго пропевались безликими сотнями новых бойцов, и кованым железом, капканом захватило грудь, знобящим восторгом прошибло. На смертный бой зовущая, в железный скрут мускулов, веры и воли всех превращающая песня стеной волны ударила в кадык, звуча в неодолимой дали от тебя и в то же время будто и в самой твоей крови, возвысилась и воцарилась над всем миром, гася, уничтожая, вымывая из слуха все другие песни, и шум дыхания уставшего на марше человека, и мелкий шорох под ногами, и крики птиц, и женский смех, который все звенел в ушах мобилизованных мужей и женихов, – лишь беспощадная ломающая кованая поступь накатывала вал за валом на целиком порабощенный слух, лишь звенящая лютая стужа палила, сжигая страх, усталость, слабость, недобрые предчувствия и вялое, тупое, скотское согласие со всем происходящим, и будто начинал ты жить сначала – другим, стальным, отлитым по высшей мерке стойкости и жертвы, отличным прокаленным веществом, не знающим ни личной жадности к существованию, ни дрожи перед смертью.
Сам по себе он ничего уже не значит, – почуял Клим с последней ясной силой, – ничтожно махонький в сравнении с предстоящим важным делом – остановить фашиста и отбросить; лишь в человеческой реке, в железном воинском потоке дано ему теперь существовать и сознавать свое высокое значение, шагать, и петь, и воевать, и упираться, покуда этой человеческой рекой, всем скопом, всем народом, неотделимый от страны, от армии, не обратишь и не погонишь вспять немецкую клокочущую лаву и не прорвешься снова к мирной жизни, в которой сколь-нибудь да допустимо существование людей поврозь.
Все то, чем дорожил Клим в прежней недалекой жизни, все, чем гордился, упивался и тщеславился, – свободное свое искусство, которым создавал он людям праздник, краса и чистота игры, которой он служил, и вечное, с огромным гандикапом, первенство, которое никто не мог оспорить, – мгновенно стало незначительным, пустым, и то же самое, он чуял это ясно, сейчас испытывал любой из тысячи бойцов – с равновеликой чистотой чувства. Не бестолковое уже скопление людей, против охоты согнанных в ряды своими равнодушно-злыми командирами, стояло перед ним и рядом с ним плечом к плечу, а грозное, исполненное гнева и решимости сознательное войско: закаменели, затвердели мягкие застенчивые лица, и чуждой, какой-то нечеловеческой силой веяло от них, великой силой долга, которую не объяснишь и о которой стыдно говорить, а можно только чувствовать и подчиняться ей вне разницы меж принуждением и волей.
В строю напротив различил знакомое до искр из глаз, обрыва сбитого дыхания, до боевых болячек Колино лицо – упрямый давящий, тяжелый взгляд воловьих серых глаз, широкий мощный подбородок с ямкой… уж сколько раз сшибались в воздухе и на траве, коса на камень, два локомотива, и Кольке надо должное отдать, что хоть не шел вперед шипованной ногой и коленом, не бил сознательно и не ломал живой, составленный из мышц, хрящей и сухожилий Климов инструмент… а что кулак пудовый Разбегаева порой втыкался Климу в рыло, в живот подвздох или в грудину, то как без этого, когда одна задача у обоих – во что бы то ни стало мяч достать, вот хоть убить, но первым дотянуться?.. Признали друг друга – вот, значит, нас сколько в колоннах. И Толя был Капустин тут, стоял от Клима через пять голов в строю – двужильный, неуступчивый, расчетливый, безгрешный в передачах и отборе, всевидящий и вездесущий центр поля… и Витька Темников, и Ленька Мозговой стоят вон напротив по левую руку – два коренастых резвых «челнока» «Локомотива». А вон и Макар Кукубенко маячит – большеголовый, маленький, коротконогий, соплей пришибить, вот взглянешь – не поверишь, что главный он соперник Климу в борьбе за звание первого голеадора, неуловимый черт, которого в проходе никто не остановит, хоть все ЦДКА пусть закроет штрафную – найдет себе щелку, прорвется, пройдет…
И строги все, суровы, подобрались в себе собратья Клима, «динамовцы» и «железнодорожники»… так далеко, так близко от сегодняшнего дня – еще вчера, два месяца тому назад, они лежали на берегу Днепра под солнцем яростным, неистребимо-щедрым, и пили кислое вино, и говорили о победах, уже одержанных и существующих в мечтах, и на зеленом поле друг над другом и над большими знаменитыми союзными командами, и на бульварах, в ресторанах – над девчонками… шальной гогочущий табун неистребимо мощных, прочных жеребцов с вечным избытком семени в крепко скрученных яйцах.
Теперь состригли им чубы, волосья, помыли в бане, обмундировали – «отставить, боец», «мала-велика», приговорили к трем неделям сплошной муштры: учились долбить окопы, делать марш-броски, колоть штыком и ползать по-пластунски, а главным образом ходили все, ходили строем, молодцевато отдавая честь, оттягивая грудку, – как будто не к войне готовились – к параду, как будто близок был решительный разгром врага и через месяц только и останется пройтись победоносным маршем по стране на Запад, топча немецкие штандарты и кресты. Клим этого не понимал – одной винтовки на троих румяных хлопцев, пустого щелканья винтовочным затвором, макетов танков и песком набитых чучел; разве такое может заменить им настоящую стрельбу, разве такое может научить их должной выдержке, внушить привычку не пугаться перед железной махиной, в яви наползающей тебя давить, утюжить?.. им полежать бы в самом деле в окопах под скрежещущими гусеницами да побросать болванки и бутылки в башню настоящей проворной разворотливой машины, но только не было сейчас, похоже, у Красной армии на то ни сил, ни времени, ни понимания текущего момента. Заместо этого сполна им доставалось воинственных речей крикливых языкастых комиссаров, что призывали вдребезги разбить зарвавшегося фрица, неувядаемой славой покрыть родные красные знамена. От комиссарских разъяснений обстановки на фронтах в башке у Клима ни черта не прояснялось, а только еще больше все запутывалось: железной стеной встречая – им говорилось на политбеседах – и встречным натиском сминая, перемалывая превосходящие силы противника, наши бойцы наносят немцу гибельный урон в человеческой массе и технике, и скоро враг найдет себе в пределах советской родины погибель окончательную.
Клим слушал о масштабах вражеских потерь и все никак не мог взять в толк, как это немцы при таких потерях еще не встали, не попятились назад, а продолжают жать, давить и продвигаться вглубь страны на протяжении от Ленинграда до Одессы. Это ж какая силища, какая прорва прет, что ни выходит все никак остановить ее и обескровить, да и откуда взяться этой прорве, когда фашистская Германия темнеет на карте мира небольшим пятном, пожалуй, и ничтожным, еле различимым в сравнении с алой, заревой Советской Родиной, владетельно занявшей пол-Земли? Ведь много больше, в десять крат, у нас народу, довольно, чтобы подавить своей массой черную клокочущую жижу и отогнать ее до самого Берлина. И бьем же ведь врага без жалости и устали. Героически трудимся. Все делаем и думаем, как вождь товарищ Сталин нам велит. Поем патриотические песни. А на поверку что? Враг на Днепре, уже под Киевом, под Ленинградом… как же так? Выходит что? – Клим добирался в рассуждениях до преступного, крамольного. Что немцы собраны в неразжимаемый кулак, а мы встречаем их в разброде и слепом шатании, так, будто ноги с головой у нас раздельно. И нет пока у нас таких ума, верховной воли, чтобы достичь необходимой согласованности всех разрозненных частей.
Оно понятно, что фашист готовился втайне и долго к войне, напал вероломно, когда мы мирно спали по домам, и необстрелянные хлопцы еще не скоро воевать теперь научатся. Но только врать тогда зачем, что скоро фрицу полная погибель, что день конца войны не за горами? Зачем народ-то расслаблять, когда его, напротив, надо на продолжительные тяготы настроить? Так, как сейчас настроились бойцы стрелкового полка всерьез на долгую и трудную работу уже поверх вранья и дурости трепливых комиссаров, – уже не речи слыша, не пустые восклицания, а будто зов самой родной земли, звон ее соков, повелительную просьбу припасть, как к матери, собой напитать, всецело передать себя единой вспышкой или же по капле.
Туман сошел, остался лишь в ложбинках, над головой прояснело, засияло, опять зашевелились по команде единым многоногим организмом и стройно двинулись вперед в лад удалым, воинственным, весело-вдохновенным песням – «Шли по степи полки со славой громкой» и «Чайка смело пролетела над седой волной» – влились своей маршевой ротой в запыленный зелено-желтый гимнастерочный поток почти мальчишек и почти что стариков, несущих на плечах, за спинами штыкастые винтовки, стволы пулеметов, станки; и впереди, и сзади на много верст весь тракт был в бритых головах, покрытых желтыми пилотками; стрелковый полк их гнали к местам ожесточенных боев под Конотопом, где наши славные бойцы держали натиск танковой лавины немцев. Гудели редкие грузовики, тянувшие орудия и громыхавшие боеприпасами; знакомые со школьной скамьи слова рвались из сотен глоток, и крепко стукали по грунту башмаки; Клим запевал как правофланговый и, смолкнув, размашисто шагал какой-то срок в молчании, широкогрудый, толстошеий, с мощными ногами, спокойно-безусильно тащивший на загорбке пулеметный ствол; покорность долгу и судьбе владела им. И Толя пел Капустин, и Витька Темников, и Ленька Мозговой.
Движение размеренное, четкое застопорилось вдруг, команду «стой» дал капитан Каравайчук, и лейтенант Фоменко передал приказ – то неширокая речушка, название которой известно только командирам, пересекла дорогу марширующему войску; посторонились, по команде сходя с дороги на обочины и пропуская тяжкие грузовики; бревенчатый, дощатый долгий мост скрипел, постреливал и будто ныл и плакал под колесами.
Клим уже думал закурить украдкой, поскольку сзади шли еще грузовики, как вдруг в одно неуловимое мгновение при совершенно ясном небе возник, донесся издали тяжелый напряженный гул – будто поднявшегося в воздух колоссального разбуженно-разгневанного роя, – пошел на мост, стрелковые колонны набором силы, интенсивности, угрозы, скоробил жутью, знобкой беспомощностью спину, пробрался в пятки, уплотнил весь воздух неба, так что бойцы все враз мгновенно побелели лицами, и кто-то крикнул высоко и заполошно: «Воздух!» И вся колонна, вся орда бойцов раздерганно, разрозненно задвигалась внутри себя, ломая строй, мешаясь и сбиваясь в слепо кипящую бессмысленную кучу, забормотала, покрываясь пузырями ругани и криков…
Великий гул возрос, переходя в противный, пыточный, паскудный, враз вынимающий всю душу рев-и-вой; упавши с высоты, из ниоткуда, фрезой винта распиливая воздух, ширококрылые и остроносые машины фрицев сошли на бреющий, пошли утюжить мост, грунтовку, все наше растянувшееся войско, которое в то самое мгновение только-только и развалилось надвое и брызнуло по сторонам дороги.
Клим ничего не чуял, замер на веки вечные, казалось, средь дороги, в слиянии покорности, безволия, одеревенения стал самому себе не нужен и не слышен… провыли бомбы, пали на дорогу, сотрясши землю, взбросив вкруг себя рыжую грязь и черные сырые комья… по онемевшему лицу хлестнуло крошками и комьями земли, какой-то раздавленной брусникой… вокруг валились, оседали с изумленными, растерянными, жалобными лицами бойцы, подрезанные взрывом; Клим видел все и ничего не мог назвать по имени: там из лица торчали окровавленные желтые мослы, тут, у второго, сорван череп был и вырван мозг, тут пал ничком боец, в спине которого чернела кровью ямка, и можно было целиком впихнуть в нее кулак; с ветвей ветлы от Клима в десяти шагах свисало нечто, не имевшее названия и подобия, – какие-то сопливые блестящие иссиня-розовые нити.
Десятки раненых, парализованных, контуженных пластались и сидели прямо на дороге – как огромные дети, без силы упавшие на пятую точку; десятки других ослепленно, безмозгло метались туда и сюда по дороге, а многие сотни бежали в поля, ища и находя спасение на просторе – упасть ничком в колосья и лежать; бессмысленнее, страшнее, губительнее всего была давильня на самом мосту, который накрепко закупорился пробкой из людей и полыхающих машин – народ толкался, бился, ступал по головам споткнувшихся и распростертых, горел, размахивал руками-факелами, и каждый сам был за себя в людской халве, в стенавшей и хрипевшей массе, которая лягалась, дергалась, бросалась на перила, сжималась, распрямлялась общим телом, подпаленным, изжаленным и рваным… а самолеты немцев уходили и, развернувшись, возвращались добивать, ревмя роняя бомбы, будто по линейке, вдоль грунтовки, и ни один осколок будто не летел, не падал даром, дурой, в пустоту, а находил себе порвать, рассечь, пробить красноармейское, все исходящее бессильной дрожью, тело.
Клим вечность – дление кратчайшее – стоял как столб, ни жив ни мертв и, наконец ужаленный защитным навыком, звериным чувством самосохранения, рванул направо в поле – как был, с пулеметным стволом на загорбке; пригнувшись, прядая спиной и запинаясь о лежащие тела подраненных и мертвых, бежал всей силой из-под настигающего гнета; один неодолимый, чистый ужас твари, которую вот-вот придавят сапогом, которую вот-вот разрежут тяжкой лопатой, владел им, гнал, одна потребность – скорее юркнуть и забиться в щелку, в сухую, пыльную, горячую, немую пазуху земли, так глубоко, в такую материнскую надежную глухую тесноту, что никакой силой его оттуда уже не вырвать и не выскрести. Стать таким маленьким, ничтожным… как жучок… стать никому не видимым… все сгинуло, сгорело в нем – высокий гнев, решимость стоять и сгореть на переднем краю бесстрашным прокаленным кованым и как бы просветленным веществом, бойцом, защитником, куском железа, лишенным общего со слабым устройством человека; все снова в нем перевернулось – вот это тело, мощное, литое, широкогрудое, плечистое, которое всегда мгновенно откликалось каждой мышцей на всякое желание, сейчас хотело жить, во что бы то ни стало остаться целым, не порушенным, не изувеченным. Ворвался в одурь, в жаркую густую пыль неубранных хлебов, запнулся, пал, залег, прижавшись грудью и щекой к земле, как будто меньше, жальче становясь, соединяясь будто в целое со всей ширью, глубиной почвы, с началом жизни всякой, с неиссякаемой кормящей силой, которая его сейчас в себя затянет, надежно скроет, сбережет, как мать в утробе. Земля гудела, содрогалась, сотрясаемая ближними и дальними разрывами; Клим был ничтожно мал и вместе с тем распухший телом во все поле, – столь огромен, что мог гасить своей грудью ее широкие глухие содрогания…
Полк Клима был побит еще на марше, потеряв до трети личного состава под налетом немецких бомбовозов; десятки, тысячи бойцов, не увидав врага, остались лежать по взрытому воронками, забрызганному юшкой тракту, в неубранных хлебах, по долгим вязким берегам проклятой безымянной речки, и это лишь начало бойни, истребления было; никто не знал, что фронта, к которому они на запад шли, уже не существует; только немного от бомбежки отошли, поднявшись из хлебов и подбирая раненых, как тут же Климову полку ударили во фланг и тыл немецкие, невесть откуда взявшиеся, танки.








