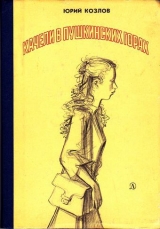
Текст книги "Качели в Пушкинских Горах"
Автор книги: Юрий Козлов
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
Из зеленых шелестящих веток послышался спокойный голос:
– Это исключено.
– Что исключено?
– Я не прыгну…
Один из атлетов скинул куртку и пару раз, разминаясь, присел.
– А если этот… полезет на дерево, я прыгну! Но не на брезент!
– Юлечка! – выдохнула мать.
– Ты же взрослая девочка! – закурил отец, посмотрел на часы. – Мы без тебя никуда не уедем! – сигарета в руке заметно дрожала.
– Я не слезу!
– Почему?
– Потому что я никуда не хочу уезжать! Потому что мой дом здесь!
Брезент под дубом то натягивался, то опадал. Атлеты настороженно следили за Юлиными перемещениями по веткам. Любопытные прохожие начали заполнять сквер. Сначала они вертели головами, потом, рассмотрев в вышине Юлю, ойкали, а некоторые старушки даже крестились.
– Хорошо, – сказал отец Юли, тревожно оглядываясь. – Что ты, собственно, предлагаешь?
– О! – засмеялась с ветки Юля. – У меня имеется прекрасный план…
– В таком случае давай обсудим?
– Давай.
– Но, согласись, мне придется тоже залезть на дерево… – вкрадчиво начал отец.
– Только на третью ветку! – отрезала Юля.
– Почему именно на третью?
– Потому что я же знаю, ты хочешь меня стащить вниз и увезти в Одессу…
Отец вздохнул.
– Хорошо, на третью… – быстро забрался на указанную ветку. Постояв немного, подумал, полез выше. Вскоре их с Юлей разделял какой-нибудь метр. Юля сделала шаг в сторону, покачнулась. Отец побледнел. Юля вскарабкалась еще выше. Она теперь стояла на тоненькой, покачивающей ветке, чуть держась за сучок, едва торчащий из ствола.
– План простой, – сказала Юля, – вы уезжаете в Одессу, а я остаюсь дома с бабушкой!
– Юля, но ты же знаешь, что бабушка… – шелест листьев заглушил подробности разговора, только отдельные слова долетали до Маши. – Больница… в любой момент… семьдесят лет… малость не в себе…
– Я никуда не уеду! – Юля отпустила сучок и секунду-другую балансировала на ветке.
– Хорошо! Мы принимаем твои условия! Сейчас мама позвонит бабушке. Слезай!
– Только когда приедет бабушка!
– Но мы же должны увидеть, что ты благополучно спустилась!
– Увидите из автобуса!
Отец еще раз посмотрел на часы, стал спускаться.
… Через двадцать минут лихое такси вкатило во двор. Из такси вышла бабушка. Автобус отъехал к арке. Только два атлета держали брезент, пока Юля спускалась. На предпоследней ветке она задержалась.
– Все! – сказала. – Теперь-то уж я не упаду. Можете идти, мазилы!
Пристыженные атлеты отошли.
Автобус скрылся.
– Я победила! Победила! Победила! – троекратно прокричала Юля, слезая с дерева. Потом она подняла с земли рисунок и вдруг, отвернувшись к дубу, горько заплакала.
Рыба, Маша, бабушка утешали ее…
Маша вспомнила все это не случайно, потому что именно в тот весенний день, когда цвели в сквере обреченные вишня и яблоня, и началась ее дружба с Юлией-Бикулиной, приносящая столько тревог и печалей. Именно тогда громогласное «я» Юлии-Бикулины, родившееся над сквером, над шелестящим дубом, над цветущими яблоней и вишней, полетело, дробясь и звеня, по окнам и заполнило все воздушное пространство двора. Маша тогда испугалась. Никогда не видела она еще такого смелого «я». Летящее как демон, смелое «я» коснулось Маши, и Машино маленькое, робкое «я», уютно чувствующее себя среди слез и вздохов, немедленно подчинилось. Это произошло мгновенно, еще до того как Юлия-Бикулина узнала, кто такая Маша и как ее зовут.
Сейчас, идя осенней дорожкой Филевского парка, внимая порхающим листьям, Маша размышляла: да как же так получилось, да она ли это, Маша, или какая другая девочка за эти годы безупречно подчинялась Бикулине? Машины ли желания и поступки регламентировались Бикулининым «я» – по-кошачьи зеленоглазым и короткостриженым? Полон недоумения был Машин взор, обращенный в прошлое. Со стыдом вспоминала она, какую холуйскую гибкость проявляло ее старое «я» в общении с Юлией-Бикулиной. Допустим, Маша говорила: «Идем в кино!» – «Нет, – возражала Бикулина, – к свиньям кино, идем дальше по улице!» И Маша, для вида поспорив, соглашалась, и они шли по улице. Неудовольствие, казалось, должна была испытывать Маша. Но нет! Она испытывала странное чувство освобожденности, словно избавившись от безобидного желания посетить кино, она избавилась и от ответственности за саму себя. Легкость лепестка испытывала Маша. Избавившись от ответственности, чувствовала себя… свободной! И уже шла по улице с наслаждением. Мир наполнялся красками, доселе не замечаемыми. А Юлия-Бикулина вдруг заявляла: «Черт с тобой, Петрова, идем в кино!» Но Маше уже совершенно не хотелось в кино! Впрочем, только секунду не хотелось… В кино так в кино, не все ли равно?
Юлия-Бикулина решала все. Юлия-Бикулина привычно несла бремя чужих неосуществленных желаний. Маша вдруг подумала, что это тоже не так уж легко. Иначе, почему так редко улыбалась Бикулина? Зато злая усмешка часто появлялась у нее на лице. Откуда ранняя морщина на челе Бикулины, в которую она по совету матери еженощно втирала голубой австрийский крем? И Маша пожалела Юлию-Бикулину, потому что слезы ее тоже коснулись Маши в далекий весенний день, когда цвели яблоня и вишня.
Все дальше и дальше углублялась Маша в осенний парк, не понимая: откуда в ней эти мысли? С каждым осенним часом слабели нити, связывающие ее с Юлией-Бикулиной, любимой ненавистной подругой, и Маша чувствовала, что это невозвратимо, невозвратимо… «А что, собственно, возвратимо?» – вдруг подумала Маша и сама испугалась. Но этот вопрос, казалось, заключался в самом осеннем мире: струился в чистом воздухе, стая птиц, пролетающая над Филевским парком, несла его на крыльях, пустынная парковая дорожка устремляла вопрос к синему горизонту. «Возвратимы времена года, все остальное нет… Все остальное, как стрела, летит и падает… «Семеркин! – подумала Маша, и воздух стал светлее, листья ярче, самой Маше стало тепло, даже жарко. – Чувства, чувства возвратимы! – мудро подумала маленькая Маша. – Только в них нет порядка. Две подряд весны может быть, а может и подряд сто зим…» Но стоило только Маше подумать о Семеркине, как тут же возникала в мыслях Юлия-Бикулина и начинала воевать с Семеркиным, словно вдвоем им сосуществовать было невозможно. Ценой великих усилий Маше удалось прогнать Бикулину. «Как хорошо, – думала Маша, – что есть на свете такой человек Коля Семеркин…» И тут начиналось новое раздвоение! С одной стороны, Маше очень приятно было думать о Семеркине, смотреть на него в школе, смотреть на него дома, из окна, когда Семеркин выходил гулять со спаниелем Зючом. Зюч носился по двору, а Семеркин ходил следом, но, право же, в немудреном этом гулянии чудесный смысл виделся Маше, и она то краснела, то бледнела у окна за кружевной занавесочкой. И возможно, подними в этот момент Семеркин глаза, увидь он взволнованную Машу, все стало бы ему ясно, но… не смотрел Семеркин на Машино окошко. Такое вот волнение, сладкое обмирание и было с недавних пор тайной стороной Машиного существования, о которой только один человек догадывался – Юлия-Бикулина… С другой же стороны Машу насторожила растущая зависимость от этих семеркинских выходов с Зючом во двор, от семеркинских взглядов, которые Маша ловила в классе и которые были устремлены куда угодно, только не на нее. Короче говоря, Семеркин был вольной птицей, жил как хотел; Маша же с недавних пор вольной птицей себя не чувствовала. И чем вольготнее бродил по школьным коридорам Семеркин, заглядываясь на других девочек, тем беспокойнее чувствовала себя Маша. Одного факта существования Семеркина было уже явно недостаточно. В Семеркине должны были забушевать ответные чувства. Это он, Семеркин, должен подкарауливать идущую по двору Машу, он должен смотреть на нее из окна и комкать в руке занавеску! Что-то надо было предпринимать. И Маша читала Тургенева, читала в изумлении «Красное и черное», читала современных писателей… Иногда она так глубоко задумывалась о Семеркине, что теряла нить реальности, и то, что Семеркин не знает, ничего даже не подозревает об этих ее мыслях, казалось диким и несправедливым. Словно цунами накатывалось на любовно выстроенные Машей городки и скверики. И, справившись с цунами, Маша сидела мрачная и опустошенная, и слезы сами катились из глаз.
Так маятником качались Машины мысли, а ноги потеряли счет шагам. Давно уже Маша миновала Филевский парк и шла теперь вдоль шоссе. Автомобили обгоняли ее, шпиль университета сверкал вдали на солнце, а под ногами желтела умирающая осенняя трава.
Каким образом Юлия-Бикулина догадалась о ее чувствах к Семеркину, Маша не знала. Но особенно и не удивилась. Она давно привыкла, что Юлия-Бикулина разгадывает тайны и читает мысли.
Маша вспомнила далекий весенний день, когда белые лепестки подрагивали на яблоне и вишне, а дуб гудел на ветру, как огромная труба, устремленная в небо.
… Два глаза у весны – ласковый, теплый и – строгий, холодный. В тот вечер весна смотрела во двор холодным синим глазом, и у Маши зябли коленки, и Рыба дрожала в своем платьице. Только Юлия-Бикулина не чувствовала холода. Фарфоровым казалось в сгущающемся воздухе ее лицо, глаза – двумя зелеными листками.
– Ты, новенькая, меня не жалей, не жалей! – приговаривала Бикулина, дергая зачем-то Машу за пуговицу на платье. – Я на дереве сидела, плакала, а думала совсем о другом. Да, плакала я! А хочешь, скажу, отчего плакала?
– Скажи, Би… Биби… – Маша осторожно высвобождала пуговицу.
– Бикулина! – холодно поправляла ее новая знакомая, и словно две металлические болванки стукались, такой рождался звук. – Би-ку-ли-на! – повторила новая знакомая по слогам. – Так вот, я плакала потому, что вдруг поняла, какие они маленькие, слабые…
– Кто? – не понимала Маша и думала: неужели атлеты?
– Родители мои, – продолжала Бикулина. – Смотрела я на них с дуба и так мне их жалко было! Как же так? – Бикулина переходила на шепот. – Из-за того, что балбесы футболисты безобразно играли в прошлом сезоне и отвратительно начали этот, отец должен переходить в одесскую команду, которая тоже неизвестно как будет играть? Я все время у него спрашивала: «Ну а ты сам? Хочешь в Одессу?» А он: «Какое это имеет значение? Надо ехать!» Я: «Тебе надо?» Он: «Всем нам надо! Всем надо ехать в Одессу, и я должен вывести их команду по крайней мере в призеры, чтобы вернуться в Москву. А в федерации я не хочу работать, потому что я тренер, тренер!» И тогда, – продолжала Юлия-Бикулина, – я поняла, что мой отец – слабый человек, и мне стало его жалко…
– Почему же слабый? – стучали зубами от холода Маша и Рыба.
– И тогда я подумала, – не слушала их Юлия-Бикулина, – он слабый человек, потому что не довел до конца дело! Вложил в команду столько сил и не сумел остаться в команде! Едет в Одессу, а ему туда совсем не хочется, значит… Значит, в нем нет гордости! Но должен же быть предел, подумала я. За которым кончается его покорность и начнется он сам… И я поняла, что этот предел далеко-далеко… И тогда… – Юлия-Бикулина многозначительно посмотрела на Рыбу и Машу, – я поняла также, что могу остаться дома! И он с этим тоже смирится! Раз покатился, уже не остановишь… Я все рассчитала. Так что ты, новенькая, меня не жалей, не жалей… – Бикулина снова схватила Машу за пуговицу. – Жалеть-то как раз тебя надо! Переехала в новый дом, в новую школу пойдешь, никого и ничего не знаешь… Как тебя примут? Но ты, новенькая, не бойся, за нас держись с Рыбой, и все будет нормально!
– Наташа! Наташа! Домой, поздно уже! – разнесся в это время по двору женский голос.
– Это меня зовут, – быстро поднялась со скамейки Рыба. – Пока, Бикулина! Пока, новенькая? Тебя хоть как звать?
– Маша…
– Маша… – хмыкнула Бикулина. – У нас уже есть одна Маша…
– Ну и что? – пожала плечами Маша.
– Так у Рыбы кошку зовут! – засмеялась Бикулина, и Маша впервые испытала странное чувство, ставшее, впрочем, потом привычным. Когда не знала она, совершенно не представляла, как реагировать на слова Юлии-Бикулины. Обижаться ли, смеяться? Маша и обижалась и смеялась, но стратегическая инициатива все равно была за Юлией-Бикулиной, которая расставляла акценты второй своей фразой. Если Маша обижалась, Бикулина переводила все в добрую шутку. Если Маша смеялась, Бикулина немедленно обижала ее.
В тот, первый раз Маша неуверенно улыбнулась.
Бикулина тоже улыбнулась, но уже с чувством превосходства.
– Пошли, новенькая! Я тебе кое-что покажу! – Бикулина поднялась со скамейки. Маша тоже поднялась, подумав, однако, что уже поздно, что мама с папой уже успели удивиться ее долгому отсутствию, а скоро начнут волноваться. Новый двор! Первый вечер!
Небо тем временем потемнело и покраснело. И пока поднимались по замызганной черной лестнице на последний этаж, из каждого окна высвечивал Машу этот закат – первый в новом дворе. Юлия-Бикулина перевела дух, толкнула чердачную дверь. Дверь подалась.
– Отлично! – сказала Бикулина. – Вперед!
Маша осторожно ступала следом. Неприятно как-то было на чердаке. «Зачем? Зачем? Зачем я здесь?» – не понимала Маша, а Бикулина наконец достигла цели – огромного круглого окна. Со двора окно казалось безобидным маленьким кругляком, а здесь неземная панорама из него открывалась. Звезды, как свечи, пока только теплились на отвоеванной у заката чистой небесной территории. Дуб в сквере, в ветках которого отстаивала свою свободу Юлия-Бикулина, казался отсюда жалким кустиком, а цветущие вишня и яблоня едва белели. Теперь Маше было понятно, зачем привела ее на чердак новая подруга. Закат! Откуда увидишь еще такой закат?
– Спасибо… – прошептала Маша, однако Юлия-Бикулина не расслышала.
Она зачем-то открыла полукруглую створку окна, и холодный ветер ворвался на чердак. Платье вокруг ног Юлии-Бикулины затрепетало. Юлия-Бикулина высунулась из окна больше чем наполовину.
– Ты что? – испугалась Маша. По решительным движениям новой подруги она поняла, что отнюдь не просто так забрались они на чердак.
– Сначала я, потом ты! – Юлия-Бикулина ступила на подоконник. – На крышу идем. Тут из окна очень удобно, широкая дорожка. Сначала за кирпич держишься, потом за решетку… – и вот уже зеленое платье Бикулины оказалось снаружи.
Маша в ужасе следила, как Бикулина утиными шажками, лицом к стене передвигалась по узенькому выступу, держась одной рукой за выпирающие кирпичи, другой за гладкую стену. Был момент, когда Бикулина отпустила кирпич, а другая ее рука еще не дотянулась до решетки, ограждающей крышу, и Бикулина сделала два шага ни за что не держась. Если бы в этот момент Маша увидела такое зрелище снизу, она бы скорее всего закричала. Здесь же только укусила кулак.
– Ну все, я на крыше, – раздался веселый голос Бикулины. – Давай сюда, новенькая, не бойся, я покажу тебе наш тайник!
– Я? Да… ты что? Я? Туда? – Маша неожиданно начала смеяться. – Я? Туда! Да ты что? – смех неестественный и сухой першил в горле.
– А… Понятно… – Бикулина вернулась обратно, словно перелетела по воздуху. – Тогда в другой раз.
Обратно шли молча. А когда спускались вниз по черной лестнице, Маша вдруг поняла, что неспроста затеяла этот поход ее новая подруга. Маша догадывалась, что именно хотела доказать ей Бикулина, и уже заранее махнула на все рукой. Бороться с Бикулиной было бесполезно, Бикулину можно было только слушаться.
На следующее утро Маша проснулась рано, едва только лучи солнца влетели в незашторенные окна и осветили хаос переезда. Вещи, некогда знающие себе цену и место, толпились в углах, как переселенцы на вокзале, всем своим видом выражая муку и желание поскорее обрести покой. Чужая пыль пританцовывала в воздухе. «Меланхолия» равнодушно смотрела солнцу в лицо и не щурилась. Должно быть, «Меланхолия» видела в данный момент не только солнце, но и луну, западающую за крышу. Бледные лунные контуры размывались мощным напором утренней небесной синевы. Маша не знала который час, но, судя по воробьиным игрищам, по вольному шуму деревьев, по отсутствию за окном человеческих голосов, было очень рано. Маша сунула ноги в тапочки и удивилась, какие они холодные. Платье тоже прошлось по ней холодным утюжком, и только горячая вода в ванной немножко обрадовала Машу. Все, все пока в этой квартире было чужим! Даже собственные родные вещи! Только вода ко всему равнодушна – горячая, теплая, холодная, какая угодно. Нельзя, нельзя верить воде. И равнодушным людям нельзя верить. О ненависть можно разбиться, о злобу споткнуться, а в равнодушии утонуть… Не помнила Маша, где слышала это или читала… «Юлия-Бикулина! – сурово подумала Маша. – Сегодня я тебя испытаю. Ты – закат, я – рассвет. Рано-рано прогрохочу я сандалиями по крыше, пока ты нежишься в постели!» Веселая, отчаянная решимость дрожала в Маше как струна, и прям был ее утренний путь в замызганный подъезд, по черной лестнице наверх. Солнце ободряюще гладило Машу лучами сквозь пыльные окна. Но чердак был хмур. Чердак был вотчиной Юлии-Бикулины и не желал приветствовать Машу. Сухо впечатывались в пыль ее сандалии, серенькая кайма образовалась на красных дырчатых носках. А окно было и того мрачнее. Холодный полумрак стоял в окне, как в аквариуме. И Маша поняла: западная сторона, только вечером приходит сюда умирающее солнце. Не голубь-весельчак, но ворона сидела на карнизе. Противно изогнув шею, вздыбив на затылке черный пух, каркнула ворона и спрыгнула тяжело с карниза и полетела, разрывая крыльями воздух. Маша выглянула в окно, пробежала взглядом узенький кирпичный путь до крыши. Вниз посмотрела, обмерла. Вверх посмотрела, чуть не заплакала, так изумительно цвело небо, так невесомо гуляли в нем хрустальные, прозрачные струи… «Юлия-Бикулина! – печально подумала Маша. – Ты победила… Никогда, никогда, никогда не ступлю я на узенький кирпичный путь…» И тих, и смирен был обратный Машин путь в чужую пока квартиру, где мучались в хаосе родные вещи, где «Меланхолия» не радовалась утреннему солнцу…
Но Юлия-Бикулина была великодушна. Ничем не выказала она Маше своего презрения. Веселый свист заслышала Маша, едва только вышла с портфелем из подъезда и направилась в новую школу, в незнакомый класс. Юлия-Бикулина свистела из беседки, частично скрытой гигантом дубом и цветущими вишней и яблоней. Списывала что-то быстро Юлия-Бикулина, а рядом топталась голубоглазая нерешительная Рыба.
– Здравствуй, Маша! – поздоровалась дружелюбно Бикулина. – Как спалось, какие сны снились?
– Ничего мне не снилось, – зевнула Маша, – я на новом месте плохо сплю…
– А вот Рыбе, – не прекращая стремительного списывания, сказала Бикулина, – приснилось, будто у нее выросли стеклянные ноги… Да, Рыба?
Рыба молчала.
– И куда ты пошла на своих стеклянных ногах? – ухмыльнулась Бикулина.
– Давай списывай быстрей, а то опоздаем! – сказала недовольно Рыба, но Бикулина как бы ее не услышала.
– Представляешь, Маша, – Бикулина взглянула Маше в глаза искренне и радостно, – Рыба пошла на своих стеклянных ногах на футбол… Смешно, правда?
– Мало ли кому чего снится… – ответила Маша.
– Ха! Это же не весь сон! – Бикулина закончила списывать, протянула тетрадь Рыбе. – Что было дальше, Рыба?
Маша удивилась, как душевно, располагающе звучит голос Бикулины, когда она обращается к ней, Маше, и каким холодным и презрительным становится он, когда она говорит с Рыбой.
– Ничего, отстань! – Рыба застегнула портфель и вышла из беседки.
– А дальше было вот что, – взяла Бикулина Машу под руку. – На стадионе, где наша болельщица Рыба наслаждалась игрой мастеров кожаного мяча, она вдруг почувствовала, что стала стеклянной вся! С головы до пят! Она провела рукой по телу и не обнаружила одежды! Вот ведь смех! Рыба сидела на стадионе голая и стеклянная! – Такая едкая насмешка звучала в голосе Бикулины, что Маше начало казаться, что все это происходило на самом деле. Маша даже представила себе голую стеклянную Рыбу на деревянной скамейке на стадионе. И… неуверенно засмеялась. Бикулина схватила ее за рукав.
– Она же идиотка, правда? Она законченная идиотка, если ей снятся такие сны… Эй, Рыба! Маша говорит, что ты идиотка!
– Неправда! – крикнула Маша.
– Ну хорошо-хорошо, я пошутила… – не стала спорить Бикулина. – Рыба! Маша берет свои слова обратно!
Рыба шла не оглядываясь.
– Кстати, – озабоченно спросила Бикулина у Маши. – Из твоих окон видать нашу беседку?
– Какую беседку?
– Господи! Ну ту, которая в сквере!
– Не знаю, а что?
– Если видать, то мы с Рыбой принимаем тебя в наше общество списывальщиков.
– Чего-чего?
– Ну, если ты не сделала, скажем, алгебру или географию, или чего другого, ты бежишь с утра пораньше в беседку и шаришь там под потолочком… Находишь розовый флажок и несколько минут им машешь. Те, кто сделал уроки, я или Рыба, видим это из окна, выходим и даем тебе списать. Понятно?
– Понятно…
Они перешли по подземному переходу проспект, миновали магазин «Рыболов-спортсмен» («Берегись, Рыба! Схватит тебя за хвост спортсмен!» – закричала Бикулина, а Маша неизвестно зачем подхихикнула) и оказались около здания школы, куда Бикулина и Рыба ходили шестой год, а Маша пришла впервые…
Все это вспомнилось сейчас, осенним октябрьским днем, словно фильм показывали, где Маша была в главной роли. И словно в каком-то полусне Маша видела улицу, по которой в данный момент шагала, видела косые столбы света, обрушившиеся на деревья, видела собак, обнюхивающих кучи осенних листьев. Университетский шпиль теперь сверкал прямо над головой. Маша сама не заметила, как пришла на Ленинские горы, и скоро серо-голубое кольцо Москвы-реки открылось ей, Большая спортивная арена и купола церквей, по цвету напоминающие осенние листья. Постояв у гранитного парапета, полюбовавшись на подъезжающие машины, откуда выпархивали, как чайки, невесты в белом и женихи в черном, как грачи, Маша спустилась по асфальтовой дорожке вниз и пошла по набережной. Пусто было на набережной. А потом вдали возник странный человек в белом пальто, на манер докторского халата накинутом на плечи, и в феске.
Однако снова вспомнились далекие весенние дни, и Маша забыла про человека в феске. Никогда еще Маша не предавалась воспоминаниям с такой жадностью, никогда еще не стремилась столь яростно дойти до сути, которую она не могла сформулировать словами, но могла ощутить сердцем. В ней, как казалось Маше, и заключалось нынешнее ее постыдное подчинение Юлии-Бикулине, а также смиренное лицезрение Семеркина, прогуливающегося с Зючом по двору. Однако суть за здорово живешь не давалась. Подобно луковице, сбросила сотню одежек, и, когда настала наконец пора холодного разглядывания, Маша ничего не смогла разглядеть. Слезы, слезы мешали… Слезы оказались сто первой одежкой сути!
Как нежна, как ласкова была Бикулина в первые дни дружбы! Как откровенна!
– Я никого не люблю! – говорила Бикулина, когда они сидели вечером на чердаке. – Когда поняла это, сразу легко стало жить… – Бикулина задумчиво молчала.
И Маша молчала. Настолько не укладывалось в голове то, что говорила Бикулина.
– Даже… свою маму? – спрашивала шепотом Маша.
– Мама и папа познакомились на стадионе, – смеялась Бикулина. – Представляешь, что это было за знакомство? Папа с кожаным мячом, мама в белой юбочке с ракеткой… Хотя она у меня стрелок из лука. Спортивный Купидон сразил их стрелами любви… – смеялась Бикулина. – Мама предсказала папе, что он станет великим футболистом, и так оно и вышло. Когда отыграл свое, предсказала, что он станет великим тренером… Но… Есть еще бабушка, папина мама. Она считает, что папа был бы еще более великим тренером, если бы не мама… У них и споры все о масштабе папиного величия… Мама ради этого величия готова жертвовать собой, вот, без звука в Одессу поехала, а бабушка не только собой, но и всем на свете… Смешно, правда?
– Значит, ты… не любишь маму?
– Для нее папа и муж, и ребенок… А я так… – холодны, сухи были речи Бикулины.
И Машу пронизывал странный холод. Неприютным, недобрым казался мир. Предложи в этот момент Бикулина поход на крышу, Маша бы согласилась…
– Ты не права… – шептала Маша. – Мама не может быть такой…
– Раз я с велосипеда упала, – говорила Бикулина, – пришла домой, вся нога в крови… А мама смотрит по телевизору, как папашина команда играет. Я говорю, вот упала… А она: «Возьми йод, смажь коленку». От телевизора не отрываясь…
– И Рыбу тоже не любишь? – задавала Маша хитрый предварительный вопрос.
– Рыбу? – грустно переспрашивала Бикулина. – Рыбу… люблю. Ты видела, как она рисует?
– Нет.
– Увидишь еще. Рыба говорит: «Не знаю, как бы жила, если бы не рисовала». Рыба смешная… Не такая, как все… Она… Ей… ну… не так уж важно, люблю я ее или нет… Хотя она этого сама не понимает…
– А меня? – тихо спрашивала Маша. – Меня, значит, ты не любишь? Потому что я такая, как все, да?
– Ты? – удивлялась Бикулина. – Откуда я знаю, какая ты?
– Почему тогда со мной дружишь?
Бикулина посмотрела на Машу, словно впервые увидела, и недоумение, словно птица, пролетело между ними.
– Хватит чердачничать, – зевнула Бикулина. – По домам пора.
– Скажи, – задала Маша еще один мучавший ее вопрос, – а зачем у тебя второе имя?
– Сон приснился, что меня зовут Бикулина. Я утром проснулась, подумала: а чем плохое имя? Звучное, гордое… Но как все меня за него дразнили! – качала головой Бикулина. – Будто я не второе имя придумала, а подстриглась наголо…
– А зачем, зачем второе имя?
– А так… Захотелось… Вот представь, – говорила Бикулина, – на небе тучи, а тебе хочется, чтобы звезды горели. Ты ведь их не зажжешь, правда? А придумать второе имя, это же в твоих силах. Почему не придумать, если очень хочется? А что кому-то не понравится… Так плевать на это!
Маша смотрела на Бикулину в восхищении. С недавних пор ее собственный мир напоминал хаос переезда, когда все вещи не на своих местах, отовсюду торчат острые углы и не знаешь, где пыль, а где чисто, на что можно сесть, на что нельзя. Хаос этот повлиял и на Машину манеру говорить. Она поминутно сбивалась, забывала с чего начала, мямлила, путалась, смущалась. Речь же Бикулины была ясной. Бикулина могла объяснить все. И Маша внимала Бикулине, как зачарованная. Общаясь с Бикулиной, она как бы видела незримые каркасы, на которых крепится жизнь. Хаос уступал место ясности. Но какой бесчувственной была ясность! Айсберг, излучая холодное сияние, вплывал Маше в душу. По Бикулине выходило, что всерьез воспринимать родителей – смешно, верить подругам – глупо, прилежно учиться, переживать из-за отметок – это уже окончательный кретинизм.
– А книги читать? – спрашивала Маша.
– Дело хорошее, – соглашалась Бикулина, – только на десять одна приличная попадется… А вообще, – цитировала кого-то неведомого Бикулина, – гора родит мышь!
– Да как же ты живешь? – не выдерживала Маша.
– А твое какое дело? – сурово спрашивала Бикулина. – Этот вопрос маме своей задавай, а не мне!
Еще одну вещь заметила Маша. Зажигалась и вдохновлялась Бикулина только когда предмет разговора ее интересовал. Если же сама Маша начинала что-нибудь рассказывать, в зеленых глазах Бикулины скука стояла, как в омуте. Похоже, она вообще не слышала, что говорит Маша. А Маша смотрела в зеленые глаза Бикулины, и ей казалось, что она погружается в омут, где ни дна, ни поверхности, одна жестокая ясность. Но это притягивало! С именем Бикулины Маша засыпала, с именем Бикулины просыпалась. «Бикулина», – выводили облака по синему небу белую строчку, «Бикулина», – выкладывали ночью созвездия. За зеленый взгляд, за хрипловатый голос, за странные Бикулинины шутки готова была терпеть Маша стыд и позор.
Но май катился солнечным колесом, и Маша стала замечать странности в поведении подруги. Во-первых, чем сердечнее становились отношения Маши и Бикулины, тем ожесточеннее Бикулина преследовала вторую свою подругу Рыбу. Каждый день Бикулина обнаруживала в Рыбе новые и новые пороки.
– Ну зачем ты так с ней? – робко заступалась за Рыбу Маша.
– А чего она ходит с кислой рожей, будто раз я с ней не дружу, значит, конец света настал, – зло щурилась Бикулина, и Маше становилось не по себе.
– Но ведь ты ее любишь, ты сама говорила на чердаке!
– Я-я-я-я? – «я» Бикулины шипело как змея. – Я люблю Рыбу? – И рука Бикулины не то тянулась к Машиным волосам, не то просто делала в воздухе пируэт. – Да, я люблю рыбу… жареную! – хохотала Бикулина, и Маша неизвестно зачем улыбалась.
Во-вторых, все чаще скучала Бикулина на закатных посиделках, все чаще ловила Маша на себе ее недовольный взгляд. Однажды пришла охота Бикулине позабавиться: на подоконник она уселась, свесив ноги вниз, руками ни за что не держась. Этаким Долоховым сидела Бикулина на подоконнике, разведя руки в стороны, гордо выгнув стан. Маша вскрикнула, вцепилась Бикулине в свитер, втащила обратно. Тут же черный круг возник перед глазами, желтые звездочки запрыгали, вздохнуть стало невозможно, слезы выступили – Маша поняла, в солнечное сплетение ударила ее Бикулина.
– Зачем? – ласково спросила Бикулина. – Зачем ты мне мешаешь? Я не люблю, когда мне мешают…
В другой раз Бикулина принесла на чердак полиэтиленовый мешок с водой, и когда показалась внизу какая-то женщина, вылила на нее воду.
– Ты что? – испугалась Маша.
– Ничего, – косо посмотрела на нее Бикулина, – а ты, значит, честненькая у нас, правдивенькая, на такие гадости неспособная…
– А вдруг ты бы оказалась внизу на ее месте?
– Маша-Маша… – простонала Бикулина. – До чего ты мне надоела!
Переживая заново давние обиды, Маша заметила, что сильно приблизилась к человеку в накинутом на плечи белом пальто и в феске. Человек благодушно посматривал по сторонам и время от времени подносил ко рту кривую дымящуюся трубочку. Уже за несколько десятков метров Маша почуяла нездешний аромат табака, увидела синие клубочки, выпархивающие из трубки, и вспомнила фразу из песни, которую часто напевал отец: «Бананы ел, пил кофе на Мартинике, курил в Стамбуле злые табаки…». Маше нравилась песня, и когда она была маленькой, то просила, чтобы отец спел до конца, хотелось узнать, что стало с человеком, который курил в Стамбуле злые та баки, но отец в ответ печально пожимал плечами. Он не знал остальных слов. Маша жалела отца, вспоминала его изречение «синий дым мечты». Так говорил отец о неосуществимом. Стамбул, Мартиника как раз и были синим дымом мечты. В то время отец работал над проектом молодежного общежития для ивановских ткачих. «Жалость и обида – две сестры, – подумала неожиданно Маша, глядя на выпархивающие из трубки синие клубочки, – горьким своим ароматом заглушают прочие чувства…»
К тому времени как Юлия-Бикулина начала охладевать к ней, Маша успела неоднократно побывать у нее дома. Была она в гостях и у Рыбы – Бикулининой подруги-изгнанницы. Сейчас, вспоминая эти посещения, Маша испытывала чувство, что невидимка суть ходит где-то поблизости, как в игре «горячо-холодно». «Горячо» пока, правда, не было, но было «теплее»…








