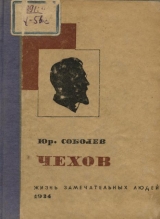
Текст книги "Чехов"
Автор книги: Юрий Соболев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц)
Биограф А. П. Чехова – его брат Михаил, рассказывая о приезде Антона в Москву по окончании гимназии, замечает, что в доме «воля Антона сделалась домирующей. В нашей семье появились вдруг неизвестные мне дотоле резкие отрывочные замечания: «Это неправда», «Нужно быть справедливым», «Не надо лгать» и т. д.».
Эти строки очень выразительны для образа Чехова. Духовно выраставший без семьи, и за годы своего таганрогского одиночества упорно работавший над собой, – ему тогда очень помогали советы старшего брата Александра, – Чехов приобретал такие моральные основы, которые шли в разрез с мещанскими традициями семьи. Ведь и Михаил Чехов, в биографических очерках которого стыдливо замалчивается мещанская атмосфера семьи, свидетельствует, что в доме с приездом Антона впервые появились неизвестные замечания о правде, справедливости, о том, что не надо лгать.
Если дебют Чехова-писателя замечателен той зрелостью творческой мысли, которая сказалась на первых же его вещах, то не менее замечательна для характеристики чеховской личности та прямота суждений, которая сказалась уже и в этих замечаниях, обращенных к семейным. Молодой Чехов не скрывает своей брезгливости к такому укладу жизни, в котором господствует ложь и где допускают несправедливость.
Брат Александр, имевший в гимназическую пору такое значение, потерял в глазах Антона свою недавнюю авторитетность. Александр Чехов был человек сложный и глубоко дисгармоничный. Одаренный блестящими способностями и имевший все данные для того, чтобы стать писателем, он быстро опустился, метался из стороны в сторону и не оставил никакого следа в литературе. Так и остался «братом Антона Чехова». Он умел мыслить независимо, питал острую ненависть к мещанству, презирал «таганрогские обычаи» и был первым нравственным авторитетом для Антона. Но он не умел бороться с жизненными затруднениями, легко поддавался отчаянию и, страдавший болезнью многих русских талантливых людей – алкоголизмом, опускался все ниже и ниже. Вскоре роли переменились – Антон приобретает в глазах Александра тот же нравственный авторитет, который еще так недавно принадлежал Александру. Антон кончал университетский курс, а Александр бросил Москву и стал чиновником таганрогской таможни. Когда-то помогавший Антону устраивать его рассказы в юмористических журналах, он сам теперь обращается за поддержкой к Антону, и Антон усердно ходатайствует за брата в редакциях «Осколков» и «Будильника». Переписка, возникшая между братьями, интересна однако с другой стороны. Александр часто жалуется на свое одиночество, горько сетует на братьев, будто бы его забывающих, и незаметно для самого себя впадает в тот тон прекраснодушия, слезливости и паточности, от которого он некогда предостерегал Антона, вместе с ним издеваясь над высокопарными посланиями дядюшки Митрофана Егоровича. А Антон, в ответ на эти слезницы, очень прямо и очень решительно спорит с братом по самому существу затрагиваемых вопросов. Прежде всего, он негодует на тон письма. Да это и не письмо, а «целый манифест», который по слезливости соперничает с дядиным. Затем Антон обрушивается на брата за его неумение помогать слабым людям. Речь идет о брате Николае – талантливом художнике, но очень нестойком человеке, у которого ни за грош пропадает талант. Так вот, вместо того, чтобы читать нотации и слезоточить, нужно было бы потолковать о его живописи и подействовать на истинно человеческое чувство. «Слабых людей не следует угощать жалкими, тоскливыми словами. От этого слабый человек только раскиснет и больше ничего. Надо найти хорошее и сильное слово». Это наставление говорит о том здоровом отношении к людям, которое росло в Чехове. Чехов часто казался жестким, холодным. Но это только потому, что он боялся сантиментальности и слезливости. И эта боязнь была в нем настолько сильна, что в известной мере она и на самом деле сделала его как бы равнодушным к людям. Он боялся разжалобиться и потому замыкался в самого себя, одевал некую броню, защищавшую его от слезниц и жалоб.
И в том же письме к Александру, в котором речь идет об отношении к слабым людям, – есть замечательные строки о необходимости воспитать в себе чувство гордой независимости. Брат Александр жалуется, что его не понимают. Ему крайне важно знать, как о нем думают братья, отец, а Антон восклицает: «Да какое тебе дело! Тебя не поймут, как ты не понимаешь отца, как раньше не понимал отцовское чувство, не поймут, как бы близко к тебе ни стояли. Да и понимать незачем. Живи, да и шабаш. Сразу за всех чувствовать нельзя».
Брат Александр желает, чтобы вся семья переживала за него и как только видит, что к его чувствам остаются равнодушными, начинает ныть. Дело в том, что «равнодушными» остались в семье Чеховых, узнав о том, что Александр стал отцом семейства, причем семья его, как говорили тогда, была «незаконной». Он не венчан в церкви. Его чрезвычайно волнует, как к этому факту отнесутся дома, а Антон решительно заявляет: «А я бы на твоем месте, буде я семейный, никому бы не позволил не только свое мнение, но даже желание понять, это мое «я», мой департамент, и никакие сестрицы не имеют права совать свой, желающий понять и умилиться, нос. Я бы и писем о своей отцовской радости не писал. Не поймут. А над манифестом посмеются и будут правы».
Сам Чехов никогда никому «манифестов» не писал, а о радостях и огорчениях сообщал только самое существенное, в выражениях лаконичных и только констатирующих самый факт. И потому еще, что в нем до болезненности было развито чувство деликатности, – он боялся своими исповедями кому-нибудь помешать, причинить лишнее огорчение. Но и на него самого неприятно действовали всякого рода излияния, объяснения, пространные рассуждения на «высокие темы». Он хотел бы никогда не слышать человеческих жалоб! Все эти душевные свойства Чехова определились в нем, конечно, не сразу. Шел трудный и сложный процесс воспитания личности, шел по двум направлениям – в освобождении от рабьих, мещанских традиций, и в приобретении собственных точек зрения, собственных взглядов, вне всякой зависимости от прежних авторитетов. Но и это письмо к Александру, датированное 1883 годом, когда Чехов еще только начинал осознавать процесс «выдавливания рабьей крови», замечательно: весь его спор с Александром говорит о необычайной возмужалости, об удивительной зрелости суждений, а ему ведь всего двадцать три года!
В истории взаимоотношений Чехова с его семьей особое место занимает отец – Павел Егорович. Мы знаем, что он глубоко и нежно любил мать и это звучит в его письмах к Евгении Яковлевне. Но как он относился к отцу? В одном из ранних писем к двоюродному брату М. М. Чехову – Антон говорит, что ближе нет для него людей, чем мать и отец: «Славные они люди!» Но к отцу, кроме одной записки, нет ни одного письма Чехова. И по воспоминаниям близко знавших Чехова можно, кажется, утверждать, что, сохранив к отцу сыновнее уважение, он не питал к нему горячего чувства. Павел Егорович был для него носителем тех косных, мещанских традиций, с которыми он боролся всю жизнь. Одной из таких «традиций» было систематическое физическое воздействие на детей. Павел Егорович сек и Антона и его братьев, и мальчиков, служивших в лавке, считая порку и битье совершенно естественными, необходимыми.
Ненависть к насилию, в чем бы оно ни выражалось, проснулась в Чехове очень рано. Вряд ли простил он отцу его систему «воспитания»! И характерно, что в самых ранних рассказах Чехова фигурирует порка, как, например, в рассказе «За яблочки» или в целом ряде миниатюр, в которых порят и бьют детей («Случай с классиком» и др.).
Но не питая нежности к отцу, Чехов очень трезво оценивал его достоинства и недостатки. Он понимал, что отец – натура талантливая, и говорил, что талант в их семье от отца, а сердце от матери. Но он знал, что Павел Егорович – человек старых навыков, старых взглядов. Он «такой же кремень, как раскольники и ничем не хуже, и не сдвинешь его с места. Это его, пожалуй, сила». И нужно отдать справедливость Павлу Егоровичу – он быстро понял, что в каком-то смысле «кремень» и Антон, и, как только убедился, что у Антона достаточно нравственной силы, чтобы стать авторитетом для всей семьи, он без боя сдал все свои позиции. Старшим в семье стал Антон.
В ряду тех моральных проблем, которые разрешал для себя Чехов, один вопрос волновал его особенно – вопрос о «воспитанности». Чехов рано стал осознанно относиться к тому, что он не получил в семье такого воспитания, которое могло бы удовлетворить его высшим запросам. В понимании Чехова воспитание выражается не внешними признаками, не тем, как ведет себя человек в обществе – как он ест, пьет, здоровается. Нет, воспитание основано на каких-то моральных элементах, и Чехов знает на каких.
В огромном письме к брату Николаю изложен целый кодекс тех моральных основ, которые определяют для Чехова понятие воспитанности. Воспитанные люди «уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы, они сострадательны не к одним только нищим и кошкам. Они болеют душою и от того, чего не увидишь простым глазом… Они уважают чужую собственность, а потому и платят долги… Они чистосердечны и боятся лжи, как огня. Не лгут они даже и в пустяках… Они не рисуются. Они не пускают пыль в глаза меньшей братии… Они не болтливы и не лезут с откровенностями, когда их не спрашивают… Они не суетны… Если они имеют в себе талант, то уважают его… Они жертвуют для него покоем, женщинами, вином, суетой. Они горды своим талантом… Они воспитывают в себе эстетику. Они не могут уснуть в одежде, видеть на стене щели с клопами, дышать дрянным воздухом, шагать по оплеванному полу, питаться с керосинки… Они стараются возможно укоротить и облагородить половой инстинкт… Они не трескают походя водку, не нюхают шкафов, ибо они знают, что они не свиньи».
Вопрос о «воспитании» возник благодаря поведению брата Николая.
«Добрый до тряпичности, великодушный, чуждый зависти и ненависти, простодушный, жалеющий людей и животных, не злопамятный, доверчивый», – характеризует Чехов брата. Это бесспорные качества, но скверно то, что брат Николай не удовлетворяет условиям, которые определяют воспитанных людей. Все, на что указывает как на признаки воспитанности Чехов, не было свойственно Николаю. Он призывал его бороться с этими недостатками. «Чтоб воспитаться и не стоять ниже уровня среды, – убеждал Чехов, – недостаточно прочесть только Пикквика и вызубрить монолог из Фауста. Тут нужны беспрерывный дневной и ночной труд, вечное чтение, штудировка, воля».
Николай Чехов погиб быстро. Он был подвержен алкоголизму, что создало благоприятную почву для быстро развивавшегося туберкулеза, который и унес его в могилу. Те признаки воспитанности, которые не были свойственны Николаю, выражали сущность Антона Чехова. Первый признак воспитанности – «уважение к человеческой личности»; он был в полной мере воспринят Чеховым. Не случайна запись в одной из его записных книжек: «какое счастье уважать людей!» Заметим: не любить, а уважать.
Чехов подчеркивает также особое отношение к таланту. Нужно, – говорит он, – уважать талант, гордиться своим талантом.
Чехов мог писать это только пройдя очень большой трудный путь как писатель. Он не сразу воспитал в себе чувство уважения к таланту, и мы увидим в дальнейшем, какое важное занимает место чувство осознания таланта в процессе освобождения Чехова от «рабьей крови».
Во-вторых, пункт – о воспитанных людях, как о людях эстетичных, – тех, которые не спят в одежде, не терпят щелей с клопами, не дышат дрянным воздухом, не шагают по оплеванному полу, не питаются с керосинки. О тех, эстетика которых требует укрощения полового инстинкта.
Эстетика в понимании Чехова – это свежесть, изящество, человечность. Эта мечта об изящной, красивой жизни, мечта о городах, в которых будут великолепные фонтаны, – прошла решительно через все фазы его творчества, потому что она выражала для него самое существенное, самое важное в той борьбе с пошлостью, грубостью, мещанством, которую он так мужественно вел всю жизнь. Мечта родилась от желанья вырваться из той среды, где люди мирятся и с клопами, и с дрянным воздухом, и с оплеванным полом… А все это и есть мещанский быт.
Так по линии прежде всего этической и будет развиваться весь процесс рождения в Чехове того нового человека, который «проснувшись в одно прекрасное утро чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая».
Первая книгаУважение к таланту, которое является, как мы видим, признаком воспитанного человека, отсутствовало в Чехове, когда он «многописал» в годы шатания по юмористическим журнальчикам. Писал «безмятежно, словно блины ел», признается он Билибину. Рукописи не перебелял и выработал в себе такую технику, что мог – на пари – в один присест написать рассказ без единой помарки. Мог писать и лежа в купальне.
Из множества рассказиков, наскоро «выпеченных», он отобрал, как казалось ему, лучшее и составил из них сборник, название которого, в известной мере, определяло и его содержание: «Пестрые рассказы».
Книга уже печаталась, как вдруг совершенно неожиданно Чехов получил письмо от Д. В. Григоровича ( Григорович Дмитрий Васильевич (1822–1899). Известный писатель, один из первых писателей-дворян, давший картины мужицкой жизни (знаменитый рассказ «Антон-горемыка»). Крестьянская жизнь изображалась Григоровичем в тонах сантиментального барского либерализма). Старый писатель говорил, что он «постоянно советовал Суворину и Буренину читать все, что написано Чехонте. Они меня послушали и теперь, вместе со мною, не сомневаются, что у Вас настоящий талант, талант, выдвигающий Вас далеко из круга литераторов нового поколения».
Д. В. Григорович убеждает Чехова бросить срочную работу «так как по разнообразным свойствам несомненного таланта, верному чувству внутреннего анализа, мастерству в описательном роде, чувству пластичности», он уверен, что Чехов призван к тому, «чтобы написать несколько превосходных, истинно художественных произведений». Он уверяет Чехова, что нужно «беречь впечатления для труда обдуманного, отделанного, писанного не в один присест, но писанного в счастливые часы внутреннего настроения. Один такой труд будет во сто раз выше оценен, чем сотня прекрасных рассказов, разбросанных в разное время по газетам. Вы сразу возьмете приз и станете на видную точку в глазах чутких людей и затем всей читающей публики» (25 марта 1886 года).
Это письмо произвело огромнейшее впечатление на Чехова и в несвойственной ему манере «исповеди» он поспешил ответить Григоровичу. Он каялся «перед чистотой сердца» Григоровича в том что «не уважал» свой дар». Чувствовал, что он есть у него, но «привык считать его ничтожным». И он пытается разобраться в причинах этого неуважения. Прежде всего, он ссылается на своих близких, которые «не переставали дружески советовать не менять настоящее дело на бумагомарание». Никто среди его знакомых не видел в нем художника. И он привык смотреть на свою работу снисходительно, соглашаясь с теми, кто утверждал, что она мелка. И вторая причина – он врач и это сильно мешало ему как писателю. И все вместе взятое повело к тому, что он «относился к своей литературной работе крайне легкомысленно, небрежно, зря».
Чехов «не помнит, ни одного рассказа, над которым работал бы более суток». «Как репортеры пишут свои заметки о пожарах, так я писал свои рассказы. Машинально, полубессознательно, ни мало не заботясь ни о читателе, ни о себе самом. Писал я и всячески старался не потратить на рассказ образов и картин, которые мне дороги и которые я, бог знает почему, берег и тщательно прятал». Это очень важное признание, говорящее о том чувстве недовольства самим собой, которое помогло ему отрешиться от неуважения к таланту.
Но еще до получения письма Григоровича Чехов уже стал задумываться над ценностью своих произведений. В феврале 1886 года он поместил рассказ «Панихида» в «Новом времени» А. С. Суворина. С этого момента начинается его постоянное участие в «Новом времени» и долголетняя связь с Сувориным.
Об их взаимоотношениях мы еще будем говорить, а теперь отметим, что Чехов был чрезвычайно благодарен Суворину за то, что он не затруднялся оценкой и написал мотивированное мнение о рассказе.
Так дебют в «Новом времени» и письмо Григоровича стали опорными пунктами для развивающегося в Чехове чувства уважения к своему дару.
«Пестрые рассказы» вызвали целый ряд критических откликов, в общем благожелательных, но среди положительных оценок встречались и резко отрицательные. Так, Ф. Змиев писал в журнале «Новь»: «…просто изумительно до какой степени мало уважают читающую публику нынешние рассказчики, полагая, что она «все съест». Такие рассказы как, например: «Разговор с собакой», «Егерь», «Сонная одурь»; «Кухарка женится», «Репетитор», «Надлежащие меры» и многие другие – похожи скорей на полубред какой-то или болтовню ради болтовни об ужаснейшем вздоре, нежели на мало-мальски отчетливое изложение осмысленной фабулы…».
Дал отзыв в «Северном вестнике» и популярный тогда критик Скабичевский ( Скабичевский Александр Михайлович (1838–1910). Критик, автор «Истории новейшей русской литературы» (1848–1908). Здесь статьи Скабичевского о Чехове. Вопреки распространенному мнению о Скабичевском, как о критике, отрицавшем у Чехова наличие «идей», следует отметить, что статья его «Есть ли у Чехова идеалы?» отвечает на вопрос, признавая за Чеховым определенное художническое миросозерцание). Этот отзыв в биографии Чехова занимает свое довольно отметное место. А. М. Горький вспоминал о том разговоре о критике, который вел с ним однажды А. П. Чехов, говоривший: «Критики похожи на слепней, которые мешают лошади пахать землю. Я двадцать пять лет читаю критику на мои рассказы, и ни одного ценного указания не помню, ни одного доброго совета не слышу, только однажды Скабичевский произвел на меня впечатление: написал, что я умру в пьяном виде под забором».
Что же в действительности писал Скабичевский?
Он начинает с предостережения о соблазнительности легкого заработка авторов мелких рассказиков, написанных в тоне «скоморошеских потех». Такие «рассказы производят грустное впечатление не потому, что они плохи, напротив, именно потому, что весьма многие из них обличают молодой, свежий талант, не лишенный юмора, чувства наблюдательности. Но вот человек начинает зарабатывать 400–500 рублей в месяц, талант бледнеет, писатель обращается в легкомысленного барабанщика, в смехотворного клоуна для потехи праздной толпы. Сперва таким работникам сопутствует успех, а потом, когда газетный писатель начинает терять популярность, так как переутомление берет свое, – то дело кончается тем, что он обращается в выжатый лимон и подобно выжатому лимону ему приходится в полном забвении умирать где-нибудь под забором, считая себя счастливым, если товарищи пристроят его за счет Литературного фонда в одну из городских больниц».
От этих общих примеров Скабичевский переходит непосредственно к рассуждениям о Чехове, которого он сожалеет и по адресу которого восклицает: «Как жалко, что при первом же своем появлении на литературном поприще он сразу записался в цех газетных клоунов». Правда, оговаривается критик, Чехов «в качестве клоуна держит себя очень скромно и умно – не впадая в скабрезность, чужд пасквильного элемента, не льстит, одним словом, никаким низменным инстинктам толпы…» Но критику именно поэтому еще более жалко Чехова. «Увешавшись побрякушками шута, он тратит свой талант на пустяки и пишет первое, что придет ему в голову, не раздумывая долго над содержанием своих рассказов».
И вывод: «Вообще книга Чехова, как ни весело ее читать, представляет собою весьма печальное и трагическое зрелище самоубийства молодого таланта, который изводит себя медленной смертью газетного царства» («Северный вестник», 1886, книга 6).
Могла ли эта рецензия оскорбить Чехова? Могла. И напрасно пытаются некоторые исследователи творчества Чехова раннего периода взять под защиту Скабичевского. Кто спорит, что советы сердитого критика, предостерегающие молодые дарования от соблазнительности газетных легких заработков, полезны. Впрочем, сам Чехов еще до появления отзыва о его «Пестрых рассказах» болезненно ощущал необходимость срочного выполнения заказов редакций и знал, не хуже Скабичевского, какая участь ожидает «газетчиков» – ведь на его глазах умирал Ф. Ф. Поподугло, о котором действительно можно было бы сказать словами Скабичевского, что этот измотавшийся труженик мечтал, как о последнем счастье, устроиться в больнице, чтобы не погибнуть как выжатый лимон где-нибудь под забором. Нет, эти справедливые, хоть и глубоко риторические, рассуждения критика ничего, кроме досады, не могли вызвать в Чехове. Скабичевский признает за ним талант, но пророчит ему участь «клоуна из газетного цеха», и Чехов оскорблен, что он взят «за общую скобку». А ведь Чехов здраво и трезво смотрел на свое многописание. Но и при всей самокритике, в нем сильно развитой, вряд ли мог бы он согласиться со Скабичевским, что все рассказы в сборнике написаны с целью повеселить «почтеннейшую публику».
Среди семидесяти семи вещиц, помещенных в сборнике, мы с трудом наберем не больше десяти рассказиков, действительно ничтожных и составляющих тот пестрый сор, который самим Чеховым впоследствии был выброшен из редактируемого им собрания своих сочинений. В основе же книги такие перлы чеховского юмора, который моментами поднимается до яркости подлинной сатиры, как «Налим», «Толстый и тонкий», «Капитанский мундир», «Хамелеон», «Певчие», «Экзамен на чин», «Канитель», «Заблудшие», «Егерь», «Злоумышленник», «Мыслитель», «Отец семейства» (в сборнике этому рассказу дано название «Козлы отпущения»), «Кухарка женится», «Пересолил», «Шило в мешке», «Детвора», «Актерская гибель», «Анюта», «Лекция о вреде табака», «Иван Матвеевич» и две – поистине трагических – новеллы «Горе» и «Тоска».
Нет, у Чехова были все основания, чтобы навсегда запомнить рецензию. И несомненно, что старая обида чувствовалась в Чехове, когда, спустя много лет после появления отзыва Скабичевского, он говорил в письме к одному из своих знакомых: «Я Скабичевского никогда не читаю. Мне попалась недавно в руки его «История новейшей литературы», я прочел кусочек и бросил – не понравилось. Не понимаю, для чего все это пишется. Скабичевский и К 0– это мученики, взявшие на себя добровольный подвиг ходить по улицам и кричать: «Сапожник Иванов шьет сапоги дурно». Или: «Столяр Семенов делает столы хорошо». Кому это нужно? Сапоги и столы не станут от этого лучше. Вообще труд этих господ, живущих паразитарно около чужого труда и в зависимости от него, представляется мне сплошным недоразумением» (письмо к Ф. А. Червинскому, 2 июля 1891 года).








