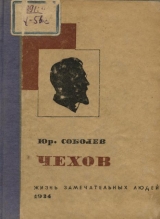
Текст книги "Чехов"
Автор книги: Юрий Соболев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)
Суворин пленил не одного Чехова. К нему восторженно относился, например, И. Л. Щеглов-Леонтьев и Чехов, вполне разделяющий его чувства, в свою очередь поет в честь Суворина целый гимн:
«…Быть с Сувориным и молчать так же не легко, как сидеть у Палкина и не пить. Действительно, Суворин представляет из себя воплощенную чуткость. Это большой человек. В искусстве он изображает из себя то же самое, что сетер в охоте на бекасов, то есть работает чертовским чутьем и всегда горит страстью. Он плохой теоретик, наук не проходил, многого не знает, во всем он самоучка – отсюда его чисто собачья неиспорченность и цельность, отсюда и самостоятельность взгляда. Будучи беден теориями, он поневоле должен был развить в себе то, чем богато наделила его природа, поневоле он развил свой инстинкт до размеров большого ума. Говорить с ним приятно. А когда поймешь его разговорный прием, его искренность, которой нет у большинства разговорщиков, то болтовня с ним становится почти наслаждением. Ваше Суворин-шмерц я отлично понимаю». (Из письма к И. Щеглову. 18 июля 1880 года.)
За Суворина и против… «Нового времени»Чехов болезненно относился к разговорам, которые шли вокруг его отношений к Суворину и участию в «Новом времени». На этой почве у него возникло недоразумение с Н. К. Михайловским, одним из редакторов «Северного вестника».
Михайловский, прочитав в корректуре «Степь», тотчас же откликнулся большим письмом, в котором, выражая свое искреннее восхищение перед отдельными кусками повести, говорил, что Чехов совершил грех, разрываясь на клочки. «Читая, – пишет ему Н. К. Михайловский, – я точно видел силача, который идет по дороге, сам не зная куда и зачем, так – кости разминает, и, не сознавая своей огромной силы, просто не думая о ней, то росточек сорвет, то дерево с корнем вырвет. Все с одинаковой легкостью и разницы между этими действиями не чувствует».
Михайловский признает, что Чехов – сила. Но сила бывает мрачная (Достоевский) и ясная (Толстой до своего повреждения). Сила Чехова – ясная, она злу не послужит, не может послужить, и Михайловский поражен чеховской неиспорченностью, потому что «не знал школы хуже», той, которую Чехов проходил в «Новом времени» и «Осколках» и пр.
Грязь к Чехову не пристала, но «школа сделала, однако, что могла – приучила к отрывочности и прогулке по дороге, незнамо куда и незнамо зачем». Михайловский уверен, что это должно пройти, и Чехов не только не послужит злу, а прямо послужит добру, тогда ему предстанет блестящая будущность. И в заключение он призывает Чехова не возвращаться ни на минуту на этот путь разбрасывания себя на клочки. «Не то, чтобы вы непременно писали большие вещи, пишите, что хотите, – убеждает Михайловский, – пишите мелкие рассказы, но вы не должны, не смеете быть дилетантом в литературе, вы в нее должны душу положить».
Письмо обидело Чехова. А. С. Лазарев-Грузинский передает любопытнейший разговор, который он имел с Чеховым по поводу Михайловского, намеки которого на Суворина («не знаю школы хуже той, которую вы проходили») – были ему крайне неприятны. Чехов сказал, что много раз начинал и рвал ответ Михайловскому. Он прочел Грузинскому черновые отрывки своего ответа и Грузинский уверяет, что хорошо помнит основные мысли Чехова.
Чехов писал, что не чувствует никакой антипатии к «Новому времени», но если бы и чувствовал, – не затруднился бы печататься там, потому что слишком многим обязан Суворину, чтобы уходить от него. Когда он был слаб и неизвестен и страстно карабкался вверх, никто не протянул ему руки, никто не пришел на помощь. Это сделал один лишь Суворин.
Прочитав свой ответ, Чехов добавил с досадой:
«Далось им «Новое время»! Ведь поймите же, тут может быть такой расчет. У газеты пятьдесят тысяч читателей – я говорю не о «Новом времени», а вообще о газете – этим пятидесяти, сорока, тридцати тысячам гораздо полезнее прочитать пятьсот моих безвредных срок, чем те пятьсот вредных, которые будут итти в фельетоне, если своих я не дам. Ведь это же ясно! Поэтому я буду писать решительно в каждой газете, куда меня пригласят» ( Воспоминания Грузинского-Лазарева в газете «Русская правда» № 99, 1904).
Ответ, который так трудно давался, Чехов все же послал Михайловскому. До нас он не дошел, но в Чеховском архиве сохранилось второе письмо Михайловского, по которому можно восстановить основные пункты чеховского возражения.
Чехов, прежде всего, указывал на отсутствие у него целостного политического миросозерцания – «определенной веры».
«Я ничего не могу возразить против отсутствия в вас определенной веры, – на нет и суда нет», – отвечал ему на это Михайловский.
Второй пункт возражения – это ссылка на личные отношения с Сувориным. По этому поводу Михайловский пишет:
«Не считаю себя, разумеется, вправе касаться ваших личных чувств с Сувориным».
Третий – и главный мотив чеховской защиты против нападок на его участие в «Новом времени» в его письме был изложен так, как передает и А. С. Лазарев-Грузинский. У Михайловского читаем:
«Позволю себе не согласиться с одним Вашим аргументом. Вы пишите, что лучше уж читатели «Нового времени» получат Ваш индиферентный рассказ, чем какой-нибудь недостойный ругательный фельетон. Без сомнения, это было бы лучше, если бы Вы в самом деле могли заменить собой что-нибудь дрянное. Но этого никогда не будет и быть не может. Ради Вашего рассказа не изгонится ни злобная клевета Буренина, ни каторжные писания Жителя ( Житель-Дьяконов, Л. П. Петерсон, сотрудники «Нового времени»), ни патриотическая наука Л. П. ( Житель-Дьяконов, Л. П. Петерсон, сотрудники «Нового времени»), я думаю, Вы сами с этим согласитесь. Ваш рассказ поступит в общий котел, ничего собой не заменив и не изменив. Вы своим талантом можете только дать лишних подписчиков и, стало быть, читателей Буренину, Жителю, Л. П., которых Вы не замените, и разным гнусным передовицам, которых Вы заменить не пожелаете. Колеблющиеся умы, частью благодаря Вам, въедятся в эту кашу и, привыкнув, найдут, что она не так уж дрянна, а уж чего дрянней!»
И был очевидно еще один пункт в чеховском ответе, может быть, наиболее важный для уяснения тех внутренних мотивов, которые приводил Чехов в свое, если так можно выразиться, оправдание. Чехов принял укоры Михайловского, как проявление той «аристократической брезгливости», которая свойственна людям определенной веры, не прощающим ошибок тех, кто еще не успел избрать определенного пути. В этом «аристократизме» скрывается для Чехова та «узость» партийной мысли, против которой он выступал, доказывая свое право быть «свободным художником и только». Мы не знаем, что собственно писал Чехов по поводу «аристократизма» Михайловского, но из контекста его ответа можно понять, что речь шла именно об этой «узости мысли».
Михайловский отвечает Чехову: «Вы говорите об аристократической брезгливости ясной силы, не делающей чести ее сердцу. Здесь нет аристократизма, Антон Павлович, а сердце есть, – сердце и участие к тем, кто по тяжелым обстоятельствам времени вынужден ежедневно питаться гнусностями. Не индиферентны Ваши рассказы в «Новом времени» – они прямо служат злу».
Переписка оборвалась и на отношениях Чехова к Михайловскому на всю жизнь легла некоторая тень. Что Михайловский, много впоследствии писавший о Чехове, в некоторых своих оценках был недостаточно широк и не понимал всей значительности чеховского творчества в целом, – это не подлежит никакому сомнению. Но не подлежит никакому сомнению и то, что его доводы против участия Чехова в «Новом времени» вполне разумны. Михайловский нащупал правильно наименее защищенную позицию Чехова: его постоянные ссылки на то, что Суворин дорог ему «сам по себе», лично как Суворин – талантливый литератор и увлекательный собеседник, а «Новое время» ему чуждо.
В течение многих лет он будет пытаться отделить Суворина от его газеты. Но когда он станет нападать на нововременцев, он воспользуется эпитетами… Михайловского. Так, Чехов скажет по поводу Жителя – «каторжный Житель» – забыв, что это определение принадлежит Михайловскому и что сам он, Чехов, еще недавно писал Суворину по поводу этого же Жителя следующее: «Житель прислал мне свою книжку. Я просил об этом. Хочу прочесть его в массе. Мне кажется, что время его еще не пришло. Может служиться, что он станет модным человеком». (19 декабря 1888 года.)
Когда Чехов только начинал свое сотрудничество в «Новом времени», то искренне думал, что Суворина нужно спасать от… «Нового времени».
Надо иметь в виду, что Суворин был натурой сложной, не без истерического кликушества и не без вкуса к самообличениям и самоистязаниям. В этом отношении его «Дневник», частично опубликованный, дает любопытнейший материал. Здесь целый ряд страниц – сплошь покаянные речи, в которых старик не жалеет злых слов по собственному адресу и ядовитых замечаний насчет сотрудников «Нового времени».
Сам Чехов при всяком свидании говорит с Сувориным откровенно и думает, что эта откровенность не бесполезна. Вряд ли была она полезной, потому что года через два, когда Суворин стал печатать его повесть «Дуэль» в фельетонах «Нового времени», но не только по субботам, как это было заведено, но и по средам, то это вызвало такую бурю возмущения среди нововременцев, что Антон Павлович вынужден был написать брату, чтобы Суворин отменил новый порядок – отдал среды другим сотрудникам.
«Разве они мне нужны, – восклицает он, – они мне так же не нужны, как и мое сотрудничество в «Новом времени», которое не принесло мне как литератору ничего кроме зла. Те отличные отношения, какие у меня существуют с Сувориным, могли бы у меня существовать и помимо моего сотрудничества в газете». (Из письма 24 октября 1891 года).
И тут же он объясняет причины, побудившие его согласиться на помещение «Дуэли» два раза в неделю: за ним числился крупный аванс, да кроме того он был «великодушен и не печатался около двух лет, предоставляя 104 понедельника и 104 среды и Петерсону и Каторжному Жителю».
И все-таки из «Нового времени» Чехов не уходил, потому что «был привязан к Суворину, к тому же, как вырвалось у него однажды в письме к Григоровичу, ведь «Новое время» – немалая пресса».
Но может быть, суворинское влияние не принесло того зла, о котором говорил Чехову Михайловский? Нет, принесло. Оно на несколько лет затормозило его борьбу с внутренним рабом, наложило отпечаток на его политические взгляды, отразилось в его этике, нашло свой отклик в его суждениях об общественных явлениях. Это Суворин наговорил ему, что во всех толстых журналах «царит кружковая партийная скука» – в них душно – и Чехов в свою очередь заявил, что «не любит толстые журналы и не соблазняется работать в них» и делал при этом вывод: «Партийность, особливо если она бездарна и суха, не любит свободы и широкого размаха», – как он и писал Плещееву 23 января 1888 года.
Но ведь и Суворин – в своей рецензии об «Иванове» ( Эту рецензию Чехов ценил «на вес золота», как говорил он Суворину. – Суворинская рецензия перепечатана из «Нового времени» в книге Юр. Соболева «Антон Чехов – неизданные страницы», М., изд. «Северные дни», 1916, стр. 87–90) (после постановки пьесы в Петербурге на Александринской сцене), сообщая некоторые биографические подробности о Чехове, в высшую похвалу вменил ему то, что «Чехов не лазил к авторитетам журнализма за освящением своих начинаний и когда появилась первая книжка его рассказов, один толстый журнал строго погрозил ему погибелью за то, что он не сохраняет традиций и не подходит под благословение архиереев, управляющих епархиями русской мысли на полях толстого журнализма. Но он не испугался угроз и сохранил свою музу во всей неприкосновенности и независимости».
И еще о Чехове писал Суворин: «Миросозерцание у него совершенно свое, крепко сложившееся, гуманное, но без сантиментальности, независимое от всяких направлений, какими бы яркими или бледными цветами они не украшались… Ничего отравленного какими-нибудь предвзятыми идеями нет у этого талантливого человека… Он сам как будто хочет сказать, что надо жить просто, как все и вносить свои лучшие намерения в развитие этой простой, обыкновенной жизни, а не тратить их на подвиги несоразмеримые и без пути не стремиться зажигать моря».
Разве не угадывается в этих суворинских комплиментах та философия «Нового времени», которой был отравлен Чехов? И намек на «архиереев, управляющих епархиями русской мысли на полях толстого журнализма», и определение чеховского миросозерцания как «независимого от всяких направлений» и даже облыжные утверждения, что Чехов «призывает не тратить лучшие силы на подвиги несоразмерные», – все это из передовиц «Нового времени», и Чехов, когда пишет о неприязни своей к «партийности», то он имеет, конечно, в виду либералов, а вовсе не нововременцев.
Послушайте, как отзывается он о редакторах «Русской мысли» ( Либеральный журнал, издаваемый Лавровым и редактируемый В. Гольцевым в девяностых годах): они – невоспитаны, недогадливы, грошевый успех запорошил им глаза, они «только одно могут дать охотно – конституцию», у них – узкость, большие претензии, чрезмерное самолюбие и полное отсутствие литературной и общественной совести! Они – под флагом науки, искусства и угнетаемого свободомыслия сделают то, что «у нас на Руси будут царить такие жабы и крокодилы, каких не знавала даже Испания во времена инквизиции». Редакторы-либералы – всплошную неудачники; в своих журналах они ввели унылую цензуру, они «литературные таксы», помесь чиновников-профессоров с бездарными литераторами». И вообще, в «Русской мысли» сидят не литераторы, а копченые сиги, и т. д. и т. д. Все это мы читаем в письмах Чехова к литератору А. Н. Маслову, поэту А. Н. Плещееву и, конечно, А. С. Суворину, в 1887 и 1888 годах.
Да, конечно, Чехов не либерал, и нужно будет пройти целому десятилетию, прежде чем он освободится от этой своей предвзятости, потому что иначе чем предвзятостью нельзя и назвать отношение Чехова к либеральным журналам. Впрочем, он и в неприятии либерализма остается на позиции чисто этической, моральной. Он спорит с Сувориным, утверждающим, что «презреннее нашей либеральной оппозиции ничего выдумать нельзя». «Ну, – спрашивает Чехов, – а те, которые не составляют оппозицию?» И отвечает: «Едва ли эти лучше», – объясняя почему: «Мать всех российских зол, это грубое невежество, а оно присуще в одинаковой степени всем партиям и направлениям».
И оказывается, что в его широкую программу, в которой он заявляет о своей непричастности ни к либералам, ни к консерваторам, ни к индиферентистам, ни к постепенновцам, нужно внести дополнение: он культуртрегер. Он и А. С. Суворина уважает именно за то, что тот «хвалит немецкую культуру и подчеркивает всеобщую грамотность». (Из письма к А. С. Суворину, 28 октября 1889 года).
Фосфор и железоГораздо быстрее, чем освоение элементарных политико-социальных истин, развивается в Чехове процесс освоения этических норм. Это идет, прежде всего, по линии критической самооценки. Он признает себя «из всех ныне благополучно пишущих россиян самым легкомысленным и несерьезным». Он кается перед В. Г. Короленко в том, что «свою чистую музу любил, но не уважал, изменял ей и не раз водил ее туда, где ей не подобает быть». (Из письма к В. Г. Короленко 17 сентября 1887 года).
А оглядываясь на целое пятилетие литературной работы своей, он с горечью говорит о том, что за ним числится множество очерков, фельетонов, глупостей, водевилей, скучных историй, многое множество ошибок и несообразностей, груды исписанной бумаги, академическая премия, житие Потемкина и при всем том нет ни одной строчки, которая в его глазах имела бы серьезное литературное значение. «Была масса форсированной работы, но не было ни одной минуты серьезного труда».
Ему страстно хочется «спрятаться куда-нибудь лет на пять и занять себя кропотливым серьезным трудом». Он признает, что ему надо учиться с самого начала, ибо как литератор он «круглый невежда». «Мне надо писать, – говорит он, – добросовестно, с чувством, с толком, писать не по пяти листов в месяц, а один лист в пять месяцев. Надо уйти из дому, надо начать жить за семьсот-девятьсот рублей в год, а не за три-четыре тысячи, как теперь. Надо на многое наплевать, но хохлацкой лени во мне больше, чем смелости». (Отрывок из незаконченного письма 1889 года.)
Но не в «хохлацкой» лени, которую несправедливо приписывает себе Чехов, корень зла. Есть нечто более глубокое, – что объясняет чеховское недовольство самим собой: он замечает, что в талантливых людях его поколения «много фосфора, но нет железа», тогда как у писателей-стариков, «кроме таланта есть эрудиция, школа, фосфор и железо».
Это он написал Д. В. Григоровичу и это свидетельствует об огромной внутренней работе, которая шла в нем. Он пытливо заглядывает в самого себя, анализирует каждый свой поступок и еще раз убеждается, что в нем нет «железа». Он и Суворину сказал: «Для медицины я недостаточно люблю деньги, а для литературы во мне нехватка страсти, и, стало быть, таланта. Во мне огонь горит ровно и вяло, без вспышек и треска, оттого-то не случается, чтобы я за одну ночь написал сразу листа три-четыре, или, увлекшись работою, помешал бы себе лечь в постель, когда хочется спать, не совершаю я поэтому ни выдающихся глупостей, ни заметных умностей».
Это очень важные высказывания и многое в них угадано Чеховым верно: в нем, действительно, огонь горел ровно, без вспышек и треска, но потому ли, что нехватало в нем страсти или, может быть, потому, что эта страсть была искусственно заглушена, запрятана в своеобразный футляр? Да и верно ли, что в нем вообще не было темперамента?
Несомненно, одна страсть, как бы ни скрывал ее Чехов, владела им всю жизнь – страсть писательская. Только он предъявлял чрезвычайно высокие требования к самому себе как писателю, а отсюда и все эти его жалобы на пуды исписанной бумаги и на форсированную работу. Он слишком осторожно относился к проявлениям своей подлинной страсти. Он «боялся таланта и свежести, которые могут все одолеть», в чем заверял его Григорович. «Талант и свежесть многое испортить могут – это вернее», – отвечал Чехов. Кроме «изобилия таланта», ему нужно было кое-что, не менее важное», возмужалость – это раз, во вторых – чувство личной свободы. В этом самое основное, самое для Чехова существенное.
Чувство личной свободы – вот та этическая основа, на которой вырастает чеховское миросозерцание.
Мы много раз цитировали слова о «рабьей крови», которую Чехов чувствовал в своих жилах и которую он «выдавливал по каплям». Приведем теперь полностью то место из чеховского письма к А. С. Суворину (7 января 1889 года), в котором он говорит о процессе своего внутреннего освобождения:
«Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сеченный, ходивший по урокам без калош, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший и богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества – напишите, как этот молодой человек выдавливает из себя по каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая».
Когда писались эти строки, один из признаков, определяющих рабью кровь, в нем еще оставался: поклонение чужим мыслям. Еще он не отбросил влияние Суворина, еще жил он отголосками его лукавой философии, еще крепка была в нем предвзятость, а социальное понимание явлений жизни все еще отсутствовало, но в нем уже таилась какая-то странная тоска и мучила духовная неудовлетворенность…
Чехов переживал трагедию, которая была трагедией целого поколения.
На СахалинеИ тогда он собрался на Сахалин. Это было полной неожиданностью и для его родных и для литературных друзей. Биографы Чехова обыкновенно ссылаются в этом случае на письмо к А. С. Суворину, в котором Чехов говорил о Сахалине, как об острове «невыразимых страданий, на какие только бывает способен человек вольный и невольный» и утверждал, что в «места, подобные Сахалину, все должны ездить, как турки в Мекку». И дальше:
«Из книг, которые я прочел и читаю, видно, что мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски мы гоняли людей по холоду в кандалах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, развращали, размножали преступников и все это свалили на тюремных красноносых смотрителей. Теперь вся образованная Европа знает, что виноваты не смотрители, а все мы». (Из письма к Суворину 9 марта 1890 года.)
Мы достаточно, однако, знаем о подходе Чехова к социальным явлениям для того, чтобы принять на веру его объяснение. Впрочем, он и сам говорит, что у него «не было целей ни гумбольдтовских, ни даже кеннановских» ( Кеннан Джордж (1845–1924). Северо-американский писатель, автор книги «Сибирь и ссылка» (1891), запрещенной царской цензурой и ставшей доступной русским читателям лишь после 1905 года. Гумбольт Александр (1769–1859). Знаменитый германский естествоиспытатель, путешественник, обследовавший также в 1829 году Нижний и Средний Урал) и, как бы зачеркивая смысл данных Суворину объяснений, сам снижает идейную возвышенность своих побуждений прозаическим указанием на свое желание «написать о Сахалине сто – двести страниц» и этим заплатить «свой долг медицине». И вообще культурному человеку следует знать то, что сам Чехов узнал лишь по тем книгам, которые прочел по необходимости, готовясь к поездке, и которых он, по невежеству, раньше не читал». И выходит как будто бы, что Чехов не то приглашает к личному подвигу, принимая на себя долю ответственности за превращение Сахалина в место «невыразимых страданий», не то зовет к культурному самоусовершенствованию, предлагая читать книги, которые нужно знать каждому образованному человеку. Но есть другие мотивы, побудившие Чехова ехать на Сахалин, и они раскроют нам подлинную правду его решения.

А. П. Чехов в своем кабинете в Мелихове. Фото середины 90-х годов. Из собр. Лит. музея при б-ке СССР им. Ленина
В самый разгар сборов на Сахалин Чехов писал Щеглову, оспаривая его ссылку на критику, которая будто бы кому-то и в чем-то помогла. Чехов же утверждает, что если бы это могла делать критика, то «мы знали бы, что нам делать, Фофанов не сидел бы в сумасшедшем доме, Гаршин был бы до сих пор жив, Баранцевич не хандрил, и нам не было бы скучно, как теперь, и вас не тянуло бы в театр, а меня на Сахалин».
Так вот почему его тянет на Сахалин! «Скучно и нудно!» И это потому, что Чехов переживает тяжелый душевный кризис и кризис этот нельзя объяснить подавленным настроением после смерти брата Николая, или раздраженным самолюбием, после провала «Лешего». Нет, именно потому, что «нудно и скучно» – и надо вырваться из этой обстановки. И Чехов восклицает: «Пусть поездка не даст мне ровно ничего, но неужели все-таки за всю поездку не случится таких двух-трех дней, о которых я буду вспоминать всю жизнь с восторгом или горечью?». В «скучной и нудной жизни», которую до сих пор влачил Чехов, – таких «двух-трех дней» не было, а надо чтобы они были, иначе нечем будет жить! Вот как нам представляется настоящее объяснение неожиданного для всех решения Чехова поехать на Сахалин.
Мы уже знаем, как готовился Чехов к такой научной работе, как «История медицинского дела в России», и поэтому нас не удивит та необыкновенная энергия, с которой принялся он изучать материалы по Сахалину. Он прочел груду книг, сестра и ее приятельницы делали для него выписки в Румянцевской библиотеке, Суворин усердно снабжал его целыми фолиантами и Чехову приходилось быть геологом и биологом, этнографом и историком.

Художник И. И. Левитан (1861–1900)
Он попытался заручиться какими-нибудь официальными документами, которые давали бы ему доступ во все сахалинские учреждения, и ничего, конечно, не добился. Выезжая на Сахалин, Чехов имел один лишь корреспондентский бланк «Нового времени».
На Дальний Восток он выехал из Москвы в середине апреля. Его путь лежал через всю Сибирь. Предстояло сделать больше четырех тысяч верст на лошадях – Великого Сибирского железнодорожного пути тогда еще не было. О своих дорожных впечатлениях он подробно писал родным и в нескольких фельетонах для «Нового времени». Поездка протекала в чрезвычайно трудных условиях. Чехов плохо питался, не раз подвергался опасности утонуть, на лодках переплывая бурно разлившиеся сибирские реки, буквально завязал в грязи, страдал от жары, пыли, громадных лесных пожаров. Больше тысячи верст проплыл он по Амуру. И видел столько богатств и получил столько наслаждения и от Байкала, и от Забайкалья, и от Амура, что написал Суворину: «Мне и помереть теперь не страшно».
11 июля Чехов прибыл на Сахалин и прожил на нем больше трех месяцев, пройдя весь остров с севера на юг. Сахалинское начальство оказалось достаточно либеральным для того, чтобы позволить ему видеть на Сахалине все и, действительно, он видел все, кроме смертной казни. Он сам говорил, что сделано им на Сахалине было немало – хватило бы на три диссертации. Вставал каждый день в пять часов утра, поздно ложился. Сделал перепись всего населения, объездил все поселения, заходил во все избы и записал на карточках около 10 тысяч каторжных и поселенцев. Чехов отмечал, что ему особенно удалась перепись детей, на нее он возлагал большие надежды.
13 октября 1890 года Чехов выехал с Сахалина морским путем – через Великий океан и Суэцкий канал.
Он был в Гонконге, где восхищался чудной бухтой, движением на море, прекрасными дорогами, музеями, ботаническими садами… Его поразила здесь «нежная заботливость англичан о своих служащих», причем высшее достижение английской культуры Чехов усмотрел в том, что в Гонконге «есть даже клуб для матросов». И восторгаясь цивилизацией, возмущенно слушал как его спутники россияне «бранили англичан за эксплоатацию народа». Да, англичане эксплоатируют китайцев, сипаев, индусов, но зато дают им дороги, водопроводы, музеи, христианство, рассуждал Чехов, и спрашивал «россиян»: «Вы тоже эксплоатируете, но что вы даете?».
И нельзя не расслышать в этих наивных рассуждениях отголосок все еще продолжающегося воздействия суворинской идеологии. Именно такую «цивилизацию» и защищало «Новое время», отлично понимавшее философию британского воинствующего империализма, что было тогда совершенно недоступно для Чехова.
Из Гонконга – в Сингапур. Затем – Цейлон. Здесь Чехов сделал больше ста верст по железной дороге и «по самое горло насытился пальмовыми лесами и бронзовыми женщинами». Эта подробность «о бронзовых женщинах» как бы противоречит тому, что писал он в своем «Припадке», рассказывая о студенте Васильеве – этом «человеческом таланте», который органически не мог понять самой возможности существования проституции в культурном мире.
Да, конечно, Васильев не поступил бы как Чехов. Но Чехов переживал в этом путешествии как раз те «два-три дня», о которых он всю жизнь будет вспоминать как о днях полной радости.
«Хорош божий свет», – делает он вывод из своих впечатлений, но сейчас же с горечью добавляет: «одно только нехорошо – мы. У нас мало справедливости и смирения. Мы дурно понимаем патриотизм. Пьяный, истасканный забулдыга муж любит своих детей и жену, но что толку от этой любви? Говорят, что мы любим нашу великую родину, но в чем выражается эта любовь? Вместо знаний – нахальство и самомнение паче меры, вместо труда – лень и свинство, справедливости нет, понятие о чести не идет дальше «чести мундиров», мундиров, которые служат обыденным украшением наших скамей для подсудимых».
Таков итог его впечатлений. Правда, чеховское понимание «патриотизма» не шире и не глубже нововременской трактовки вопроса о «чести родины», но для роста общественного сознания Чехова этот итог чрезвычайно важен. Сибирь и Сахалин поставили его лицом с современной ему действительностью. Вряд ли вернулся он после всего, что наблюдал на острове «невыразимых страданий», защитником самодержавия. Впервые он увидел во всей обнаженности мерзость, на которой держался строй Российской империи, и недаром скорбел он о богатейшей Сибири, отданной на поток и разорение чиновникам.
Это итог впечатлений – порядка социального, общественного и в известной мере политического. Но еще большее воздействие оказала на него поездка в моральном отношении. Он никогда не был сантиментален, стыдился проявления своих чувств и, вернувшись с Сахалина, конечно, не делился теми глубоко скорбными наблюдениями, которые он сделал. Ему была противна болтовня о Сахалине. Его целью стало написать книгу, в которой была бы поставлена совершенно определенная социальная проблема. «Буду воевать, – говорит он, – главным образом, против пожизненности наказаний, в которой вижу причину всех зол, и против законов о ссыльных, которые страшно устарели и противоречивы».
«Над «Сахалином» Чехов работал долго и упорно. Он боялся впасть в сантиментальность и, вместе с тем, пугался сухости. Он мечтал отдать «Сахалину» «годика три» и считал, что хотя он и «не специалист, но напишет кое-что и дельное». Он вообще очень серьезно смотрел на эту работу и предвидел, что книга «будет литературным источником и пособием для всех интересующихся «тюрьмоведением». Была у него мысль представить «Сахалин» как научную диссертацию для получения степени доктора медицины, и он полушутя, полусерьезно говорил Суворину, что его «Сахалин» – «труд академический», за который он получит «премию митрополита Макария». «Медицина не может упрекать меня в измене, я отдал должную дань учености и тому, что старые писатели называли педантством».
«Сахалин» печатался отдельными главами в журнале «Русская мысль» и каждый отрывок проходил через особенно придирчивую и двойную цензуру – общую и Главного тюремного управления.
Книга произвела огромное впечатление и в некотором смысле достигла той цели, на которую рассчитывал Чехов: «Сахалин» приобретал значение пособия для всех занимающихся тюрьмоведением. Книга обратила на себя внимание министерства юстиции и Главное тюремное управление командировало криминалиста А. Дриля и тюрьмоведа Л. Саломона на Сахалин проверить данные, сообщенные Чеховым. Поездка ученых вполне подтвердила все, о чем писал Чехов. В 1891 году Чехов, по представлению профессора Д. Анучина, был избран членом географического отдела Общества любителей естествознания. «Сахалин» был признан работой, имеющей серьезное научное значение. «Сахалин» встретил отклик и в заграничной печати – в особенности в немецкой. Иностранцы, писавшие о чеховской книге, даже выражали удивление, что «Сахалин» пропущен русской цензурой и настаивали на его переводе на все европейские языки как ценного труда, дающего «богатейший материал по культурной истории».








