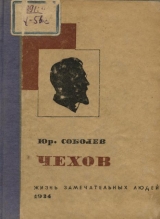
Текст книги "Чехов"
Автор книги: Юрий Соболев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 20 страниц)
Но этот замысел в дальнейшем процессе работы претерпел сильнейшие изменения. Закончив черновик, Чехов приступает к его переписке, которая тянется необыкновенно долго. 9 октября переписка все еще не кончена. Оказывается, что за это время он дважды переписывал пьесу набело, меняя и переделывая. Только 14 октября он телеграфирует: «Пьеса уже послана». Она была послана в театр, а жене Чехов переслал особый конвертик, в который вложил записку с распределением ролей.
По окончании работы над пьесой, Чехов пришел к выводу, что «хотя вышла не драма, а комедия, местами даже фарс», но что в пьесе в целом, «как она ни скучна», есть «что-то новое». Между прочим, маленькая деталь в оценке этой новизны приема. «Во всей пьесе ни одного выстрела, кстати сказать».
«Новое» заключается, однако, конечно не в этом отсутствии выстрелов: оно в своеобразном сочетании гротескно комического с лирико-драматическим. Но это сочетание не всегда кажется органическим, естественно вытекающим из существа пьесы. «Вишневый сад» не избавлен от двупланности, от несглаженных противоречий. Как, в самом деле, оправдать определение автора «В. С.», как комедии, «местами даже фарса», с глубокой драматичностью целого ряда моментов, хотя бы в сцене прощания Гаева с Раневской, несмотря на «веселость», как полагал Чехов, всего четвертого акта?
Но Чехов не замечает противоречий. Убеждая Немировича-Данченко в том, что Аня «Вишневого сада» не похожа на Ирину «Трех сестер» хотя бы потому, что «Аня ни разу не плачет», и доказывая, что у него в пьесе «нет плачущих», Чехов ошибался. У него не только есть ремарки, указывающие на то, что персонажи говорят «сквозь слезы», но у него есть и прямые указания о нескрываемых слезах и рыданиях. И все-таки Чехов был убежден, что вышла у него «не драма, а комедия, а местами даже фарс».
Наконец, пьеса после целого ряда переделок была отослана в Художественный театр, а в декабре и сам Чехов приехал в Москву. Он усердно посещал репетиции, но О. Л. Книппер свидетельствует, «что дело не ладилось – режиссеры с автором никак не могли понять друг друга».
Первое представление состоялось 17 января 1904 года.
Премьерой «Вишневого сада» воспользовались для того, чтобы организовать чествование Чехова, под предлогом двадцатипятилетия его литературной деятельности.
А он вообще был против юбилеев и уверял, что его собственный будет еще не скоро. Он даже отказался быть в театре. За ним поехали и привезли его только к третьему акту. О. Л. Книппер говорит, что в этот вечер не было чистой радости. Было беспокойно, в воздухе висело что-то зловещее.
И К. С. Станиславский в свою очередь свидетельствует, что Чехов не был весел. «Когда после третьего акта он, мертвенно-бледный и худой, стоял на авансцене, не мог унять кашля, пока его приветствовали с адресами и подарками, у нас болезненно сжималось сердце. Из зрительного зала ему крикнули, чтобы он сел. Но Чехов нахмурился и простоял все длинное и тягучее торжество юбилея, над которым он добродушно смеялся в своих произведениях. Но и тут он не удержался от улыбки. Один из литераторов начал свою речь почти теми же словами, какими Гаев приветствует старый шкаф в первом акте:
«Дорогой и многоуважаемый… (вместо слова «шкаф» литератор вставил имя Антона Павловича)… приветствую вас» и т. д.
Антон Павлович покосился на меня, – исполнителя Гаева, – и коварная улыбка пробежала по его губам. Юбилей вышел торжественным, но он оставил тяжелое впечатление. От него отдавало похоронами. Сам спектакль имел лишь средний успех и мы осуждали себя, что не сумели с первого же раза показать наиболее важное, прекрасное и ценное в пьесе…». И Чехов удостоверял: «Вчера шла моя пьеса, настроение поэтому у меня неважное».
Чехов уезжал из Москвы в дурном настроении. Подарки, которые он получил на юбилее, его радовали мало. Он недоумевал, глядя на кустарные изделия в старинном русском духе и жалел, что никто не догадался подарить ему простых удочек.
Из Ялты он писал О. Л. Книппер резкие строки о «погубленной пьесе» и о том, что К. С. Станиславский и Вл. И. Немирович-Данченко прочли в ней то, чего он сам не писал. Ему продолжало казаться, что «Вишневый сад» только веселая комедия. Толкование пьесы Художественным театром как драмы русской жизни было ему непонятно.
Здоровье его делалось все хуже и хуже.
Его постоянный врач в Ялте И. Альтшуллер в своих воспоминаниях отмечает, что именно в этом году болезнь особенно шагнула вперед. «Все реже возвращалось хорошее настроение и все чаще я заставал его одиноко сидящим в кресле и в полулежачем положении на диване с закрытыми глазами без обычной книги в руках. Начавшаяся война его очень волновала. Работал он в это время немного и только урывками, а планов было много, и это огорчало его».
Как принял Чехов войну с Японией?
Как известно, война была непопулярной в широких кругах русского общества. Но Чехов на первых порах отнесся к событиям чисто по-обывательски. Когда-то, за девять лет до войны, он писал по поводу перехода к России Порт-Артура следующее: «Мне кажется, что с этим незамерзающим портом (то есть Порт-Артуром) мы наживем себе массу хлопот. Он обойдется нам дороже, чем если бы мы вздумали завоевать всю Японию». Почти пророчество. Но вот началась война, в которой Порт-Артур сыграл немаловажную роль, и Чехов пишет: «Погода в Ялте теплая, мартовская. На улицах шумят по случаю войны. Все чувствуют себя бодро, настроение приподнятое и если будет то же самое завтра, и через неделю, и через месяц, то японцам не сдобровать». (Из письма к Харкевич, 31 января 1904 года.)
«Наши побьют японцев, в этом я уверен», – читаем мы и в письме к О. Л. Книппер. И ей же пишет он, что ее родственники вернутся после победоносной войны в чинах и орденах.
Война затягивалась, не могло быть и речи о ее скором конце, а тем более о поражении Японии. Чехов начинает серьезнее относиться к развертывающимся на Дальнем Востоке трагическим событиям. Он изучает войну и это делает с такой же добросовестностью, с какой в свое время штудировал вопросы, связанные с колонизацией преступников или стенограммы по делу Дрейфуса-Золя. Выписывает все газеты, в том числе даже «Правительственный вестник», и с огромным вниманием читает все специальные статьи. Он уже сознает, что война будет достаточно длительной и очень тяжелой. Тогда в нем возникает решение ехать на Дальний Восток, но не корреспондентом, а непременно врачом.
Эта последняя зима в Ялте была очень тягостной. Здоровье Антона Павловича настолько ухудшилось, что врачи послали его в Москву.
Совсем расхворавшимся он приехал в Москву в мае. Ходить не мог, несколько недель пролежал в постели. Ясно сознавал грозящую опасность: Н. Д. Телешеву, пришедшему его навестить, сказал, что «едет умирать», – доктора посылали его за границу, где, в Берлине, он должен был посоветоваться о дальнейшем курсе лечения у знаменитого Эвальда.
5 мая Антон Павлович вместе с женой выехал в Берлин. Эвальд послал его в Шварцвальд на курорт Баденвейлер. Здоровье его, вначале улучшившееся, стало опять сдавать и настолько, что хозяин виллы, где жили Чеховы, испугавшись возможной катастрофы, предложил им покинуть его дом.
Антон Павлович умер в ночь на 2 июля. Последний его день прошел так. После трех тяжелых, тревожных дней ему к вечеру 1 июля стало легче и он попросил Ольгу Леонардовну прогуляться по парку. Когда же она пришла, Чехов стал беспокоиться, почему она не идет ужинать. Жена отвечала, что гонг еще не прозвонил.
Гонг, как оказалось после, они прослушали и Антон Павлович начал придумывать рассказ, описывая «необычайно модный курорт, где много жирных банкиров, здоровых, любящих хорошо поесть, краснощеких англичан, американцев, и вот все они, кто с экскурсии, кто с катания, кто с пешеходной прогулки, – одним словом отовсюду, собираются, мечтая хорошо и сытно поесть после физической усталости. И тут вдруг оказывается, что повар сбежал и ужина никакого нет, – и вот как этот удар по желудку отразился на всех этих избалованных людях».
Антон Павлович импровизировал этот рассказ во вкусе Антоши Чехонте, а Ольга Леонардовна, прикурнувши на диване, после тревоги последних дней, от души смеялась. Ей и в голову не могло прийти, что через несколько часов она будет стоять перед телом Чехова.
В начале ночи Чехов проснулся и в первый раз в жизни сам попросил послать за доктором. Ольга Леонардовна вспомнила, что в отеле живут знакомые русские студенты – два брата, и попросила одного из них сбегать за доктором, а сама пошла колоть лед. Пришел доктор. Чехов сказал ему по-немецки: «я умираю». Положили лед на сердце.
«На пустое сердце льда не кладут», – отозвался Чехов. Доктор велел выпить шампанского. Чехов взял стакан и сказал:
«Давно я не пил шампанского».
Улыбнулся, выпил весь стакан до дна, повернулся на бок и вскоре навсегда уснул ( В Баденвейлере по инициативе немецких властей был поставлен в 1908 году памятник Чехову – работы русского вице-консула во Франкфурте – Шлейфера. В первые же дни мировой войны этот памятник под влиянием шовинистических настроений, переживаемых Германией, был уничтожен. Бронза бюста пошла на «военные нужды»).
Тело его было перевезено в Россию. Везли через Петербург, и тут пошлость, неутомимым врагом которой был Чехов, отомстила ему, как писал М. Горький, «скверненькой выходкой – положив его труп, труп поэта, в вагон для перевозки устриц».
И было вообще что-то нелепое в этой сутолоке, которая началась на петербургском вокзале. Час прихода поезда с прахом не был известен, и на перроне собрались немногие – представители литературы почти отсутствовали.
В Москве – иная картина. Здесь все было подготовлено к встрече траурного поезда. На особый комитет, образовавшийся во главе с В. А. Гольцевым при редакции «Русской мысли», редактором беллетристического отдела которой состоял Чехов в последние два года его жизни, была возложена организация похорон.
И похороны Чехова – памятный в истории Москвы день. Впечатление, оставленное известием о кончине Чехова, было потрясающее. Словно каждый переживал личное горе.
Чуть не с рассвета стала готовиться Москва к встрече праха Чехова.
С пяти часов утра по улицам, ведущим из города к Каланчевской площади, начали подъезжать фуры с бесчисленными венками и цветами. Платформа Николаевского (теперь Октябрьского) вокзала обратилась в оранжерею.
В шесть часов утра платформа начала наполняться. С первым дачным поездом прибыли студенты Сельскохозяйственного института – полным составом.
Собрались писатели, бывшие в Москве, артисты Художественного, Малого и других театров.
Гроб Чехова подняли студенты и на руках несли его до самого кладбища. В Новодевичьем монастыре – подле могилы отца – была приготовлена могила Антону Павловичу.
Когда гроб опустили в землю, тысячная толпа пропела «Вечную память».
Небо, хмурившееся еще с утра, стало заволакиваться тучами. К пяти часам вечера пошел мелкий дождь.
На могиле быстро вырос целый холм венков и цветов…
Чехов – писатель
«…Как стилист, Чехов недосягаем,
и будущий историк литературы,
говоря о росте русского языка,
скажет, что язык этот создали Пушкин,
Тургенев и Чехов».
М. Горький (Литературные заметки, «Нижегородский листок» 30 января 1900 года)
Что прежде всего бросается в глаза даже при беглом изучении мастерства Чехова? То, что каждый персонаж чеховского рассказа или пьесы говорит своим собственным, только одному ему присущим языком, каждое действующее лицо имеет свой голос, свои собственные интонации.
Неудивительно, что Чехов во всех оттенках использовал речь интеллигента, но он также хорошо знает язык ремесленника, купца, солдата, монаха, мужика, язык ребенка и старика. Он считал, что писатель обязан быть точным и знать «словари» всех профессий. Названиями морских снастей, военными командами и всей вообще терминологией военно-морского дела он пользуется в водевиле «Свадьба» с такой легкостью, как будто бы он всю жизнь вместе со своим отставным капитаном второго ранга Ревуновым-Карауловым провел на море среди матросов.
У него никогда не скажет художник о каком-нибудь облаке, что оно выпирает на картине, а непременно: «кричит»:
«…Так-с, это облако у вас кричит».
А какое богатство приказчичьего лексикона в его рассказе «Полинька»: гарнитурчик, аграмант французский восьмигранный, стеклярусные бонбошки, плюмаж из птичьего пера цвета канак, то есть бордо с желтым, кофточки джерсе – гладкие, сутажет со стеклярусом, ленты с пико, атаман с атласом и атлас с муаром и пр. и пр.
Знаменитая «Хирургия» вся построена на профессиональной речи – дьячковской и фельдшерской. Дьячок цитирует писание, а речь фельдшера – целая номенклатура хирургических инструментов: козья ножка, ключ, щипцы и, как высшее доказательство образованности, упоминание о «трактации по вертикальной оси».
Народная речь, которой пользуется Чехов, заслуживает особенно глубокого изучения. Критикуя рассказ молодого автора, Чехов написал ему, что «мыста и шашнадцать сильно портят прекрасный разговорный язык. Насколько могу судить по Гоголю и Толстому, – поясняет Чехов, – правильность не отнимает у речи ее народного духа». Именно этого правила и придерживался сам Чехов. Если в его ранних рассказах из крестьянской жизни мы кое-где еще и встречаемся с «пущай», «ефтот» и «энтот», то от этой вульгаризации и нарочитости нет и следа ни в «Мужиках», ни в «Новой даче», ни «В овраге». Чтобы передать несколько затрудненную речь старика Чикильдеева в «Мужиках», он пользуется словечками вроде «добровольно», «значит», «известно», не к месту и не во время вставляемыми в его речь.

А. П. Чехов с О. Л. Книппер (1901 год). Из собр. Лит. музея при б-ке CССP им. Ленина
Никаких «специфических» мужицких слов и выражений мы у него не найдем. А между тем он чрезвычайно искусно пользуется интонациями крестьянской речи в том, например, случае, когда ему нужно показать, что мужик нахватался «умных слов».
Староста Антип Сидельников объясняет Чикильдееву: «От земского начальника все зависящее. В административном заседании 26 числа можешь заявить повод своему недовольству, словесно или на бумаге».
Деревенские дети говорят у Чехова, не искажая русской речи. В письме Ваньки Жукова, который пишет дедушке, всего только три слова произносятся по-деревенски – «ихний ребятенок», «е й н а я морда» и «божецкая милость», да есть еще чисто детский оборот в такой фразе: «И видал которые лавки, где ружья всякие на манер бариновых, так что небось рублей сто кажное».
Чехов вообще тонко подмечал особенности детской речи: «я тебе зададу», «мне стало так неприлично», или слова одной девочки про свою тетю: «она очень красива, красива, как наша собака»; «кошка ощенилась»; «щенята, похожие на мышов». А другая девочка недоумевает, почему щенята слепые и говорит: «У них глаза слепые, как у нищих».
Манера произносить те или иные слова часто раскрывает социальную сущность действующих у Чехова персонажей. Так, становой, которого зовут в деревне «барином», говорит Чикильдееву: «Я спрашиваю тебе. Я тебе спрашиваю». И в этом «тебе» вместо «тебя» выражается барское, высшее презрение к мужику.
Монах Сысой в рассказе «Архиерей», человек угрюмый, вечно всем недовольный, но разговаривающий совершенно грамотно, только одно слово произносит неправильно: «не ндравится мне это». И это «не ндравится» как раз и определяет грубость и черствость Сысоя.

Дача А. П. Чехова в Ялте
Юмористическое звучание чеховских рассказов достигается смелым пользованием «идиотизмами» речи: «землетрясение от испарения воды», «кавказский князь в белом шербете ехал в открытом фельетоне». А действительный статский советник, глядевший на красивый ландшафт, сказал: «Какое чудесное отправление природы». Восторженная барышня пишет знакомым: «Мы будем жить невыносимо близко от вас».
Его действующие лица постоянно употребляют поговорки, присловия, нарочито искажают слова и это придает особую выразительность их речи: «Недурственно», «здравствуйте пожалуйста», «вы не имеете никакого римского права», «он ахнуть не успел» и т. д.
Но с таким же вниманием, с каким вслушивается Чехов в речь глупца и пошляка, с такой же любовью записывает он слова, выражающие лирику русской речи: «какие чудесные названия «богородицыны слезки», «малиновки», «вороньи глазки» – заносит он, например, в свою записную книжку.
Л. Н. Толстой так определял основное свойство Чехова: «Чехова как художника нельзя даже и сравнить с прежними русскими писателями – с Тургеневым, с Достоевским или со мной. У Чехова своя собственная форма, как у импрессионистов. Смотришь, как человек будто без всякого разбора мажет красками, какие попадаются ему под руку, и никакого отношения будто эти мазки между собою не имеют. Но отойдешь, посмотришь, и в общем получается удивительное впечатление. Перед нами яркая, неотразимая картина».
Импрессионизм Чехова особенно явственно выражается в пользовании сравнением и метафорой. Вот несколько примеров.
Туча – «имеет вид фортепиано».
Облако – «похожее на рояль».
Чувство – «похожее на белый молодой пушистый снег».
Лунный свет – «затуманился, стал как будто бы грязный, черные лохмотья слева уже поднимались кверху и одно из них, грубое, неуклюжее, похожее на лапу с пальцами, тянулось к луне».
Луна – «светила ярко, можно было разглядеть на земле каждую соломинку, и Лаптеву казалось, будто лунный свет ласкает его непокрытую голову, точно кто пухом проводит по волосам».
«И пока она пела – мне казалось, что я ем спелую, сладкую, душистую дыню».
Пейзаж Чехова оставляет неотразимое впечатление подбором красок. Закатное солнце, прячась за толпящиеся в беспорядке облака на горизонте, «красит их и небо во всевозможные цвета: в багряный, оранжевый, золотой, лиловый, грязно-розовый. Одно облачко похоже на монаха, другое на рыбу, третье на турка в чалме. Зарево охватило треть неба, блестит в церковном кресте и в стеклах господского дома, отсвечивает в реке и лужах, дрожит на деревьях» (Рассказ «Красавицы»).
Чтобы запомнить эти краски, нужно было обладать совершенно исключительной памятью. Вернувшись из поездки на Сахалин, Чехов писал знакомому, что «вспоминает все до мельчайших подробностей: даже выражение глаз у пароходного ресторатора, отставного жандарма». Поэтому и мог Чехов заметить, что поспевший овес «отсвечивал на солнце, как перламутр».
Для передачи душевных ощущений Чехов не только находит нужные слова, но и заставляет их звучать страстно. Никогда не восклицающий, Чехов не стыдится этого пафоса, когда говорит о скорби: «О, как одиноко в поле ночью среди этого пения, когда сам не можешь петь, среди непрерывных криков радости, когда сам не можешь радоваться, когда с неба смотрит месяц, тоже одинокий, которому все равно – весна теперь или зима, живы люди или мертвы» («В овраге»).
Его пейзажи становятся всегда особенно выразительны, когда они раскрывают «человеческую музыку». Созерцание природы, как и всякой красоты, – лирично. Оно – источник тихой «ласковой грусти». В «Архиерее» именно таким и дан весенний пейзаж:
«Белые стены, белые кресты на могилах, белые березы и черные тени и далекая луна на небе, стоявшая как раз над монастырем, казалось, теперь жили своей особой жизнью, непонятной, но близкой человеку. Был апрель в начале, и после теплого весеннего дня стало прохладно, слегка подморозило и в мягком холодном воздухе чувствовалось дыхание весны. Дорога от монастыря до города шла по песку, надо было ехать шагом, и по обе стороны кареты, в лунном свете, ярком и покойном, плелись по песку богомольцы. И все молчали, задумавшись, все было кругом приветливо, молодо, так близко все – и деревья, и небо, и даже луна, и хотелось думать, что так будет всегда».
В рассказе «Ионыч» доктор Старцев, которому назначили свидание на кладбище, увидел здесь лунною ночью то, «чего никогда не видывал в жизни»: «мир, не похожий ни на что другое, мир, где так хорош и мягок лунный свет, точно здесь колыбель, где нет жизни, нет и нет, но в каждом темном тополе, в каждой могиле чувствуются тайны, обещающие жизнь тихую, прекрасную, вечную. От плит и увядших цветов, вместе с осенним запахом листьев, веет прощением, печалью и покоем».
Тихий – становится любимым эпитетом Чехова. Там, где тишина, там и грусть. Нежной грустью охвачен Чехов, ощущая женскую красоту: «не желание, не восторг, не наслаждение возбуждала во мне Маша, а тяжелую, хотя и приятную грусть. Эта грусть была неопределенная, смутная, как сон. Почему-то мне было жаль и себя, и дедушки, и армянина, и самой армяночки, и было во мне такое чувство, как будто мы все четверо потеряли что-то важное и нужное для жизни, чего уж больше никогда не найдем» («Красавицы»).
Важны и ценны его «писательские советы»: «Описание природы должно быть прежде всего картинно, – говорит, например, Чехов, – чтобы читатель, прочитав и закрыв глаза, сразу мог вообразить себе изображаемый пейзаж; набор таких моментов, как сумерки, цвет свинца, лужа, сырость, серебристость тополей, горизонт с тучей, воробьи, далекие луга – это не картина, ибо при всем моем желании я никак не могу вообразить в стройном целом всего этого».
Об этом же условии впечатляемости, которая должна сразу овладеть читателем, говорит он в письме к Горькому: «Надо вычеркивать определения существительных и глаголов. У Вас так много определений, что вниманию читателя трудно разобраться, и он утомляется. Понятно, когда я пишу: «человек сел на траву» – это понятно потому, что ясно и не задерживает внимания. Наоборот, неудобопонятно и тяжеловато для мозгов, если я пишу: «высокий, узкогрудый, среднего роста человек с рыжеватой бородкой сел на зеленую, еще немятую пешеходами траву, сел бесшумно, робко и пугливо оглядываясь»… Это не сразу укладывается в мозгу, а беллетристика должна укладываться сразу, в секунду».
Л. А. Авиловой он советовал: «Вы не работаете над фразой. Фразу надо делать, в этом искусство, надо очищать фразу от «по мере того», «при помощи», надо заботиться об ее музыкальности и не допускать в одной фразе почти рядом «стал» и «перестала». Голубушка, ведь такие словечки, как «безупречная», «на изломе», «в лабиринте» – ведь это одно оскорбление. Я еще допускаю рядом «казался» и «касался», но «безупречная» – это шероховато, неловко и годится только для разговорного языка».
В письме к доктору Куркину Чехов говорит, что название научной статьи «Очерки санитарной статистики» неудачно, ибо здесь два иностранных слова, кроме того: «оно немножко длинно и немножко неблагозвучно, так как содержит много С и много Т. Вы назовите книгу попроще, напр. «Заметки врача» или что-нибудь в этом роде».
Еще в «осколочную» свою пору Чехов говорил, что: «искусство писать состоит собственно не в искусстве писать, а… в искусстве вычеркивать плохо написанное». И тогда же ему было ясно, что нужно «строить фразу, делать ее сочнее, жирнее. Надо рассказ писать пять, шесть дней и думать о нем все время, пока пишешь, иначе фразы никогда себе не выработаете. Надо, чтобы каждая фраза, прежде чем лечь на бумагу, пролежала в мозгу два дня и обмыслилась». (Из письма Чехова к А. С. Грузинскому).
Немузыкальные, устаревшие и провинциальные слова – вот что вызывает в Чехове отвращение. А. В. Жеркевичу он указывал, что такие провинциализмы, как «подборы», «хата» в небольшом рассказе кажутся «шероховатыми». Он по себе знал, как трудно избавиться от провинциализмов. В его ранних рассказах их очень много. Он говорит: «я соскучился за вами», «займите мне», «река Голтва представляла из себя», «что с меня толка», «скидайте шляпу», «чмокнул в пухленькую руку».
Его южное происхождение давало о себе знать, когда он писал о каком-то лабазнике, что это был кацап. Его деревенские девки выходили замуж за «парубков» и т. д. Но это только в ранних рассказах; тщательная авторедактура при включении рассеянных по журналам рассказов в отдельные сборники – редактура, к которой был всегда особенно внимателен Чехов, вытравила шероховатости и провинциализм его речи. Боролся он и с изобилием междометий и восклицаний, так же как с изобилием многоточий. Его сердили необдуманно поставленные знаки препинания, ибо они «ноты при чтении».
Большое внимание обращал он и на названия своих рассказов. В. М. Лаврову ( Лавров Вукол Михайлович (1852–1911). Издатель и редактор «Русской мысли», переводчик Сенкевича, Конопницкой, Ожешко и других польских писателей. В 90-х годах – приятель Чехова), печатавшему в «Русской мысли» его новый рассказ, он предложил шесть вариантов названия: 1) В Петербурге, 2) Рассказ моего знакомого, 3) Восьмидесятые годы, 4) Без заглавия, 5) Повесть без названия, 6) Рассказ неизвестного человека. Только шестой вариант показался ему подходящим. Примечательно, что первое название – «В Петербурге» – представлялось ему «скучным», а второе – «Рассказ моего знакомого» – «как будто длинным». Название же «Восьмидесятые годы» было решительно отвергнуто, как «претенциозное».
Черновики Чехова поучительны как образцы высокой взыскательности художника. Кропотливый, упорный, долгий труд. С такой же тщательностью он отделывал свои рассказы и в корректуре, настойчиво требуя незамедлительных присылок корректур.
«В рукописи я ничего не вижу, и отделываю рассказ только в корректуре», – писал он, например, Батюшкову. И рукописные, и корректурные правки основной своей целью имеют придать фразам композиционную законченность, музыкальную выразительность. Он хвалил Короленко за рассказ «Соколинец» главным образом потому, что это «выдающееся произведение последнего времени» написано как «хорошая музыкальная композиция».








