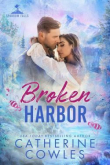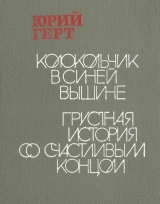
Текст книги "Колокольчик в синей вышине"
Автор книги: Юрий Герт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
Это и была Хая Соломоновна. Только я понял это несколько минут спустя. То есть спустя ровно столько минут, сколько потребовалось этому смерчу, чтобы свернуть в наши ворота и влететь во двор, и промчаться по нему, опадая у каждого крыльца, и снова взвихриться и подняться, и ринуться на дальнейшие поиски, сквозь обалделость и даже, вероятно, легкий столбняк наших соседей, и взвиться на второй этаж, и пронестись по террасе с множеством табуреток, ведер, корыт, примусов и керосинок, ничего не перевернув – а может и перевернув – по путл, и ворваться, вломиться, наконец, в нашу дверь, промчаться по узкой и длинной передней – и рухнуть с разбегу на желтый от воска паркет, в ногах у моей матери, опустившейся от неожиданности на низенькую кушетку... Я увидел в ногах у нее ворох рыжих, желтых, пестро-коричневых листьев, из которого торчали две тонкие, костлявые руки, обхватившие ее колени...
Но прежде чем увидеть, я с балкона услышал рванувшийся из комнаты голос, какой-то страшный, рыдающий бас, и внутри него, в глубине – как бы выплесками, толчками – хохот, и тоже басовый, захлебывающийся, безудержный...
Я. не знал еще, что такое истерика, мне сделалось смешно, и я подбежал к окну—окну или двери, то и другое выходило на балкон, однако смех застрял у меня в груди, не в груди – ниже где-то, в животе, который тут же заледенел и провалился куда-то...
Я не сразу узнал Хаю Соломоновну, сослуживицу моего отца, проработавшую много лет вместе с ним в ливадийской санитарной инспекции. Я видел перед собой только громадную золотисто-рыжую лисью шубу, которую принял вначале за ворох листьев. В ней, распростертой на полу, в набегающих друг на друга складках совершенно тонуло тощее тело Хаи Соломоновны, которую отец за худобу прозвал «скелетом»,– лишь сухая нога ее в туфле с начисто оторванным каблуком выглядывала из-под меховой полы. Шубы этой я тоже не узнал, да и вряд ли видывал ее раньше – в таких шубах не было нужды во время мокрой и слякотной крымской зимы. Тем более нелепо и дико выглядела она сейчас, посреди теплой, шуршащей пересохшими листьями осени. Шуба эта, как потом оказалось, была единственным имуществом, которое Хае Соломоновне удалось спасти. Да и то потому только, что когда началась бомбежка, она успела накинуть ее на себя, схватить за руки детей и броситься в степь, в спасительную тьму – от фугасок, от пулеметных очередей, от пламени, пожиравшего эвакуационный состав... Обо всем этом я услышал позже. А пока Хая Соломоновна рыдала, уткнувшись лицом в колени моей матери, еще деревянной, ошеломленной от неожиданности, и та гладила ее по голове, по слипшимся черным волосам, по трясущимся, ходуном ходившим плечам, которые прикрывала лисья шуба – все, что осталось от дома, от прошлого, от прежней невозвратимой жизни...
Я не узнал Хаю Соломоновну, но узнал двух ее сыновей – Левку и Борьку, они стояли тут же – Левка, широкогрудый крепыш, медлительный, как многие заики, и даже, сказал бы я, не по возрасту степенный, в отца, хотя был только на один класс старше меня, и младший его брат Борька, закадычный мой дружок. Был он лукав и проказлив, с девически нежным личиком и густейшими ресницами, в чаще которых невинно горели карие огоньки. Даром что младший: как-то раз в отместку за что-то или попросту из неизбывной своей шкодливости Борька налил спавшему брату в ухо касторки, и Левка гнался за ним через всю Ливадию, твердо намереваясь его убить. Возможно, что он бы это и сделал, если бы не лень, которая иногда в самый неподходящий момент необоримо на него накатывала. Он уже схватил было повизгивающего со страху Борьку, лопатками чуявшего, что ему не удастся улепетнуть, но вдруг остановился и махнул рукой.
– Д-да ну его! – так объяснил нам он свой непонятный поступок.
Лень это была или добродушное снисхождение старшего к младшему, или то и другое вместе – кто его знает...
Что же до Борьки, то его шкодливость пропадала, когда мы отправлялись вдвоем в свои не столь отдаленные, а тогда представлявшиеся отдаленными и даже опасными, экспедиции.
Вначале под подошвами наших резиновых ботиков похрустывал гравий парковых ливадийских аллей и дорожек, потом он сменялся малоезженной булыжной дорогой с полными воды глинистыми промоинами, пока, наконец, дорога не уступала место извилистой тропинке, которая уводила -нас в светлую чащу весеннего леса. Откуда-то из густого кустарника доносился путанный птичий щебет – кустарник словно был начинен этим неумолчным счастливым гомоном. И среди палой, дурманно и сладко пахну-щей прошлогодней листвы, в тени, среди прямых, как стрелки, заостренных травинок прятались темно-фиолетовые головки фиалок на тоненьких ломких шейках... Мы возвращались домой, осторожно сжимая в кулаке душистый букетик. А иной раз впридачу еще и золотой камешек. Золотой или лазоревый, или багряно-красный, или изумрудный – смотря как повезет... Дело в том, что в лесу, па отростке заглохшей, забытой дороги стояла церковь. Стены ее заросли плющом и мхом, кое-где треснули, обвалились. Ветерок ужаса прохватывал каждого из нас и сердце обмирало, когда мы крадучись проникали под ее своды. Битый кирпич шевелился, как живой, у нас под ногами, каждое слово, каждый звук возвращался к нам раскатистым, гулким, удесятеренным эхом. Солнце косыми столбами било из-под купола, в его лучах плыли поблекшие, выложенные мозаикой лики – огромноглазые, строгие, с печалью вглядывающиеся в самое нутро наших щенячьих душ... Мы карабкались по кирпичным грудам, взбирались друг другу на плечи и где-нибудь наверху, среди зияния осыпавшейся штукатурки, выковыривали два-три волшебно светящихся камушка и спешили тут же удрать, переполненные жадным и веселым воровским азартом. Заброшенная дворцовая церковь оставалась позади, мы шли, поминутно оскальзываясь, расплескивая прозрачные лесные лужи, А вокруг все сияло, светилось в ослепительных солнечных лучах. В прогалах между деревьями лиловели горы, а море лежало внизу, как легкое голубое облако, казалось, подует ветер – и оно взлетит. И весь этот мир, по которому вольно вышагивали мы в-своих подмокших изнутри, замурзанных ботиках, чавкая в сырых ложках,– весь этот мир, такой светлый и счастливый, накрывал сверху синий купол неба, где не было ни бога, ни ангелов – смотри не смотри...
И вот они стояли передо мной оба – Левка и Борька... Я смотрел иа них обоих, не менее растерянный, чем они сами, смотрел на Хаю Соломоновну, на ее чудовищную, нелепую шубу,– а она плакала, и мать прижимала к своей груди ее голову, ее лицо, худое, горбоносое, в больших, в черной оправе, очках, и гладила, гладила, гладила, не в силах ни перебить несвязную, разрываемую рыданиями речь, ни слова вставить, ни утешить...
Потому что не в тряпках было дело, не в барахле, хотя и нажитом честным трудом, но все равно – барахле, барахле... Не в нем, сгоревшем во время бомбежки, было дело, нет, нет...
– Яков...– повторяла она,– Яков... Яков...
Яков, Яков Давыдович – так звали ее мужа, отца Левки и Борьки – лучшего, а может быть, попросту единственного в Ливадии детского врача. «Н-н-нус...»– протяжно говорил он, склоняясь надо мной, над приставленным к моей груди стетоскопом. «Н-н-нус...»– и я натренированно разевал рот и высовывал язык. «Тэк-тэкс...»– говорил Яков Давыдович и выписывал рецепт – на капли датского короля, кальцекс или касторку^ Зимою и летом, по-моему – чуть ли даже не на пикнике, на который второго мая в Нижнюю Ореанду выезжала вся Ливадия,– даже там я неизменно видел его в строгом черном костюме, с аккуратно заправленным в жилет галстуком, с белейшими, твердыми от крахмала манжетами – полоска их ровно на толщину спички выглядывала из рукавов. Так же, как над худобой Хаи Соломоновны, отец подшучивал над этим «н-н-нус» и «тэк-тэкс», над этим галстуком и манжетами, над всей несколько чопорной фигурой Якова Давыдовича,– он был остер на язык, мой отец, хотя не помню, чтобы кто-нибудь на него обижался.
Они вместе уезжали в военкомат, в Ялту, в один из первых дней войны – у обоих было в руках по чемоданчику, мы все провожали их, ждали автобуса, и отец посмеивался, осведомляясь у Якова Давыдовича, не забыл ли тот захватить вместе с бритвенными принадлежностями одеколон и манжеты, без которых в сложных фронтовых условиях не обойтись. Яков Давыдович отмалчивался и только улыбался, хотя по виду его, как обычно, вполне респектабельному, можно было полагать, что об одеколоне-то уж он наверняка не забыл.
Спустя недолгое время стало известно, что в отличие от моего отца, направленного военврачом в стрелковую часть, Яков Давыдович служит в Севастополе во флоте. В душе я этому немало завидовал. Флот, да еще Черноморский – для меня это было: броненосец «Потемкин», грозные, во весь экран, жерла дальнобойных, медленно и неотвратимо наводимых орудий, ленточки бескозырок на легком ветру... И тут же – Яков Давыдович, на капитанском мостике, в черной морской форме, с биноклем перед глазами, белая полоска крахмального манжета чуть-чуть выглядывает из-под рукава кителя с золотыми нашивками...
И она повторяла, твердила:
– Яков... Яков...– только это и можно было разобрать в ее несвязной, толчками рвущейся изо рта речи. И не «Яша» или как-нибудь еще, а именно «Яков, Яков...»
– Принеси воды,– сказала мама, и я принес Хае Соломоновне воды в стакане, который колотился об ее длинные желтые зубы, и вода лилась по ее костлявому, острому подбородку, сворачивалась в капельки-бисеринки на рыжем лисьем меху, катилась на паркет. Но постепенно слова возвращались к ней, тут же, впрочем, разрываемые новым пароксизмом, и мать исчерпала свои небогатые возможности, жалкие утешения – в том роде, что все это еще может оказаться неправдой, и главное все-таки дети, ради них, для них она обязана жить и беречь себя – до тех пор, когда вернется Яков Давыдович, когда все вернутся, и кончится войнами будет мир, победа, и все – как раньше... Они плакали обе, и было не понять, кто же кого утешал...
После обеда я повел их во двор, Левку и Борьку,– в наш великолепный, огромный двор, словно нарочно созданный для ребячьих игр. Мы сидели на дощатом крыльце, на верхней ступеньке. Отсюда все было видно и слышно – как посреди двора взмывает в небо, вращаясь пропеллером, «чиж» с заостренными, до бела обструганными концами; как возле старой бани щелкают – костяшка о костяшку – залитые для тяжести свинцом альчики; как у дровяных амбаров, под неумолчное щебетанье девчачьих голосов, крутят веревочку и прыгают на одной ножке, играя «в классики». К нам подбегали – то Геныч, то Вячек, то Борька-Цыган, зазывая в свою компанию: здесь не хватало двоих, там троих... Но гости мои молчали. Молчал и я, несмотря на то, что мне хотелось, чтобы они немного повеселели. Не расспрашивал я их про то, как это случилось, то есть как падали и взрывались бомбы, как горели вагоны... Мне не терпелось услышать об этом, но задавать вопросы я отчего-то не решался.
Мы с бабушкой и дедом из Крыма уехали двумя месяцами раньше. Нам довелось тоже кое-что изведать в пути, но при всем том наш состав не обстреливали, не бомбили, хотя несколько раз объявлялась воздушная тревога. И теперь, сочувствуя всей душой моим ливадийским друзьям, я ощущал их явное превосходство над собой и втайне завидовал им. И они, казалось мне, чувствовали это свое превосходство и оттого так отчужденно молчали или смотрели вокруг, оттого такое равнодушие ко всему было на их осунувшихся, исхудалых лицах и в каких-то незнакомо усталых, повзрослевших глазах.
Мы посидели во дворе, на крылечке, наблюдая как бы со стороны за беспечной окружавшей нас суетой... Мы, говорю я, потому что хоть и не столько, сколько Левка и Борька, тем не менее кое-что и я испытал по сравнению с теми, кто шумел сейчас во дворе... Затемнение, бумажные кресты на оконных стеклах... Низкий, шмелиный рокот «мессершмиттов»... Поля полыхавшей среди ночи пшеницы поблизости от Запорожья... Забитые беженцами вокзалы и поезда,– все это было мне хорошо знакомо. Мы посидели немного и тихонько тронулись со двора,– тихонько, чтобы это не выглядело пренебрежением или зазнайством, у нас во дворе этого не любили... Мы тихонько выбрались за ворота, и я повел моих приятелей вдоль улицы, вдоль нашей Набережной имени Первого мая, вдоль Канавы. Она была... Нет, ничуть не была она похожа на море, на бескрайнее, Черное наше море... Да еще в эту пору года, усохшая, с обмелевшим руслом и заиленными понизу берегами... Но все-таки, все-таки...
Вот я и повел их – вдоль берега, вдоль зеленоватой, припахивающей гнилью воды, рассказывая, что если подняться утром пораньше, тут можно наудить целый кукан сазанчиков, тарашек и красноперок, а места я знал, и знал, где водятся толстые, жирные черви... Это, пожалуй, чуть-чуть расшевелило Борьку и Левку. Хмурые их лица не то чтобы посветлели, нет... Но оба слушали меня, приглядываясь к мелким плотичкам с черными спинками, безбоязненно подплывавшим к самому берегу, млевшим на солнцепеке в прогретой, просвеченной насквозь воде...
И в тот миг, . когда они оба так вот стояли, зачарованные блеском воды и видом черных, лениво шевелящихся в ней спинок, в момент, когда я немного отошел от моих ливадийских друзей, и – в шаге или двух от илистой полоски – поднялся на бугорок, я вдруг увидел Якова Давыдовича... Там, в прозрачной воде, до самого дна пронизанной солнцем...
Желтые, слепящие блики отсвечивали, как золотое шитье. Легкое колыханье воды, точь-в-точь как блестящие пуговицы капитанского кителя, разбрасывало вокруг золотые искры. Он лежал, неподвижный, в недвижимой на глубине воде, и над его бледным, с закрытыми глазами лицом сквозила стайка черноспинных плотичек... Оно казалось мраморным, это лицо в прожилках бегучих теней, и было на нем выражение строгого, ничем не нарушимого спокойствия... А из-под рукава черного морского кителя, как всегда, на ширину спички выглядывала белая полоска крахмального манжета...
Я подумал об отце. И едва подумал, как мне тут же представилось, что это не Яков Давыдович, а он лежит передо мной. Но причем тогда золотые нашивки, манжеты, флотский китель? Пехотная гимнастерка на медных пуговках, перехваченная ремнем, кобура с наганом у бедра, пилотка на жгуче-черных, подмороженных ранней сединой волосах,– таким он запомнился мне, когда я видел его в последний раз...
Мы брели по берегу, наклоняясь иногда, заметив под ногами плоский камешек, чтобы запустить его по-над самой поверхностью воды и пробить несколько блинчиков. Ловко брошенный, он пружинисто скакал, прошивая речную гладь, на мгновение погружаясь в нее и тут же выныривая, и так по многу раз, – понятно, если повезет. Мало-помалу игра увлекла нас. И хотя Борька был между нами младший, чаще везло ему. Может быть, впрочем, Левка подыгрывал брату, не знаю. Я, во всяком случае, подыгрывал, чтобы немного растормошить, разохотить Борьку, да не только его – их обоих.
Мы стояли на берегу и бросали плоские, верткие камешки; вода отливала зеленым, слепила порханьем солнечных зайчиков, не пуская взгляд в речную глубину; да я и не стремился в нее заглядывать...
А воздух был полон золотой предвечерней истомой – казалось, в нем трепещут и вьются сотни стрекозиных крыл. Изредка до нас доносилось грохотанье железных ободьев по булыжной мостовой, цокот конских подков, сопенье трехтонки. По ту сторону канала на фоне густо-синего, без единого облачка неба виднелись дома с затейливо надстроенными мезонинами, каменные, деревянные, в узорчатых чугунных кружевах балконных решеток,– мирные дома, мирное небо – такое просторное, зовущее в вышину...
Мы играли, кидали камешки в воду, и они прыгали, взметая позади серебристую пыль, танцующие серебряные фонтанчики.
Стояла сухая, долгая осень сорок первого года.
АДРЕСАТ ВЫБЫЛ
Временами меня так и тянет в библиотеку, к газетным подшивкам за военные годы... К мемуарам... К многотомным исследованиям... Вчитаться, влистаться, обнаружить новые факты, детали (чего стоит, скажем, обещание Черчилля прислать нам «от двух до трех миллионов пар ботинок», данное им в конце июля 1941 года, то есть, когда немецкое наступление было в разгаре, когда у нас были захвачены уже Прибалтика, Западная Украина, чуть не вся Белоруссия)... Но я говорю себе: большую историю писали и будут писать другие... Твое дело рассказать, что ты носишь – с собой, в себе, с чем не расстаешься вот уже столько лет, с чем не расстанешься, пока жив. Расскажи об этом. Вспомни – и расскажи. Пусть история эта будет одной из множества подобных. Все равно. Может быть, именно поэтому.
Но разве надо об этом вспоминать? О той зиме сорок первого года, с перевалом на сорок второй?.. О студеной, о лютой зиме – слава богу студеной и лютой, думали мы, потому что морозы эти заморозят фрицев, им, в их зеленых шинельках, не сдобровать посреди наших снегов, и в легких, для прогулок по Франции, ботинках не сдюжить против наших сугробов, так пускай же метели воют, морозы трещат, пускай лопается лед на Канаве, пускай чернила застывают в наших «непроливайках»– пускай!..
О том, что немцам не выдержать нашей зимы, говорил дядя Боря, бабушкин брат, и мы ему верили, потому что он был солдатом, артиллеристом-фейерверкером «в первую германскую», прошел ее всю, и хотя «та» война совсем не была похожа на «эту», как и «те» немцы на теперешних фашистов, мы слушали с замиранием наших сердец, когда он, потирая свой коротенький седенький ежик, начинал рассказывать о «германце» на прошлой войне, мы засматривали в его живые, легко загоравшиеся глазки, мы ловили каждое его слово, его горький, как бы надколотый с мешок, каждый жест его маленьких и очень подвижных, изящных рук – рук переплетчика, и верили всему, что он говорил, хотели, не могли не верить!..
Тем более, что примерно то же самое говорил нам и Виктор Александрович, только так мы все его называли, в отличие от тети Муси, бабушкиной сестры, которая называла его по фамилии: «Ханжин», или «мой Ханжин», поскольку Виктор Александрович был ее мужем. На фотографии времен первой мировой войны выглядел он молодым, стройным красавцем, в офицерских погонах, с саблей на боку,– недавний выпускник Санкт-Петербургского университета, юрист... На той фотографии он имел вид куда более бравый, чем дядя Боря на подобном же снимке, в солдатской, не слишком-то ловко сидевшей на нем бараньей папахе, но отчасти потому-то и было так важно, что и он, Виктор Александрович, каким-то образом сохранивший до сих пор в своей крупной, порядком огрузневшей фигуре давнишнюю стать, давнишнюю, пленившую тетю Мусю выправку, принимаясь рассуждать о войне, сравнивать «ту» и «эту», своим густым, переливающимся в бас баритоном слово в слово повторял дяди Борины предсказания, которые так нам были по душе, то есть что немцам, без сомнения, не выдержать такого союза – Красной Армии и русской зимы!..
И мы верили им обоим, поскольку среди нас, то есть среди женщин, детей и таких же, как сами они, стариков, они больше всех смыслили в военном искусстве.
В особенности это сделалось ясно, когда немцы потерпели поражение под Москвой, и линия фронта подалась на запад, и после мрачных, подсекавших надежду сводок Совинформбюро, как будто сквозь зубы цедивших названия оставленных городов, Левитан с уже совсем другой интонацией выговаривал – те же названия, и число уничтоженных гитлеровских солдат и офицеров, подбитых самолетов, захваченных танков и орудий... Мы ждали при этом, что линия фронта, выгибаясь на карте раздутым парусом, – на той самой Большой Географической Карте, которая переехала вместе с нами из Крыма в Астрахань и здесь по-прежнему висела на стене, хотя и на другой стене,– что линия фронта вскоре подойдет к рдяной ленточке нашей границы, а в сводках следом за Клином и Ржевом появятся Харьков, Киев, Смоленск, появится наш Симферополь... Но дядя Боря и Виктор Александрович убеждали нас, что для этого нужно время, «полгодика – годик», о которых сказал Сталин, и что самое главное – это Москва, она осталась за нами, и значит – надо набраться выдержки, терпения – и ждать, ждать...
И мы ждали. Мы с матерью говорили о Крыме, о нашей Ливадии – там все, все было не немецким, не фрицевским, а нашим, нашим... Мы говорили – и оба, казалось, видели ясно, как в страшном, только что приснившемся сне, колонны марширующих фашистов перед Большим дворцом, наш Черный двор, опутанный колючей проволокой, переминающихся с ноги на ногу часовых у входа в санаторий «Наркомзем»... И когда на оконных стеклах за ночь нарастала наледь в палец толщиной, когда наше дыхание, вырываясь изо рта, превращалось в комнате но утрам в клубочки пара, мы не роптали, ведь и м приходилось гораздо хуже, а значит – можно было и потерпеть...
Мы не роптали – роптали наши тела... В ту зиму – странное дело, и все же я это помню, помню!—все печи вдруг перестали греть. Топи – не топи. Так случилось и с нашей голландкой, облицованной темными, цвета кофейных зерен изразцами, которые в прежние зимы, нагреваясь, начинали лосниться, играть маслянистым, сытым блеском. Но теперь... Чем ни топили мы нашу печь, чем ни набивали ее стылое чрево – дровами, опилками, стружкой,– она оставалась едва теплой, вместо веселого глянца подернутой тусклой мертвенной пленкой. Сырые поленья злобно шипели, сочились пеной, стружки, ярко вспыхнув, тут же сгорали, опилки озаряли печное нутро багровым, завораживающим глаз мерцанием, но и оно бывало слишком недолгим, чтобы пропитать своим жаром толстые стенки голландки...
Мы спали, навалив поверх одеял груду разного тряпья, и по утрам сущей мукой было вылезать наружу из уютного, теплого логова... Но мы выбирались, выползали, чтобы тут же накинуть на себя пролежавшие в сундуке множество лет и вдруг пригодившиеся теперь спорки со старых пальто, начиненные серым, торчащим из швов и прорех ватином. Они были без рукавов и нам с мамой доходили до пят. Мне казалось, примерно так выглядел Робинзон, облаченный в звериные шкуры. Мы пили чай, обнимая стаканы обеими руками, жалея упускать в пустое пространство источаемое кипятком тепло.
Согревался я по дороге в школу. То ли солнце успевало к тому времени уже слегка налиться теплой желтизной, то ли снег, еще не примятый на обочине, веселил сердце своим сочным хрустеньем, то ли почти весь путь в школу, довольно длинный, через весь город (ближние к нашему дому школы были заняты под госпитали), проделывал я бегом или вприпрыжку; но чем ближе к школе, тем жарче мне становилось, а в самой школе, среди азартной мальчишеской толчеи, где кто-то с размаху трахал кого-то портфелем, а кто-то с бурлацким уханьем «жал масло» под стенкой, а кто-то, прыгая на одной ножке, бился с кем-то плечом о плечо, – в школе, с ее разогретой озорством и шалостями атмосферой, вообще забывалось о холоде, особенно на переменах.
Тем не менее на уроках мы сидели в пальто, и учителя, преимущественно молоденькие, легко зябнущие учительницы, снимали с рук варежки или перчатки, лишь когда требовалось что-нибудь написать на доске или выставить отметку в журнале.
Замерзали – промерзали, как лужица, до самого донышка – мы в очередях. Долгих, унылых, червем растянувшихся вдоль улицы. Между серых и клетчатых, по самые брови повязанных старушечьих платков. Между обындевелых стариков с багрово-сизыми лицами, в рогожных рукавицах и огромных, как пароходные трубы, валенках с калошами. Хорошо, если удавалось притулиться где-нибудь у стенки, среди чьих-то спин и животов, чьих-то локтей и кошелок, в укрытом от ледяного ветра затишке. Но и тут ноги вскоре начинали коченеть, холод заползал в рукава, сводил пальцы и постепенно, неспеша, как широким плотным бинтом, все туже охватывал тело... А заветные двери, заветный прилавок, заветные гремучие, разбитые гирями жестяные чашки весов еще так далеки, а очередь едва ползет, больше топчется на месте, больше стоит, вмороженная в улицу, в стену, в снег, и можно бы сбегать домой погреться, да вдруг взбредет кому-нибудь проверять номера, затеять перекличку... Вылетишь как миленький!.. Так что уж лучше ни на минуту не отлучаться, не покидать своего места, между клетчатым платком и тулупом, от которого пахнет не то гнилой рыбой, не то овчиной, лучше постучать ногой об ногу, косточкой о косточку, похлопать ладошкой о ладошку...
Но чем все это было в сравнении с бедой, которая жила от нас по соседству, через стенку... Туда, к старикам-родителям, из блокадного Ленинграда приехала дочь, молодая женщина, с сыном. Малыш был плотненький, светленький, кругленький, несмотря, на разницу в возрасте, мне нравилось играть с ним. По Толику ничего нельзя было сказать о том, что довелось им пережить, пока их не вывезли из осажденного города по льду Ладоги, трещавшему под колесами грузовиков. Зато его мать... Нет, я не слышал от нее в ту зиму ни слова. Ни я, ни, пожалуй, кто-нибудь из нас. Мы просто видели, как она иногда выходила на холодную, с выбитыми стеклами террасу, тянувшуюся вдоль всего второго этажа,– как она выходила в распоротых до самого низа валенках, в которые не вмещались ее разбухшие ноги, и лицо ее, в тяжелых серых оплывах, с обращенными куда-то внутрь себя глазами, еле видными из-под набрякших век, не было ни молодым, ни старым, ни красивым (говорили, прежде она была красавицей), ни уродливым, оно было никаким, оно было безжизненным и потому особенно страшным. И когда я видел на террасе ее, выходившую «подышать», то есть сделать пять или шесть шагов по скрипучим, промороженным доскам, всего меня пробивало ознобом и я готов был бежать куда угодно, сам не ведая, от кого, от чего...
Она была здесь, рядом, а это значило – здесь, рядом, был Ленинград. За стеной, на которой висела наша карта... Было время, когда отец купил ее и никак не решался укрепить на стене, чтобы не сердить маму, которая считала, что тогда весь вид у нашей квартиры будет нарушен, испортится весь интерьер. Теперь она лежала под этой картой, на кровати, укрытая двумя одеялами, в огромной, с высоченными потолками, выстывшей комнате, и па расстоянии вытянутой руки от нее был Париж, захваченный немцами, и чуть дальше – Лондон, где Черчилль выступает с речами, обещая вот-вот открыть второй фронт, и помеченная красной звездочкой Москва, у которой где-то на неведомом разъезде Дубосеково 28 героев-панфиловцев остановили немецкие танки, и где-то среди равнины, залитой зеленой краской,– деревенька Петрищено, где Таню, девочку, школьницу – подумать только, школьницу – такую же, как я, пускай немного, на какие-нибудь шесть лет старше!..– немцы повесили как партизанку... Повесили – может быть, те самые, в застегнутых под коленом брюках «гольф», которые приезжали к нам и Ливадию посмотреть, как раньше жил русский царь и как теперь живут русские крестьяне, и щелкали лейками, и шумели, как у себя дома, и совали нам, ребятам с Черного двора, какую-то свою блестящую дрянь, какие-то металлические карандашики с выдвигающимися грифельками... И вот теперь, теперь...
Теперь она лежала, свернувшись в маленький, затвердевший калачик, лицом к стене, к разъезду Дубосеково, к деревне Петрищево, к Москве, ко всей стране... Я уходил – она лежала, я возвращался – она лежала... И думала, думала... Казалось мне, думала о том, о чем все думали в эти дни, и о чем-то еще... И вот это последнее, вот это и о чем-то еще пугало меня в особенности. Я смотрел на ее затылок, на ее смятые, свалявшиеся в мочалку волосы, на ее золотые волосы, которые я так любил, которые были раньше так воздушны, пушисты, словно наполнены движением ветра,– смотрел на нее, и мне становилось страшно. Страшно за то, что чувствует она, оставаясь наедине с собой. Когда, случалось, я застигал ее врасплох; она не решалась повернуть ко мне залитого слезами лица.
Я уходил – а она оставалась наедине со своими мыслями. Теми самыми, чувствовал я. И торопился домой, чтоб избавить ее от них.
– Ты бы сходил на улицу, поиграл,– говорила она,– подышал свежим воздухом...
Но как я мог куда-то идти, играть, дышать свежим воздухом. Который был так нужен ей... Который – именно так мне казалось – я отбираю у нее...
Иногда ей делалось лучше. Она оживала, на бледных ее щеках проступали красные пятна, которые можно было принять за румянец. Тусклые, погасшие зрачки вспыхивали горячим, сухим огнем.
– На фронте нужны врачи,– говорила она, присев и опершись узкой спиной о подушку.– Ты останешься с бабушкой и дедушкой, а я... Меня возьмут. Возьмут... Пускай не на фронт, пускай хотя бы в госпиталь... Но я буду проситься. И если... Если они... Я скажу: там, на фронте, мой муж. И вы не имеете... Не имеете права!... Я так и скажу: вы не имеете права!..
Она говорила это так, будто ждала возражений и заранее знала их наперечет – все наши возражения, такие жалкие, такие не имевшие в ее глазах никакой цены, такие постыдные – когда там (жест истончавшей, с восковым отливом рукой в сторону карты) люди тоже умирают, но с пользой!..
– Мама!.. Ты ничего не понимаешь, мама!..– обрывала она бабушку.– Не понимаешь, что я больше так не могу! Не могу! Не могу!..– И она откидывалась на подушку, захлебываясь кашлем, слезами, кровавой мокротой...
В такие минуты она не слушала бабушку, не слушала деда, который, пытаясь ее успокоить, пытаясь унять дрожь в своем осипшем внезапно голосе, бормотал что-то малосвязное, младенческое... Я был единственным, кого она слушала. Я сидел с нею рядом на маленьком стульчике – память о детстве – и гладил ее по плечу, худому, почти неощутимому сквозь ватное одеяло... И она мало-помалу стихала, успокаивалась. И говорила вдруг, скользнув по моей руке испуганным взглядом:
– Дай-ка зеркало... Я стала совсем старухой, да?.. Вот вернется папа – он меня не узнает...
Но в ее интонации был вопрос, касавшийся не того, узнает или не узнает («Узнает, узнает!»– мелькало в ее просиявших .на мгновение глазах, она и сейчас по-прежнему ощущала себя красивой женщиной), а того, вернется или не вернется... И я перехватывал – эту интонацию, этот вопрос.
– Вернется!– говорил я, – Он вернется!..
Я это говорил в совершенном убеждении, что да, он вернется, иначе и не может быть. Я прочно был уверен – вернется. И все, все вернется, займет привычные, раз и навсегда определенные в этом мире места. Отец вернется к нам, и мы вернемся в Ливадию, и наши знакомые, наши друзья – вернутся, вернутся... Даже те, кто погиб, как мы узнавали по слухам и письмам,– даже они каким-то образом вернутся...
Я так думал, так чувствовал, хотя письма от отца приходили все реже, и как-то странно – не поодиночке, а пачками, по пять, по шесть сразу,– казалось, это Крым неровно, толчками дышит сквозь туго стиснутое на перешейке горло. Но между собой мы не говорили об этом. И. замечая, старались не замечать, что даты на письмах и открытках – старьте, давностью в полтора-два месяца, и за это время... Этого мы старались не замечать. Война...– твердили мы.– И нечего, нечего требовать от почты... Война!