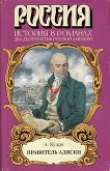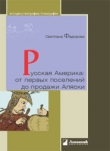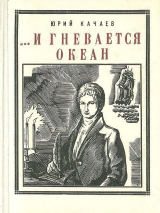
Текст книги "...И гневается океан (Историческая повесть)"
Автор книги: Юрий Качаев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
ГЛАВА 20
Церемония переезда была торжественной. К «Надежде» подошла и стала борт о борт большая яхта, снаружи вся изукрашенная бронзовыми барельефами. Стены и перегородки кают, покрытые лаком, сверкали подобно зеркалам; пунцовые флаги с белым кругом посредине, свисали по бортам яхты. Балюстрада трапа поражала вычурностью своей отделки.
Николай Петрович Резанов в шитом золотом мундире камергера поднялся на шканцы. Почетный караул вступил на яхту; за ним два кавалера посольской свиты несли грамоту царя. Над яхтой взвился русский императорский штандарт. Посол сошел вниз, в обитую дорогим штофом каюту, посредине которой на четырех резных колоннах был утвержден легкий золоченый балдахин. Под ним стояли кресло для посла и низенький разлапистый столик для царской грамоты.
Яхту буксировали шесть японских барок и сопровождали восемьдесят больших лодок.
В новом доме Резанов получил письмо от губернатора, имя которого по своей пышности не уступало именам испанских грандов: Хида-Бунго-Но-Хами-Сама. Губернатор сообщал, что на днях в Нагасаки приедет правительственный даймио[52]52
Даймио – высший чиновник, близкий ко двору.
[Закрыть], и он передаст господину послу решение государственного совета.
«Медленность в решении столь важного дела, – писал губернатор, – произошла оттого, что оно требовало больших рассуждений; поэтому двор не хотел решить оного без совета чинов государственных. А так как они находились в разных провинциях и не в близком расстоянии от столицы, то не скоро смогли съехаться в Иеддо. Этот чрезвычайный совет состоял с лишком из двухсот князей и вельмож, и хотя, впрочем, дело сие было давно решено императором, но государь хотел еще сделать честь своему дяде и другому родному брату своему, которых он почитает, чтобы спросить и у них мнения о деле…»
На другой день на «Надежду» приехали баниосы со множеством лодок, чтобы перевезти в дом посланника подарки русского императора. В числе подарков было несколько огромных зеркал. Для них приготовили два грузовых судна, устланных дорогими циновками и покрывалами. Крузенштерн поинтересовался, каким образом доставят зеркала в Иеддо. Один из баниосов ответил, что их отнесут туда на руках.
– Но ведь для этого нужна по меньшей мере сотня человек, да и те должны меняться на каждой версте, – возразил Крузенштерн.
– Для японского императора, – гордо ответил банное, – нет ничего невозможного. Два года назад он получил из Китая в подарок слона, и того отнесли в столицу на руках.
Крузенштерн лишь удивленно помотал головой. Но он удивился еще больше, когда ему передали разрешение из столицы войти в порт Нагасаки: «Надежда» стояла в гавани уже второй месяц.
– Таких чудес и при нашем дворе не увидишь, – смеялись офицеры корабля.
30 января, в японский Новый год, Резанов получил от губернатора красивый ящик тонкой работы, В ящике лежали мешочки, сплетенные из рисовой соломы. Развязывая их по очереди, Скизейма растолковывал значение каждого подарка.
Высушенный краб символизировал здоровье.
– Ведь у краба отрастают даже оторванные клешни, – пояснил толмач.
В другом мешочке лежал апельсин – символ плодородия. В третьем – кусок древесного угля, означавший богатство. В четвертом помещались вяленые фрукты, нанизанные на палочки, соль, рис и морские водоросли.
– Такие мешочки, – сказал Скизейма, – висят сейчас над воротами каждого дома.
По случаю праздника все японцы независимо от рангов были одеты в светло-голубое платье одинакового покроя.
Возле ворот посольского дома слуги воткнули небольшие елочки, а по всем комнатам разбросали жареные бобы, чтобы отогнать злых духов.
Николай Петрович попытался еще раз узнать, когда же, наконец, состоится аудиенция, но толку не добился. Очевидно, баниосы и сами не имели об этом понятия.
Так в бесплодном ожидании прошел еще месяц. За это время случилось только одно событие: японец Такимура, помогавший Резанову в работе над словарем, перерезал себе горло бритвой. Однако рана оказалась не смертельной, и японца удалось спасти. Едва оправившись, он попросил свидания с Резановым.
– Мне надо, чтобы вы простили меня, господин, – шепотом заговорил больной.
– За что, дружок? – ласково спросил Николай Петрович.
– Я очень плохой и злой человек. Я писал баниосам письмо и жаловался, будто… будто в России меня заставляли переменить веру.
– Но ведь это неправда.
Текимура кивнул, и по его морщинистой щеке поползла слеза.
– Я думал, баниосы скорее выпустят меня. Еще я писал, будто русские приехали испытать, нельзя ли ввести в Японии христианство. Вот так я отплатил за вашу доброту.
– Не надо убиваться, Такимура, – грустно сказал Николай Петрович, – твое письмо ничуть нам не повредило. Выздоравливай…
Он вышел от японца подавленный. Чтобы повидать семью, человек обесчестил себя и все равно ничего не добился…
В начале апреля посланнику сообщили, что его готов принять полномочный сановник японского императора. Этот человек занимал при дворе очень высокое положение: он имел право лицезреть ноги монарха. Такой почести не удостаивались даже нагасакские губернаторы.
От пристани до площади, где находился губернаторский дворец, было рукой подать, однако Резанову объяснили, что его понесут в норимоне[53]53
Норимон – род носилок.
[Закрыть].
Шествие возглавляли полсотни баниосов в сопровождении имперских солдат с длинными бамбуковыми палками в руках; далее четыре человека несли норимон с посланником; следом за ним выступал русский сержант со штандартом; замыкали процессию тоже солдаты под командой конного офицера.
Улица была широкая и чистая, с водостоками по обеим сторонам. Фасады домов, в большинстве одноэтажные, были наглухо занавешены циновками, так что архитектуры их Резанову рассмотреть не удалось. С таким же успехом он мог бы пройти по городу с завязанными глазами. На его вопрос, что сие означает, толмачи ответили: подлый народ не достоин видеть столь важную особу, как посол русского царя.
Во дворец вела некрутая удобная лестница, вдоль которой во много рядов стояли коленопреклоненные офицеры стражи.
У входа все чиновники без различия рангов разулись. Резанов последовал их примеру. Он уже был знаком с этим обычаем японцев: входя в его дом, они всегда снимали свои соломенные башмаки.
Через длинный коридор с лакированным полом Николая Петровича провели в комнату, на стенах которой висели ковры с превосходными ландшафтами. Свет проникал сюда из коридора, отражаясь в тонкой полировке пола, который казался стеклянным.
В комнате уже были приготовлены курительные приборы и зеленый чай. Сковороды с горящими углями дышали жаром. Тут же стояла большая фарфоровая плевательница довольно безвкусной формы и еще худшего рисунка.
После получасового ожидания Николая Петровича пригласили в аудиенц-зал.
Чиновник из Иеддо и губернатор ждали посланника посреди зала: над их головами двое служителей держали шпаги, а у ног полукругом расположились переводчики. Один из баниосов, провожавший Резанова в зал, легонько коснулся его плеча и сказал по-голландски:
– Вам придется поклониться даймио в ноги.
Стряхнув его руку, Резанов вызывающе ответил:
– Передайте даймио, что я и самому господу богу кланяюсь только в пояс.
Среди губернаторской свиты, стоявшей поодаль, произошло замешательство. Не обращая на это внимания, Резанов поприветствовал губернатора и сановника на европейской манер – учтиво, но без тени подобострастия.
Беседа началась с ничего не значащих фраз, по всем правилам восточного этикета. Во время разговора Резанов заметил в толпе чиновников маленького тщедушного человечка, который, украдкой поглядывая на посланника, что-то заносил на бумагу. Скоро Николай Петрович понял, что это художник, и попросил толмача:
– Скажите ему: пусть он рисует открыто все, что хочет.
Человечек благодарно закивал головой и протиснулся поближе. Он рисовал тушью на тончайшей шелковой бумаге. Кисточка так и летала в его руке, и Николай Петрович подивился проворству японца. Когда аудиенция подходила к концу, Резанову показали рисунок. Взглянув на него, Николай Петрович онемел от изумления: в считанные минуты художник успел запечатлеть даже малейшие подробности из одежды Резанова. Здесь была и треуголка с султаном, и орденская лента со звездой, и рыцарский мальтийский крест, и вычурная вязь шитья на мундире, и шпага с золоченым темляком[54]54
Темляк – витой шнур с кистью.
[Закрыть].
Скорость, с какой художник работал, уверенность и завершенность штриха превосходили все, что доводилось видеть Резанову у европейских мастеров рисунка.
По окончании аудиенции Николаю Петровичу вручили свиток с ответом императора. К свитку был приложен перевод в двух экземплярах – на русском и голландском языках. Для истолкования неясных мест Резанову дали баниоса и толмача Скизейму.
ГЛАВА 21
Письмо императора разрушило последние надежды Резанова на удачный исход миссии. Оно было написано в весьма оскорбительных тонах и гласило следующее:
«Первое. В древние времена всем народам ходить в Японию, также японцам выезжать из отечества невозбранно было, но два уже столетия, как сохраняется непременным правило, чтоб никто в Японию, кроме древних приятелей ее, вновь не приходил и японцы из отечества своего отнюдь не выезжали; а как российский государь прислал посла с подарками, то японские законы требуют, чтоб тотчас ответствовать тем же. А как посла отправить не можно, ибо никому из японцев выезжать не позволяется, то ни грамоты, ни подарки не принимаются, о чем все созванные японской империи чины утвердительно определили.
Второе. Империя японская издревле торгует только с корейцами, ликейцами[55]55
Ликейцы – жители островов Риу-Киу.
[Закрыть], китайцами и голландцами, а теперь только с двумя последними, и нет нужды в новой торговле.
Третье. Так как запрещено ходить в Японию другим нациям, то следовало бы поступить по законам, но, уважая добрые намерения российского государя, отпустить судно обратно и дать на дорогу провизию, с тем чтоб никогда россияне в Японию больше не ходили, и поскольку другой бы нации судну быть шесть месяцев в Японии не позволили, то принять это за милость японского императора…»
Прочитав эти строки, Николай Петрович задохнулся от гнева и негодования. Ему хотелось швырнуть письмо в лицо баниосу, и только выдержка военного человека уберегла его от безрассудного шага: подобный жест мог стоить свободы, а то и жизни всему экипажу «Надежды».
– Русский монарх никому не навязывается с дружбой, – овладев собой, с холодной яростью заговорил Резанов. – И мне удивительным кажется, что получение письма от великого государя российского, которое европейские правительства за счастие для себя почитают, вызвало при вашем дворе столь странное отношение. Передайте императору, что мы приехали вовсе не за тем, чтобы требовать ответных подарков. Но царские подарки ему следовало бы принять, поскольку они присланы государем, предлагавшим дружбу.
Баниос выслушал Резанова с вежливой, словно приклеенной улыбкой, и развел руками:
– Дружба – это цепь, господин посланник. Для каких бы целей она ни служила, звенья в ней должны быть одинаковой прочности. Если одно из них крепче, а другое слабее – цепь порвется. Дружить с незнакомыми и неравными государствами опасно.
Здесь японец сделал паузу, затем продолжал:
– На обратный путь вы получите свежие продукты. Кроме того, император жалует россиянам сто мешков риса, две тысячи мешков соли и столько же шелковых ковриков.
– Ни в каких подарках я не нуждаюсь, – решительно отказался Николай Петрович. – А за провизию на дорогу заплачу что следует.
«Подавитесь вы своими ковриками», – про себя добавил он.
– Мне очень жаль, – возразил баниос, – но ни губернатор, ни даймио не смогут сами принять вашего отказа. Им придется снова отправить курьера в Иеддо, а это займет еще два месяца.
«Два месяца! – Николай Петрович мысленно схватился за голову. – Да я не выдержу и двух недель».
– Хорошо, – вслух сказал он. – Я согласен.
Когда японцы ушли, Резанов, не раздеваясь, бросился на постель. Он чувствовал себя смертельно измученным и усталым.
По крыше дома барабанил бойкий весенний дождь, и стены вздрагивали под ударами морского ветра. На улице чавкали по грязи раскисшие соломенные башмаки японской стражи.
Седьмого апреля 1805 года состоялась прощальная аудиенция у губернатора. Дождь лил не переставая, и Резанов потребовал носилки для всех кавалеров свиты.
Аудиенция прошла в обоюдных комплиментах. Узнав от Резанова, что «Надежда» собирается возвращаться в Петропавловск Корейским морем, губернатор всполошился. Тревога его была понятна: до сих пор никто из европейцев еще не нанес на карту точного положения всего западного берега Японии, большей части Кореи, северо-западной оконечности Сахалина и многих островов Курильской гряды. Южный же Сахалин хотя и был описан голландцами, но с тех пор прошло сто шестьдесят лет, и полагаться на старые сведения было бы неразумно.
Кроме того, Крузенштерн хотел исследовать устье Амура и выяснить, на самом ли деле существует пролив между сибирским берегом и Сахалином[56]56
Пройти Татарским проливом Крузенштерну не удалось, и он решил, что Сахалин полуостров. Его ошибка была исправлена сорок четыре года спустя капитаном Невельским.
[Закрыть].
Губернатор усердно отговаривал капитана от этой затеи, говоря, что плавание в Корейском море чрезвычайно опасно и что он запрещает приставать к Японскому берегу где бы то ни было. Правда, он тут же добавил, что на случай бури пошлет гонцов на побережье с повелением принять русский корабль в любой гавани.
Буксировать «Надежду» из порта было отряжено сто лодок. Пока ее выводили на внешний рейд, матросы перевозили с берега порох, ружья и пушки, отобранные при входе.
После долгих пререканий губернатор разрешил посланнику одарить толмачей. Скизейма получил мраморный стол и такую же умывальницу. Прощаясь с Резановым, он передал ему небольшой мешочек с семенами японских овощей и цветов.
– Возможно, они вырастут у вас на родине, и вы вспомните человека, который от всей души хотел помочь вам, – сказал Скизейма.
Напоследок приехали голландцы во главе с управляющим факторией. Дефф попросил Крузенштерна отвезти в Европу донесение и письма, которые предварительно тут же просмотрели два баниоса.
При выходе из Нагасакского залива погода была так пасмурна и туманна, что берега казались размазанным акварельным рисунком, сделанным в блекло-сиреневых тонах. За городом маячила высокая гора с плоской округлой вершиной. Издали она напоминала опрокинутую японскую вазу.
Николай Петрович оглядел негостеприимный берег и с сокрушенным сердцем спустился в свою каюту. Ему было не в чем упрекнуть себя, но он всегда тяжело переживал неудачи.
ГЛАВА 22
Между тем в Европе произошли крупные политические события, поставившие ее на грань войны. Наполеон Бонапарт, блистательный генерал Французской республики, нарушил тайную конвенцию с Россией, по которой он обещал не трогать владений короля обеих Сицилий. Он казнил герцога Энгиенского и, наконец, принял императорский титул. Пока он оставался первым консулом, европейские монархи еще терпели его. Объявив же себя самодержцем, Наполеон тем самым как бы поставил себя в один ряд со священными особами древних царствующих фамилий.
Все это привело к разрыву между самозваным императором и Александром I. Поэтому естественным было сближение России с Англией и Швецией. К их союзу присоединилась и Австрия, дружеские сношения с которой начались еще при вступлении Александра на престол.
Война открылась неудачно для союзников: позорное поражение австрийских войск при Ульме заставило русские силы, посланные на помощь, отступить в Моравию. Сражения при Кремсе, Голлабруне и Шенграбене были лишь зловещими предвестниками будущего аустерлицкого разгрома.
Известие о начале войны дошло до Камчатки в виде приказа губернатору Кошелеву – остерегаться нападений французского флота и повсеместно укреплять русские форты на Дальнем Востоке и в Америке. О ходе военной кампании почти ничего не было слышно: правительство не спешило признаваться в своих поражениях на фронте.
По прибытии в Петропавловск Николай Петрович хотел сразу же выехать в столицу с докладом царю. Но письмо, полученное из Петербурга в его отсутствие, опрокинуло все планы. Главное правление компании предлагало господину Резанову обследовать положение дел на Алеутах и в Русской Америке и принять надлежащие меры. Полномочия его как представителя компании не ограничивались ничем. Письмо было с резолюцией самого Александра.
Доклад пришлось отправить с фельдъегерем. Часть посольской свиты двинулась в Петербург сухим путем, остальные решили вернуться домой на «Надежде», которая уже готовилась к отплытию. Лангсдорфу Николай Петрович предложил поехать вместе с ним в качестве корабельного врача. Немец долго не поддавался ни на какие уговоры, и тогда Резанов пустил в ход последний козырь.
– Послушайте, Генрих, – сказал он серьезно. – Там, куда я еду, еще не ступала нога ни одного натуралиста. Наука никогда не простит вам подобной лености и малодушия.
Довод оказался решающим, и Лангсдорф засучив рукава приступил к своим новым обязанностям. Судно, на котором им предстояло выйти в море, было двухмачтовым бригом, довольно новым, но страшно грязным и запущенным. Называлось оно «Мария Магдалина», и по сему поводу офицеры с «Надежды» отпускали двусмысленные шуточки, находя немало общего между камчатской «Марией» и пресловутой библейской распутницей из города Магдалы.
Лангсдорф кое-как привел судно в божеский вид, и оно отправилось в путь, имея на борту шестьдесят зверобоев, половина из которых была больна скорбутом[57]57
Скорбут – цинга.
[Закрыть].
Из Петропавловска Резанов взял с собой двух флотских офицеров – лейтенанта Хвостова и мичмана Давыдова. Николая Хвостова Резанов знал еще по Петербургу как храброго человека и отличного моряка. Когда Российско-Американская компания стала набирать способных капитанов для работы в Восточном океане, Николай Петрович порекомендовал Хвостова.
Хвостов плавал в здешних местах уже несколько лет и был по-прежнему на хорошем счету, но… только как штурман. От губернатора Кошелева Резанов немало понаслышался о пьяных дебошах лейтенанта. Однажды, будучи во хмелю и с командой не более трезвой, он взял на абордаж какое-то бостонское судно, капитан которого не пожелал ответить на пушечный салют хвостовского корабля.
– Золотая голова, да рыло погано – на водочку падко, – со вздохом сказал Кошелев. – Хоть бы вы его приструнили.
Мичман Давыдов, восемнадцати летний юноша, был полной противоположностью Хвостова, и тем не менее они дружили. Хвостов относился к своему младшему товарищу с добродушной снисходительностью и часто вышучивал, но на людях звал по имени-отчеству.
В конце июня «Мария Магдалина» миновала остров Атту, самый западный из Алеутов, и подошла к Уналашке. Вода у берега была прозрачна, и на дне светились красно-белые коралловые рифы.
Пушечный выстрел поднял с прибрежных скал столько птиц, что они на какое-то время закрыли солнце.
Тотчас появились на байдарах алеуты. Они объяснили, что поселок находится по ту сторону острова, верстах в пяти. «Мария» двинулась в обход, а Резанов, Хвостов и Лангсдорф отправились туда пешком. Провожатым был один из алеутов – пожилой человек с грязновато-коричневой кожей и плоским носом. Он был одет в парку, сшитую из шкурок морских попугаев[58]58
Эту одежду носят на обе стороны: в дождь – перьями наружу, в мороз – перьями внутрь, как шубу.
[Закрыть]. Парка была украшена раковинами, полосками меха и цветной кожей. Голову алеута покрывал деревянный обруч с длинным овальным козырьком. За обруч были воткнуты усы морского льва – они упруго покачивались при каждом шаге, – а на козырьке сверкали нашитые глазчатые бусы.
На севере острова беспрерывно, как заядлый курильщик, пускал клубы дыма вулкан. Его окружали более мелкие куполообразные сопки. До середины они были словно обиты черно-зеленым бархатом – мшаниками, на вершинах же лежали снега.
Провожатый шел споро, и путешественники едва поспевали за ним. Тропинка петляла меж невысоких зарослей ивняка и карликовой березы, спускалась в разлужья с густыми травами и снова выбегала на косогоры, сплошь усыпанные голубикой, брусникой и клюквой.
До места добрались только к вечеру. Поселок состоял из полусотни землянок и назывался Иллюлук[59]59
Ныне Дэтч-Харбор, крупнейшая военно-морская база США в Тихом океане.
[Закрыть]. Землянки, крытые дерном, едва возвышались над поверхностью и напоминали европейское кладбище с зелеными могильными холмами, только вместо крестов из них подымались дымки.
В середине поселка стоял пятистенный русский дом, рубленный из могучих, кондовых бревен. Это была торговая контора компании, служившая одновременно и магазином и складом.
Низко кланяясь, выбежал приказчик – бородатый мужик в ситцевой рубахе распояской – и рассыпался словами, округлыми, как кедровые орешки:
– Охти мне тошнехонько! Проморгал гостей, окаянный. Не велите казнить, велите миловать, ваши благородия.
Он широко распахнул дверь в дом, и гости вошли в жилую половину. Приказчик тотчас погнал жену-алеутку собирать на стол и цыкнул для острастки на ребятишек, черноволосые головенки которых свисали с полатей:
– Кыш, поросята! Обомрите на время!
В углу комнаты, под старой иконкой Спасителя, горел чадук. Спаситель щурился на гостей опасливо и диковато, словно его слепило золото офицерских эполет. Гости сидели на лавке, блаженно вытянув ноги, мимо них бесшумно, как лисичка, сновала хозяйка, таская на стол еду. Приказчик Макар Иванович принес откуда-то графин спирта, и Хвостов одобрительно подмигнул ему.
– Ну, гостюшки дорогие, – потирая руки, сказал приказчик. – Прошу откушать, чем бог послал. На хлебе, на соли да на добром слове…
Хлеба на столе, правда, не оказалось, зато рыбы было великое разнообразие – и вареная, и соленая, и вяленая, и жареная. На второе блюдо хозяйка подала дымящуюся гору мяса. Мясо было непривычного черного цвета и приправлено щавелем.
– Это котик, – пояснил Макар Иванович. – Отведайте и не смотрите на его арапское обличье. Вкусно!
Мясо и впрямь было вкусным и напоминало телятину.
– Я бы и свининкой вас попотчевал, да боюсь, побрезгуете – больно рыбой отдает. Мы свиней своих рыбой откармливаем, – говорил хозяин, не забывая подливать в оловянные кружки зеленоватый спирт. – Картошечка была – кончилась, теперя-ко новой ждем.
– И хорошо родится? – удивился Николай Петрович.
– Что твое яблоко под Володимиром. Картошку-то сюда еще покойный Григорий Иванович Шелихов завез, царствие ему небесное.
Макар Иванович размашисто перекрестился. Глядя на него перекрестилась и жена-алеутка.
– Верует? – показав на нее глазами, спросил Хвостов.
– Да как оно вам сказать, ваше благородие? Алеуты у нас, конешно, все православной веры, только проку от этого на пшик не выходит. У них ведь как: Христос распятый в одном углу, в другом – идол поганый. Обоим молятся, обоих тухлым мясом кормят и опять же обоих бьют, ежели не угодили. Морока одна!
Николай Петрович, не удержавшись, засмеялся. Хозяин тоже улыбнулся:
– Истину говорю, ваше благородие. Эти домовые и креститься бы не стали вовек, да попы-то их подарками заманивают: на шею крестик, а в руки – рубаху али штаны бумажные. Вот они и валят валом, когда поп наведается да с пьяных глаз заново крестить почнет. Которые уж не единожды обряд принимали. Староста наш, к примеру, тот, что вас привел, три христианских имени носит: Афанасий-Гермоген-Лукиан. А как был, тупоносый чертушко, язычником, так и по сей день остался.
От сытной еды гости разомлели, и глаза у них стали слипаться. Приметив это, Макар Иванович живой рукой соорудил постели из нерпичьих шкур.
– В рассуждении кровопивцев можете не опасаться, ваши благородия, – заверил он. – У нас тута-ко зимой не только клопам – волкам не выдюжить.
– Славный дом у тебя, Иваныч, – оглядывая стены, сказал Николай Петрович. – Привозной, поди?
– Нет, батюшко, лес к нам из Калифорнии да из Японии сам приплывает.
– Разбуди меня утром пораньше, – наказал напоследок Резанов. – Конторские книги посмотрим. И о других делах потолковать надобно.
– Отчего ж не потолковать? – весело согласился приказчик. – Сполним, ваше благородие.
Резанов растянулся на шкурах и сразу провалился в сон, как в колодец.