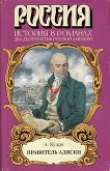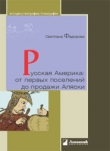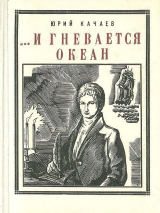
Текст книги "...И гневается океан (Историческая повесть)"
Автор книги: Юрий Качаев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 11 страниц)
ГЛАВА 30
Обручальный обряд вышел очень торжественным, Резанов был одет в красно-зеленый парадный мундир и опоясан через левое плечо пунцовой муаровой лентой (знаком камергерского ранга); на груди его лучилась алмазная Анна 1-й степени и сверкал Мальтийский крест ордена короны Вюртемберга.
На Марии было староиспанское платье ало-голубого гродетура, выложенное по швам серебряным галуном и отделанное тончайшими кружевами; в ореховых волосах мерцал жемчужный аграф[90]90
Аграф – застежка или обруч, украшенные драгоценными каменьями.
[Закрыть] – подарок жениха.
Дом коменданта ломился от гостей. За столом некуда было упасть яблоку.
Ни русские, ни испанцы не жалели пороху – пушки палили беспрерывно. Домашнее виноградное вино и ром, привезенный с «Юноны», скоро сделали свое дело, и веселье плескало через край. Звучали тосты за дружбу государей, за счастье жениха и невесты, за процветание дома Аргуэлло, за здоровье губернатора и снова за дружбу.
Стены зала были завешаны полотнищами шелка, где чередовались цвета государственных флагов Испании и России. Привезенный из Санта-Барбары оркестр фальшивил, с большим воодушевлением наигрывая хоту и фанданго[91]91
Хота и фанданго – испанские танцы.
[Закрыть]. Даже губернатор, позабыв про больные ноги, пробовал пуститься в пляс.
Вскоре подвыпившие гости толпой повалили во двор, чтобы посмотреть на зрелище, которое приготовил для них дон Аргуэлло. По его приказу солдаты поймали и привезли в крепость большого медведя, и сейчас зверю предстояло вступить в поединок с быком.
В зале остались только жених с невестой да губернатор.
– Прости, дитя мое, – сказал он Кончите, – но мне необходимо поговорить с сеньором Резановым, так как завтра я уезжаю. А дело не терпит отлагательства. Нет-нет, ты нам не помешаешь.
Дон Аррилага подергал эспаньолку, собираясь с мыслями.
– Моя тридцатилетняя дружба с доном Хозе обязывает меня не скрывать от него никаких секретов, – начал он. – А поскольку вы стали членом семьи Аргуэлло, я считаю своим долгом сделать вам ту же доверенность. Все необходимые сведения вы будете получать отныне через него. Если вам нужно отправить какие-то бумаги на родину, вы можете воспользоваться моей личной почтой.
– От всей души благодарю вас. – Резанов поклонился.
– И последнее, – продолжал губернатор. – Кончита моя крестница, и я люблю ее не меньше своих детей. Только ради нее я решаюсь отпустить вам продукты в любом количестве. Однако обмена я допустить не могу. Вам придется заплатить за все деньгами.
Николай Петрович кивнул.
– Хорошо, я согласен. Но зачем же мне везти обратно товары, которые столь необходимы вашему краю? Есть другой выход.
– Какой же?
– Я уплачу миссионерам пиастрами и получу от них квитанции, а вы представите их вицерою. А на какие нужды истратит эти деньги святая церковь, не все ли вам равно?
– И не все ли равно, в чей карман они вернутся? – со смехом подхватила Мария Кончита.
Губернатор погрозил ей пальцем.
– Помолчи, плутовка! Ты знаешь, где твое место? В темнице, ибо ты нарушила запрет губернатора и первой привезла хлеб! Мне это хорошо известно.
– Милый крестный, пощадите бедную глупую девчонку! – Мария чмокнула губернатора в лоб, и растроганный старик, еще раз пожелав молодым всяческих благ, отправился на покой.
Весть о помолвке русского графа с дочерью Аргуэлло распространилась с быстротой степного пала. Окрестные францисканские миссии, стараясь опередить друг друга, снаряжали обозы с продовольствием: оставаться в дураках никому не хотелось. Хлеб стал прибывать в таком количестве, что вскоре его стало некуда девать.
Николай Петрович жил теперь в доме будущего тестя. С утра и до вечера они вместе были в разъездах и хлопотах. Матросы грузили на «Юнону» горох, бобы, муку, ячмень, пшеницу и соль. Испанский гарнизон тоже не сидел без дела: солдаты коптили мясо, возили на корабль воду и работали по дому, готовя очередной бал.
Балы случались почти каждый вечер – то в крепости, то на «Юноне». Испанские огневые пляски сменялись русскими песнями.
За неделю было погружено пять тысяч пудов продовольствия, так что на корабле, заново проконопаченном и сверкающем свежей краской, скоро не осталось ни одного свободного закоулка.
Отплытие было назначено на седьмое мая.
Чтобы не огорчать Николая Петровича, Мария старалась казаться веселой, но это удавалось ей плохо.
Накануне расставания, в час сиесты[92]92
Сиеста – послеобеденный отдых (исп.).
[Закрыть], когда вся крепость словно вымерла, они сидели вдвоем на веранде.
Океан был безмятежно спокоен. Его густо-синяя гладь, залитая полуденным солнцем, слепила глаза.
В саду над красными цветами мадроны порхали колибри, вялый ветер, будто обессиленный зноем, едва шевелил виноградные листья, и пряно пахло нагретыми травами.

– Расскажите мне еще о России, – попросила Мария, – о дороге, которая вас ожидает…
– Дорога будет долгая и трудная, дружок. Ее непросто описать, но я попробую, – сказал Николай Петрович. – Отсюда до Петербурга четырнадцать тысяч миль. Сначала я поплыву морем до сибирского берега. К тому времени уже настанет зима, и кругом лягут снега, глубокие и чистые до голубизны. В мороз они скрипят, словно плачут. А по ночам в небе пылает холодное зарево – разноцветное, как перья исполинского колибри. Когда я приеду в столицу, будет снова весна. Весной у нас почти не бывает темноты, ночи стоят светлые, и потому их зовут белыми ночами…
– Вы, верно, очень любите свою родину, – тихо обронила Мария.
– А вы разве нет?
– Я готова покинуть ее для вас. Вы бы этого не смогли.
– Через полтора года мы будем вместе, – ласково сказал Николай Петрович, – и никогда больше не расстанемся. Не нужно грустить, моя девочка.
– Мне страшно, милый. У меня такое предчувствие, будто мы уже не увидимся. Но я… я буду любить и ждать вас, пока бьется сердце.
Николай Петрович молча привлек к себе девушку и поцеловал в глаза, полные слез.
В церкви Сан-Франциско шла месса. Под каменными сводами, как чайки перед штормом, метались тревожные звуки клавикордов. Богослужение вел падре Уриа. Из уважения к религиозным чувствам семьи Аргуэлло в церковь пришел и Резанов со своими офицерами.
Коленопреклоненная Мария Кончита горячо молилась, Она просила вседержителя только об одной-единственной милости: чтобы он уберег от нежданной болезни и гибели ее жениха.
Прощальный обед на «Юноне» был короток. Отзвучали речи и тосты за здравие и благополучие путешественников, и все поднялись на палубу.
Старый комендант и донья Игнасия осенили Резанова крестом, братья Марии по очереди обняли его и отошли в сторонку. Он шагнул к невесте. В ее лице не было ни кровинки, и у Николая Петровича больно кольнуло сердце. В эту минуту он проклинал себя, что не сумел настоять на немедленной свадьбе. Тогда бы Мария уехала с ним.
– Я вернусь, – сказал он, целуя девушку. – Слышишь, я непременно вернусь.
Губы Марии были холодны как лед. Боясь, что она потеряет сознание, Николай Петрович сам помог ей спуститься в шлюпку.
Прогремел прощальный салют. Над морем опускался вечер, и в небе проступили крупные южные звезды. Паруса «Юноны» наполнились ветром.
Медленно поворачивался и уходил вкось калифорнийский берег. И пока не упала темнота, Николай Петрович все стоял на палубе с подзорной трубой, словно он знал, что прощается с этой землей навсегда.
ГЛАВА 31
«Горе что бусы – одно к одному», – говорит пословица.
В отсутствие Николая Петровича на Баранова свалились новые несчастья. Отправленный в Кадьяк с пушниной бриг «Елисавета» потерпел крушение и выбросился на берег, потеряв большую часть драгоценного груза. Незадолго перед тем из Ситхи ушел на промысел отряд алеутов. У побережья Аляски флотилию настигла свирепая буря, и более двух сотен зверобоев стали добычею океана. А месяц спустя Баранов узнал, что колоши дотла спалили Якутатскую крепость. Двенадцать человек из русских промышленных, оборонявших Якутат, были пытаны и умерли мучительною смертью.
Ободренные успехом колоши решились напасть на русские поселения в Кенаях и Чугацкой губе. На восьми больших байдарах они подошли к Константиновскому редуту, а шесть оставили в устье реки Медной. Их тойон Федор, крестный сын Баранова, явился к начальнику редута Уварову и сказал, что приехал торговать с чугачами[93]93
Чугачи – индейское племя, которое дружило с русскими.
[Закрыть]. Уваров, хорошо знавший Федора, не мог допустить и мысли о предательстве.
Но тут военное счастье изменило колошам. На байдарах, оставленных в Медной, находился пленный чугач. Каким-то чудом ему удалось бежать, и он, добравшись до крепости, рассказал Уварову об истинных намерениях Федора.
Уваров взял вероломного гостя под стражу. Это произошло без лишнего шума, потому что все воины, кроме тойона, отправились в тот вечер на праздник к чугачам. С умыслом, а может быть просто с перепоя, но чугачи затеяли с гостями ссору, и праздничное веселье кончилось кровью. Колоши были перебиты до последнего человека.
Узнав об этом, Федор зарезался ножом, который у него не заметили при обыске.
Отряд колошей, стоявший на реке, почуял неладное и поспешил выйти в море. Погода была штормовая, и, когда байдары огибали банку[94]94
Банка – коса, отмель.
[Закрыть], далеко выдававшуюся в океан, их расщепало бурунами. Большинство людей утонуло, лишь немногие добрались до Угалахмютского берега и там были истреблены враждебным племенем.
В Чугацкой губе следовало ожидать новых неприятностей, и Баранов самолично выехал туда.
Когда «Юнона» пришла в Ситху, правителя уже не было. Замещал его Иван Александрович Кусков. Он-то и рассказал Резанову о последних событиях.
Половина провианта, привезенного на «Юноне», была выгружена в Ново-Архангельске, и поселенцы сразу воспрянули духом. В гавани все еще стоял «Ермак». Он задержался с отплытием из-за болезни капитана Вульфа, которого свалил скорбут. Сейчас Вульф уже оправился и собирался на следующее утро поднять паруса. С ним решил ехать и Лангсдорф. Прощаясь с Николаем Петровичем, натуралист объяснил причину столь поспешного отъезда.
– Мистер Вульф, – сказал он, – обещал высадить меня на Камчатке. Я почти не видел этого края, а он, по слухам, чрезвычайно интересен во всех отношениях. Я ведь не забыл ваших слов: наука никогда не простит мне лености и малодушия.
Резанов рассмеялся.
– Ну что ж, Генрих, от всего сердца желаю удачи. Встретимся в Петербурге. Благодарю вас за все. Вы были для меня верным и славным товарищем.
Они обменялись крепким рукопожатием и расстались.
Несколько дней Резанов работал над инструкцией для Баранова. Он советовал правителю на время оставить хлопоты по укреплению северных владений России и продвигаться на юг, к устью реки Колумбии, чтобы купить там у индейцев участок плодородной земли и заложить крепость[95]95
Эта крепость, названная фортом Росс, была построена несколько лет спустя на реке Славянке (ныне Русская река). К 1830 году население крепости составляло десятую часть всего белого населения Калифорнии.
[Закрыть]. Далее Николай Петрович рекомендовал Баранову заселить интервал между Ситхой и новым фортом возможно более широкой полосой в глубь материка.
«Зная благородное сердце ваше, – писал Резанов в конце, – открываю теперь просторное поле вашей деятельности с полным предуверением, что вы, как ревностный и усердный сын Отечества, оным во всей мере воспользуетесь: что отныне впредь всякое донесение ваше будет у соотчичей наших исторгать новую вам признательность…»
27 июля «Юнона» оставила Ново-Архангельск и через два месяца пришла в Охотск. Здесь лейтенант Хвостов получил от Резанова секретное предписание незамедлительно идти на Сахалин: в Охотске появились тревожные слухи, что японцы высадили вблизи русских поселений крупный военный отряд.
– Действуйте, как подскажут обстоятельства, – сказал Николай Петрович. – Полагаюсь на вашу сообразительность. Ежели не захотят уйти с острова по доброй воле, примените силу.
В помощь Хвостову был придан тендер[96]96
Тендер – одномачтовое парусное судно.
[Закрыть] «Авось», командиром которого назначался Давыдов. Днем позже «Юнона» и «Авось» снялись с якоря.
Резанов тоже стал готовиться к отъезду.
Охотск был расположен вдоль узкой косы, шириной не более пятисот шагов. Он стоял в самом устье двух сливающихся здесь рек – Охоты и Кухтуя. Всякое лето они подмывали несколько домов, а то и целую улицу.
Комендант Охотска присоветовал Резанову отправиться с купеческим караваном, который на днях тронется в путь.
– А купец вам, верно, знаком, – добавил комендант. – Он в компании служит и едет по делам в Петербург.
Купцом этим, к немалому удивлению Резанова, оказался не кто иной, как работник иллюлукской конторы Макар Иванович Чердынцев.
– Вот уж истинно: гора с горой не сходится, – заулыбался при встрече приказчик. – Рад видеть ваше превосходительство в добром здравии.
– И я, Иваныч, искренне рад, – сказал Николай Петрович.
Он действительно был очень доволен случаем, который послал ему в попутчики этого расторопного и веселого человека.
Караван был слажен через два дня и погожим сентябрьским утром выступил вверх по реке Охоте. В проводники Макар Иванович подрядил бывалого казака Нефеда Колесникова, знавшего дорогу на Якутск как в родной избе с печи на полати. Помощниками Нефеду были якуты, которые промышляли тем, что зиму и лето ходили с обозами в Охотск и обратно. Их лошаденки, косматые и низкорослые, были на редкость выносливы, но непривычны к упряжи.
Ехали верхами. Вьючные кони были связаны друг с другом, меж ними шли заводные.
Выбитая корытом караванная тропа петляла среди сопок. Их бока поросли мохом и клубящимися зарослями стланика. Иногда тропа пропадала, и тогда Нефед выбирал направление по каким-то ему одному известным приметам.
Ночами становилось уже холодно, и Колесников на всяком привале на манер таежных охотников срубал нодью[97]97
Нодья – два дерева, стянутые кольями или сваленные накрест.
[Закрыть]. Она давала ровный жар вплоть до самого утра.
За Капитанской засекой – двумя холмами, похожими как бы на воротные столбы, – караван вступил на ледник. Окруженная горами, эта ледяная пустыня была безжизненна и насквозь продута ветрами. Изредка на ней встречались каменные пирамиды. Это были жертвенники, куда якуты клали цветные лоскутки и волосы из конских хвостов, откупаясь от злых духов.
Здесь каравану повстречалась почта под конвоем десятка казаков.
– Что в Европе? – спросил Резанов почтового чиновника.
– Кто его знает, сударь, – отвечал тот. – Слышно было, будто Бонапарт занял всю Пруссию. Везу вот какой-то пакет губернатору, а что в нем, не ведаю-с… Напоследок осмелюсь дать совет: ни под каким видом не заходите в якутские юрты. Оспа! Кочевья бегут куда глаза глядят. Прощайте, сударь!
ГЛАВА 32
Пройденный путь исчислялся неторопливой сибирскою мерой – большими и малыми днищами. Днищем называлось расстояние, которое может пройти за день кочевая семья вместе со своим скотом и скарбом. В большом днище насчитывали десять верст, в малом – восемь.
От реки Алдана до Якутска оставалось тридцать пять больших днищ, когда случилась беда.
К Алдану подъехали в полдень. По реке шла густая шуга. Николай Петрович, Чердынцев и Нефед подошли к берегу.
– Мать честная, вот так штука, – приказчик присвистнул, сдвигая шапку на брови. – Слепой в баню торопится, а баня не топится.
Мимо них, медленно кружась и поворачиваясь, проплыл целый остров. На нем, как ни в чем не бывало, стояли лиственницы, березы и даже скособоченная поленница дров. Очевидно, остров сорвало осенним половодьем откуда-то с болота, и плыл он на толстой ледяной подошве, покрытой дерном.
– Придется ждать, пока река станет, – хмуро сказал Нефед. – Рано она нынче салом взялась.
– Да ведь на это неделя уйдет, – возразил Макар Иванович. – И то ежели морозы грянут. Может, на плоту попробовать?
– Попробовать можно, да как бы проба боком не вышла. Родился не торопился, и теперь некуда. – Казак вопросительно посмотрел на Резанова. – Что скажете, ваше благородие? Будем переправляться?
Николай Петрович молча кивнул.
Плот собрали из толстых сухостойных лиственниц. На связку его ушли все перетяги, ремни и веревки, какие нашлись под рукой. Лошади, привычные к бесчисленным переправам через сотни рек и речушек, вели себя невозмутимо. Двое якутов с шестами встали в носу плота, чтобы расталкивать льдины, остальные гребли грубо выструганными веслами.
Несчастье произошло, когда до берега оставалось всего несколько саженей. Плот налетел на отпрядыш[98]98
Отпрядыш (сиб.) – обломок скалы, торчащий вблизи берега.
[Закрыть], залитый водой и потому никем не замеченный. Бревна разошлись, и люди оказались по горло в ледяной каше. Все вьюки удалось спасти только благодаря тому, что место было мелкое.
На берегу разложили три огромных костра и, раздевшись донага, принялись сушиться. Выворачивая карманы мокрой одежды, Николай Петрович доставал бумаги и письма. Они совершенно не пострадали, завернутые в кусок камлеи.
Резанов нагнулся, чтобы положить их на землю, и возле своих ног увидел резной кипарисовый крестик. Он поднял его и некоторое время разглядывал с недоумением – откуда взялась эта вещица? И вдруг в памяти мелькнули площадь перед церковью, запруженная пестрой толпой, лицо какого-то мужчины и другое лицо – девичье.
«Тенериф, праздник в поселке Святой Урсулы! – с облегчением вспомнил Николай Петрович. – Мы пили тогда с Армстронгом вино у палатки, и продавщица подарила мне этот амулет. Она сказала тогда что-то забавное. Ах да: „Крестик будет хранить господина до тех пор, пока он не полюбит испанку“».
Резанов усмехнулся.
«Вот мистика, – подумал он. – Однако амулет не утратил своей силы, несмотря на мою любовь к Марии. Ведь если бы плот разошелся на середине реки…»
– Выпейте-ка, ваше превосходительство, – перебил его мысли подошедший Чердынцев и, подмигнув, протянул кружку спирта. – Из дорожного погребца зелена винца. Первейшее от простуды средство.
Николай Петрович выпил и скоро перестал стучать зубами. Едва обсушившись, караван двинулся дальше.
Резанов шел пешком, ведя лошадь в поводу: его снова начало знобить, и он пытался согреться движением.
Падал редкий, хлопьями снег. Равнина впереди была безлесна, и в конце дороги садилось мелкое клюквенное солнце.
Дальше все дни смешались в один – жаркий и тягостный. «Первейшее средство» не помогло, и Николай Петрович схватил жестокую лихорадку.
Он вернулся из беспамятства в какой-то чудной избе и увидел, что лежит на широкой лавке у окна. В раму вместо стекла была вставлена большая прозрачная льдина, сквозь которую пробивался зеленоватый рассеянный свет.
Отодвинув от постели берестяную занавеску, искусно вышитую цветным волосом, Николай Петрович оглядел избу. Посредине горел очаг, и дым уходил в трубу из длинных тонких жердей, обмазанных изнутри глиной. Резанов понял, что он находится в зимней якутской юрте. У якутов он не раз гащивал с покойным Шелиховым.
Рядом в пристройке возилась и вздыхала корова.
«Как же я попал сюда и где хозяева?» – начал соображать Николай Петрович, но тут во дворе забрехала собака, и в юрту вошел Макар Иванович Чердынцев. Борода его заиндевела и казалась седой, а лицо было красно от мороза.
– Николай Петрович, ваше благородие! – почему-то шепотом сказал он с порога, встретившись с Резановым взглядом. – Да никак очнулись? Вот радость-то привалила, господи!
Он повесил на гвоздь ружье, снял заплечный мешок и, раздевшись, подсел на корточки к постели Резанова. Глаза его улыбались.
– Покушать, поди, хочется? У меня как сердце чуяло, что вы нынче в себя придете. Дай, думаю, на охоту сбегаю. Ну, добыл пару куропаток, сейчас мигом супчик сгоношу.
– Долго я хворал? – спросил Николай Петрович.
– Да, почитай, две недели без памяти были. Уж и не чаял выходить вас. Пищу-то вы все отвергали, только «пить да пить». Ну, я уж, грешным делом, на хитрость пустился. – Макар Иванович помотал кудрявой головой и засмеялся. – Подаю вам кружку – будто с водой али там с отваром брусничным, а в кружке-то растопленное коровье масло. Вы и глотнете, бывало…
– Как же ты, Иваныч, к якутам-то решился заехать? Оспы не побоялся? Ведь на тебе, надо думать, и прививки нет?[99]99
Первые прививки оспы были сделаны в России при Екатерине II. Царица сама подала тому пример.
[Закрыть]
– Да я, чай, не дичок, чтоб на мне что-то прививать. Путного все одно ни хрена не вырастет, – пошутил Чердынцев и принялся потрошить куропаток.
За работой он говорил:
– Жар от вас был ровно от печки, ваше благородие. Не успею тряпицу на лбу сменить, ан уже сухая. И все вы ехать порывались. Да не по-нашему говорили. Одно я разобрал, что вам какая-то Мария блазнилась. Вы ее по имени кличете, да жалобно так, будто прощения просите. А по лицу слезы так и бегут, так и бегут ручьем…
Поев супу, Николай Петрович попросил Чердынцева свести его наружу. Приказчик обул и одел его, как малого ребенка, и они выбрались во двор. От свежего пахучего воздуха у Резанова закружилась голова, и он чуть не упал.
Сугробы, плотно прибитые ветрами, отливали на тусклом солнце голубым переливным блеском. Они хрустели под ногами, словно спелое яблоко на зубах. Вокруг юрты стояли копны сена со снежными папахами на макушках. Возле одной из копен на разлатой старой березе Николай Петрович увидел подвешенное корыто и спросил Чердынцева, зачем оно попало туда.
– Это не корыто, – ответил Макар Иванович. – Это домовина[100]100
Домовина – долбленый гроб.
[Закрыть] такая, а в ней покойник. Якуты, бывает, по старому обычаю своих хоронят, особливо когда христианское кладбище далеко.
Николай Петрович вздрогнул. Только сейчас он до конца осознал, что две недели подряд смерть безмолвно стояла у его изголовья.
– Завтра мы едем, – решительно сказал он.
Чердынцев всплеснул руками:
– Побойтесь бога, ваше благородие! Да вас еще и ноги-то не держат. И голова как у пьяного мотается.
– Не спорь, Иваныч. А доставай-ка тройку. Мне теперь едино – в санях ли, в юрте ли отлеживаться.
– Да где я так скоро лошадей возьму? Я ведь Нефеда отпустил, – пряча глаза, сказал Чердынцев. – У якутов кони-то куда как дороги. Вон у наших провожатых один околел, так они ему уши обрезали, чтоб хозяину показать: дескать, не продан конь, а издох по своей воле.
– Не заговаривай мне зубы, – перебил Николай Петрович. – Хитрец какой! Пойдем, я денег дам. И за ценою не стой. Заплати что просят.
– Как же, они эдак-то по миру вас пустят, – проворчал приказчик.
Наутро все же выехали. Николай Петрович лежал в кошеве[101]101
Кошева – легкие и глубокие дорожные сани.
[Закрыть] с сеном, обутый в теплые пимы и до подбородка укрытый волчьей дохой. Он то дремал, то обдумывал дела, которые ждали его в Петербурге.
Предстоял разговор с царем. Как-то встретит он проект Резанова касательно Америки? Поддержит или просто отмахнется за недосугом? И каково нынешнее положение при дворе Николая Петровича Румянцева? Тот-то умен и все поймет с полуслова…
Через два дня завиднелись синие луковицы церквей. Это был Якутск, самый старинный из здешних городов. За полтораста лет своего существования он раз двадцать выгорал дотла и вновь отстраивался руками казаков. Отсюда пускались когда-то в неизведанные края удалые ватаги Семена Дежнева и Михаила Стадухина…
По раскатанной дороге переехали на левый берег Лены, заваленный штабелями бревен, и вот уже замелькали дома добротной русской работы, с кружевными свесями крыш, с шатровыми высокими крыльцами и с петухами на воротах.
В Якутске Резанов снова почувствовал себя худо. Местный лекарь, из вездесущих немцев, сказал напрямик, что герр Резанов погубит себя, если отправится в путь, не окрепнув совершенно.
– Страшен черт, да милостив бог, – усмехнулся Николай Петрович, и в тот же день, несмотря на уговоры Чердынцева, выехал из Якутска.
Дорога шла вверх по Лене до самого Качуга, а оттуда до Иркутска рукой подать. Лена застыла неровно, торосами, и по пути пришлось сменить несколько разбитых саней.
Немец оказался прав. Макар Иванович привез Резанова в Иркутск совсем больным.
– Шабаш, ваше благородие, – сказал он. – Выпороть меня, дурака, мало, что вас слушался. Теперь хоть на коленях стойте – не уступлю, и одежду вашу спрячу, и ямщика зашибу, который вас везти согласится.
На сей раз прекословить Чердынцеву Николай Петрович не стал и пролежал в постели около месяца. Иркутск оставили только в середине февраля. Весна 1807 года выдалась неслыханно ранняя по здешним местам. Дороги развезло, и не проехать было ни в санях, ни в телеге. Пришлось взять верховых лошадей.
А судьба как будто решила добить Резанова. Под Нижнеудинском, переходя через реку, лошадь Николая Петровича поскользнулась на наледи и грохнулась, придавив седоку ногу. Острый, как кинжал, осколок льда вонзился ему под коленную чашку, и настала темнота…
Умирал Николай Петрович Резанов на какой-то безымянной почтовой станции, в шестидесяти верстах от Красноярска. Привезенный Чердынцевым доктор определил у больного сильнейшую лихорадку.
– Но сие не главное, милейший, – сказал он Макару Ивановичу. – Главное – нога. Антонов огонь[102]102
Антонов огонь – гангрена.
[Закрыть]. Исход, как мы говорим, летальный.
– Летальный? – переспросил Чердынцев. – Это что же такое?
Николай Петрович вдруг открыл глаза.
– Лета, Иваныч, – это река забвения… на том свете, – сказал он чуть слышно. – Подай мне перо и бумагу.
Чердынцев пошел к смотрителю. Вернулся он с чернильным прибором и бумагой. Николай Петрович попробовал писать, но перо выпало из пальцев.
– А тут фельдъегерь заезжал, – вспомнил вдруг Чердынцев. – Он вас в Петропавловске искал, а нашел тут, да вы без сознания в ту пору были. Пакет оставил и шкатулку. Вот они, на столе.
– Вскрой пакет и дай мне.
Макар Иванович сломал печати и подал Резанову две бумаги.
– Высочайший рескрипт[103]103
Рескриптом называлась грамота государя о награждении высшим орденом.
[Закрыть] – прочел Николай Петрович первую строку и отложил листок в сторону.
Вторую бумагу он дочитал до конца. Это было повеление царя о принятии дворянского сына Петра Резанова в Пажеский корпус.
– Ну и слава богу, – подумал Николай Петрович вслух. – Петя устроен. А Оленьку Гаврила Романыч не оставит…
– Что в шкатулке? – через минуту спросил он, и Чердынцев положил перед ним на одеяло табакерку, обсыпанную крупными бриллиантами. На ее крышке был вензельный портрет Александра.
– Бумаги мои и записи, Иваныч, передашь в главное правление Булдакову. Слышишь?
– Слышу, ваше благородие. – Чердынцев заплакал, всматриваясь в лицо Николая Петровича.
Лицо было спокойно и казалось обычным, только потемнели глазные впадины да заострился нос.
– Вот, Иваныч, не бывать мне больше в Америке, – продолжал Резанов, закашлявшись. – Увидишь Баранова, кланяйся… Скажи, не сдержал Резанов слова своего… Боюсь, все его труды прахом пойдут… Жаль… Душа болит… А эту штуку, – он посмотрел на табакерку, сверкавшую камнями, – сыну моему отдашь. Прощай и прости, Иваныч… Много я хлопот тебе доставил.
Николай Петрович закрыл глаза, но и сквозь сомкнутые веки нестерпимо ярко сверкали алмазы. Они росли, увеличивались в размерах, они превращались в айсберги, и на их острых гранях вспыхивало солнце Аляски.
Пушечными выстрелами громыхал о скалы прибой, вздымая к небесам рваную белую пену, и кричали на скалах орлы, и тысячеголовым сивучьим стадом гневно ревел океан…