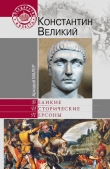Текст книги "Традиция и Европа"
Автор книги: Юлиус Эвола
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц)
НИЖНИЙ МИР ХРИСТИАНСКИХ СРЕДНИХ ВЕКОВ
Имеющиеся соображения о духе гибеллинских средних веков имеют своей отправной точкой идею изначальной противоположности между двумя определёнными духовными установками: королевско–воинской и религиозно–священнической. Первая образует мужской, а вторая – женский полюс духа. Первой установке соответствует собственно «солнечный» и «победоносный» символ, соответствующий идеалу духовности, который также означает власть, победу, порядок различных сил и человека в земном и одновременно надмирном организме (сакральный идеал империи). Он подтверждает и прославляет любое различие, личность и иерархию. Другой установке соответствует символ луны – т. е. символ природы, чей принцип света находится вовне. Элементами, которые выходят здесь на передний план, являются ограничивающий дуализм, противоречие между духом и властью, подозрение к любому высшему мужскому утверждению личности и пренебрежение им, пафос равенства и братства, «богобоязненности», «греха» и «спасения».
То, что история до сегодняшнего дня показывает нам как столкновение между религиозным владычеством и «мирской» властью, является только отзвуком и более поздней материализованной формой этой противоположности. Во всяком случае, религиозная позиция в общем в такой малой степени может отождествляться с «духом», что она означает только относительно новый результат процесса упадка более древней, высшей и как раз «солнечной» традиции. Если мы рассмотрим состояние самых великих традиционных культур – от Китая до древней Скандинавии, от Египта до Ирана, от доколумбового Перу до Древнего Рима и т. д., – то мы всегда увидим идею абсолютного единства обеих властей: подтверждение королевской власти и духовности. Во главе иерархии стоит не церковь, а «божественная королевская власть»; идеал не «святого», а существа, которое своим превосходством и всепобеждающей силой своих понимаемых как «божественная техника» ритуалов играют ту же мужскую и господствующую роль по отношению к различным духовным силам или богам, что воплощает вождь по отношению к людям.
Только процесс духовного оскопления мог вести вниз с такого уровня до «религиозной» позиции. Удаление человека от Бога и низкопоклонство первого перед вторым в пользу жреческой касты всё увеличивалось, традиционное единство разрушалось, и на его место заступало расслоение между немужской духовностью (жреческий дух) и материализованной мужественностью (секуляризация государственной и королевской мысли). Если яркими формами древних «солнечных» культур мы обязаны в особенности арийским расам, то в Европе победу религиозного духа и как следствие овостоковление (Veröstlichung) греко–римского мира, крушение имперской идеи и подъём раннего христианства нужно приписывать в значительной степени семитскому элементу.
В данной статье мы выявим несколько известных черт средневековой культуры, служащих доказательством того, что в этой культуре присутствовало стремление к восстановлению универсальной традиции, последний вывод которой – несмотря на видимость– был антихристианским или превосходившим христианство.
Нордически–арийское пробуждение Рима
С большой вероятностью это нужно объяснять влиянием северных германцев. Уже в древнейших свидетельствах они кажутся близкородственными ахейцам, древним персам, ранним римлянам и в общем северным арийцам. Из–за суровых, несмягченных, грубо оформленных внешних форм своей жизни и обычаев эти расы могли считаться «варварскими» по сравнению с культурой, которая из–за своей бездушной юридически–административной организации и гедонистической, литературной и городской направленности опустилась до состояния, могущего называться синонимом упадка. Тем не менее, эти «варварские» расы в своих мифах и сказаниях сохраняли высокую духовность изначальной традиции, отражавшие жизнь, основанную на воинских и мужских ценностях достоинства, гордости, свободы, чести и верности.
Изначально признаваемые и почитаемые боги таких рас являются отчётливыми олицетворениями не религиозного, а как раз «героического» духа. Это сияющее воинство асов, постоянно сражающееся с «великанами» и духами стихий природы. Это Донар–Тор, «сильнейший из сильных», «неодолимый», «господин убежища от страха». Это Один–Водан, дарующий победу и властелин мудрости, отец валькирий, на полях сражения выбирающих героев, которых он делает своими сыновьями и бессмертными. Героические роды, как Вольсунги, до последнего сражаются против ragnarökkr, т. е. «сумерек богов», символа наступающих тёмных времён. Ещё готские короли назывались вmals – «чистые» или «небесные», и в качестве своей родины они прославляли символический Митгард, «срединную страну», расположенную – как и гипербореи солнечного Аполлона и иранская Арьяна Ваэджа – на крайнем севере. Масса других мотивов и мифов древнейшего арийского происхождения у этих народов точно так же является свидетельством воинской духовности, чуждой какому–либо «религиозному» отклонению.
Вероятно, вторжение «варваров» способствовало дальнейшему коллапсу материальной структуры азиатизированной империи: несмотря на это, оно в то же время означало гальванизирующий контакт с теми, кто ещё сохранял силу в чистом состоянии. Эта сила призывала к борьбе именно под знаками romanitas и imperium, т. е. знаками того величия, которому античный мир был обязан своим соответствием типу мужской солнечной духовности. «Обращение» «захватчиков» оставило почти неприкосновенным их этос, их собственную внутреннюю традицию, которая при принятии древнего символа Рима и после формирования новой европейской культуры должна была бороться против узурпации и гегемонистских требований церквей. Как известно, уже коронация франкского короля, осуществлённая в античный день рождения непобедимого бога солнца (natalis solis invicti), несла формулу Renovatio Romani Imperi (обновления Римской империи).
Подобное притягивает подобное. Древнескандинавский орёл Одина летит навстречу орлу легионов и капитолийского бога света. Древний дух проявляется в новых формах. Появляется великое оформляющее и объединяющее течение. С одной стороны, чтобы оставаться на гребне волны и господствовать, церковь «романизирует» своё христианство; с другой стороны, она противится новой действительности, она хочет устранить её и подчинить себе империю. Хотя из этого противоречия уже всё совершенно понятно, всё же нужно отметить то, что Средневековье как великая традиционная в высшем смысле культура появляется из–за северного элемента, и не благодаря, а скорее вопреки христианству.
Языческий этос феодальной системы
Наиболее типичной чертой средневекового общества является феодальная система. Однако она коренится в непосредственно северно–арийском обществе, основанном на принципах свободной личности и воинской верности; ничто так не чуждо ему, как семитско–христианский пафос «социализма» и общества любви (Liebesgemeinschaft). Здесь индивидуум предшествует группе. Наивысшей ценностью, истинным критерием аристократии уже в древнескандинавской традиции – так же, как и в древнеримской – была свобода. Дистанция, личность, индивидуальность были неразлучными элементами любого выражения жизни. В мирском и политическом смысле государство – как и в древнеримском аристократическом понимании– было советом равных вождей, свободных, из которых каждый был абсолютным господином на своей земле, отцом, вождём и жрецом своего рода (gens). Над таковым советом возвышалось государство как надполитическая, воплощённая в короле идея, так как в древнесеверной традиции король являлся таковым только из–за своей «божественной» крови; он выступал как аватар, оформленное проявление самого Одина–Водана. Перед лицом общей цели завоевания или защиты образовывалось иное отношение – жёсткая иерархия, новый принцип верности и воинской дисциплины. Избирался вождь – dux или heritigo, и теперь свободный господин превращался в последователя вождя. Как только общее дело подходило к концу, восстанавливались и нормальные первоначальные отношения независимости, и свободная индивидуальность.
Процесс, ведущий от такого древнесеверного порядка к средневековой феодальной системе, можно охарактеризовать по сути как объединение той же самой сакральной королевской идеи с военной идеей временного руководителя. Король становится олицетворением группового единства также и в мирное время. Это стало возможным при помощи усиления и распространения воинской верности – т. е. принципа fides – также на область гражданской жизни. Вокруг короля образуется свита «товарищей» – fideles или leudes, которые всегда чувствовали себя вполне свободными, но, тем не менее, усматривали в идеале верности, службы своему государю, борьбы ради его чести и славы скорее привилегию и более высокий образ жизни по сравнению с чисто индивидуальным.
Феодальный порядок возникает с прогрессивным внедрением такого принципа. Он по своей сути соответствует общей идее прямого организационного закона, которая из динамики различных сил оставляет самую большую свободу действий. Власти противостоят властям, подданные – господам, и господа – господам, так что всё – судьба, свобода, честь, слава, собственность – опиралось на индивидуальную ценность, и ничто или почти ничто – на бесформенный коллектив или на «общественную» власть. Даже король имел возможность за мгновение утерять своё качество, которое и делало его королём, и добиваться его снова. Никогда не обращались с человеком так жёстко: несмотря на это, этот режим был школой не раболепия, а независимости и мужественности, и при нём отношения верности и чести достигали никогда больше не достигнутой степени безусловности и чистоты.
Теперь мы должны сказать несколько слов, чтобы указать, что этому максимально характерному для средневекового духа устройству можно найти только слабое соответствие в христианско–семитском идеале любви. В нём она как раз противостоит верности, fides, которая, задолго до того, как появилась вся «немецкая верность», обнаруживается уже в одном из старейших римских культов, что позволяло говорить Ливию, что fides характеризует римлянина по сравнению с варваром. На самом деле и индоарийский идеал bhakti имел тот же смысл, что и этос, определяющий древнеперсидское общество. В таком обществе, даже в области инициации (митраизм), мужские добродетели имели более высокую ценность, чем сострадание и доброта, вследствие чего братство в таком созданном обществе – так же как у средневековых «равных» и «свободных» – было искренним, ясным и жёстко индивидуализированным братством, которое могло состоять только из объединённых общим предприятием воинов.
Тайная имперская традиция
Принцип fides, цемент отдельной феодальной единицы, вёл к чему–то вроде преображения в вечном, к высшему fides, к тому, что можно определить как надполитическое, всемирное имперское единство. Как и церковь, империя претендовала на сверхъестественное происхождение, направленность к «спасению» человечества и смысл этого пути. Однако, как два солнца не могут существовать в одной планетной системе, а двойственность церковь–империя понималась в смысле подобия двух солнц, то столкновение обоих высших центров великого феодального ordinatio ad unum[53][53]
Единства порядка (лат.) – прим. перев.
[Закрыть] должно было скоро начаться.
Однако придавать этому столкновению только политически–гегемонистский смысл было бы неверно. «Религиозной» церковной универсальной идее противопоставляется имперская идея как скрытая тенденция к восстановлению единства обеих властей, королевской и духовной, сакральной и человеческой. Даже если имперская идея часто ограничивалась в своих проявлениях только борьбой за господство над «телом» и порядком (ordo) христианских народов, то, тем не менее, в её основании остаётся языческая нордически–арийская идея «божественной королевской власти». Эта первоначально принесённая «варварами» идея при соприкосновении с символами древнего Рима превосходит границу отдельной расы, она становится универсальной, объединяющим и преображающим центром воинско–феодального устройства, более истинным по сравнению с церковью.
Даже сама церковь как противница империи подтверждает это воззрение собственной идеологией. Григорианское учение типично антитрадиционно: дуализм властей, первенство немужской семитской духовности над вытесненной на материальный уровень воинской мужественностью; священник как суверен над вождём, осознаваемым только в качестве политической власти государства. Король, ‘Laiker’, обязан своей властью только «естественному праву», а его империя означает только предоставленную ему beneficium[54][54]
Милость, благодеяние (лат.) – прим. перев.
[Закрыть] священнической касты.
Разумеется, такие притязания нужно расценивать как антитрадиционное заблуждение. Также помимо того, что было свойственно всем великим дохристианским традициям, даже в «обращённой» Византийской империи церковь оставалась зависимым от государства учреждением. В более поздние времена посвящение императоров по своему существу едва ли можно было отличить от священнического посвящения. Но если короли и императоры уже во франкскую эпоху обязывались «защищать» церковь, это вовсе не означало, что они признавали своё подчинение ей. «Защищать» церковь значило предоставлять ей защиту и наряду с этим обретать над ней власть. То, что называлось защитой, было договором, в котором защищаемый признавал себя зависимым от защитника и брал на себя все обязанности, которые язык того времени обобщал в слове fides. По свидетельству Эгинхарда, «после аккламации Папа бросился перед Карлом на колени, согласно господствующему во время древних императоров ритуалу». Тот же Карл Великий претендовал не только на «защиту» церкви, но и на право и власть «укреплять её в истинной вере изнутри». Так же знаменательны заявления: ‘Vos gens sanctaestis, atqueregaleestissacerdotium’ (Стефан III) [55][55]
Род его, святой и королевский, сакрален (лат.) – прим. перев.
[Закрыть] – ‘Melkisedeknoster, meritorexatquesacerdos, complevitlaicusreligionisopus’ [56][56]
Наш Мельхиседек, воистину король и жрец, вершит мирские и религиозные дела (лат.) – прим. перев.
[Закрыть] .
Поэтому враждебное отношение к империи гвельфов, прибегающим к словам Геласия I «после рождества Христова никто больше не может быть королём и одновременно священником», чтобы умалить идею империи, нужно расценивать фактически как восстание. Здесь миф вовсе не фальсифицирует историю, скорее он вводит нас в её более глубокое измерение и дополняет её. Как можно видеть уже из вышеприведённых слов, загадочный символ Мельхиседека и его «королевской религии» используется по отношению к императорам уже во франкский период. Мельхиседек, царь Салема, является священником высшего культа одной из семитских авраамических религий. На самом деле он —наглядное библейское представление небиблейской языческой и в более высоком смысле «традиционной» идеи «царя мира» (индоарийского Chakrawartî) и, следовательно, функции, объединяющей в себе «солнечное» обеих властей и образующей живую точку соприкосновения между этим миром и высшим, потусторонним миром. При встрече истории и мифа, действительности и символа именно эта мысль заново проявляется в многочисленных сказаниях о германских императорах. Согласно легенде, не только Карл Великий, но и Фридрих I и II «вечно живы». Вышеупомянутые приняли от таинственного «пресвитера Иоанна» (популярное наглядное средневековое представление «царя мира») символы бессмертной жизни и нечеловеческой силы (кожа саламандры, живая вода, золотое кольцо). Их жизнь должна продолжаться внутри горы (например, Оденберг или Киффхаусер [Kyffhäuser]), а иногда и под землёй.
Вследствие этого мы должны вернуться к универсальным символам древней языческой традиции. Точно так же в горе или под землёй нашёл убежище древнеперсидский царь Йима, «ярчайший из людей, яркий, как солнце», и там продолжил жить. Северо–арийская Валхалла, местопребывание обожествлённых королей и бессмертных героев, часто обозначалась как гора —Глитмирбьёрг (Glitmirbjorg) или Химинбьёрг (Himinbjorg). Согласно некоторым буддийским сказаниям, «пробудившиеся» – как и многие греческие «герои», и даже Александр Великий в некоторых легендах – скрываются в горе, «горе пророка». Символическая гора средневековых легенд, как и индийская Меру, исламская Кеф, гора Монсальват сказания о Граале, сам Олимп и т. д. – всё это в общем только различные формы проявления единственного мотива: символика «высоты» указывает на трансцендентные духовные состояния, которые в древней культуре считались условием власти и безусловной сверхъестественной функцией империи. Символика подземелья, т. е. сокрытого, выражает схожие идеи – как виделась связь между латинскими словами coelum и celare. [57][57]
«Небо» и «скрывать, таить» (лат.) – прим перев.
[Закрыть] Легенда о «вечно живущем», скрывшемся в горе императоре также доказывает нам, что в таких образах правителей неосознанно признавали проявления именно этой бессмертной функции вселенской духовной высшей империи (Überreich). Однако эта функция всегда должна соответствовать другому «традиционному» мотиву (Эдда, Брахмана, Авеста и т. д.), согласно которому они проявятся снова в решающий для мировой истории кульминационный пункт. Ту же мысль можно найти в средневековых легендах. Императоры Священной Римской империи снова просыпаются в дни освобождения заключённых за стальной стеной ещё Александром Великим народов Гог и Магог – символами демонического коллектива. Тогда произойдёт последняя битва. От их успеха будет зависеть, расцветёт ли снова «тёмное древо», т. е. всемирное древо и древо жизни, эддический Иггдрасиль, смерть которого будет значить ragnarökkr, сумерки богов.
Многозначительно, что некоторые из таких мифов (ср., например, Speculum Theologiae) доводили свою антипатию к церкви до того, что возрождённый император, позволяющий вновь расцвести тёмному дереву, приравнивается к антихристу: естественно, не в обычном смысле (так как он всегда понимается как победитель демонических народов Гог и Магог), а скорее из–за типа духовности, которая не сводится к церковной.
Гибеллинский элемент и жёсткая борьба вокруг императорского сана имели, кроме видимой стороны, и невидимую. Когда удача, казалось, благоприятствовала Фридриху II, народные пророчества говорили так: «Великий ливанский кедр будет срублен. Будет единственный Бог – монарх. Горе духовенству! Если он соберёт всё вместе, то новый порядок уже будет готов».
Смысл рыцарства
Рыцарство относится к империи, как духовенство к церкви. Если империя воплощала в себе попытку воссоединить обе власти согласно языческому идеалу, то в случае с рыцарством эта попытка оказалась успешной: оформленный согласно языческому этосу тип воина, аристократа и героя был вознесён на аскетический и даже сверхъестественный уровень.
Рыцарство считает идеалом в большей степени героя, нежели святого, в большей степени победителя, нежели мученика; оно признает критерием оценки в большей степени верность и честь, нежели charitas[58][58]
Любовь, привязанность, уважение (лат.) – прим. перев.
[Закрыть] и любовь; трусость и позор считаются им большим злом, нежели «прегрешение». Вместо непротивления злу и воздаяния за зло добром оно требует наказания зла и воздаяния злом за зло. В своей массе оно не терпит тех, кто буквально исполняет христианскую заповедь «не убий». Как принцип оно признает не любовь к врагу, а борьбу с ним и великодушие только при победе. Таким образом, рыцарство, христианское только по названию, утверждало почти несмягчённую геройски–языческую и арийскую этику.
Но это ещё не всё: от области феодального права до судейской и даже теологической области решением, удовлетворяющим основной мысли рыцарского духа, является решение всякого вопроса доказательством более могущественной силы (суд оружия и, соответственно, божий суд). Если здесь сила понималась как добродетель, которую Бог дал человеку для победы справедливости и правды, то в основе этой мысли лежит всё же мистически–языческое учение победы (ср. персидское учение о hvarenô), превосходящее любой религиозно обусловленный дуализм, объединяющее дух и власть, рассматривающее победы в качестве чего–то вроде божественного освящения; победитель, таким образом, приближается к небу, как аскет, а побеждённый, напротив, к виновному и соответственно низводится до грешника.
Вероятно, можно возразить, что рыцарство всё же признавало церковный авторитет и до конца вело крестовые походы во имя защиты христианской веры. Прежде всего, если рыцарский мир сохранял верность не только империи, но и церкви, то всё же нужно думать, что речь при этом шла не столько о христианской вере, сколько о разновидности общего идеала служения и геройского подчинения жизни и счастья сверхличностному. В виде крестовых походов древний идеал «священной войны» как мужского пути фактически достигает преодоления смерти ради новой жизни: идеал, который собственен не столько евангелическому христианству, сколько персидской и индийской (Бхагавад–Гита) традиции, и даже Корану, а также античному представлению о mors triumphalis. Даже если сражались за освобождение страны, где умер Иешуа–Иисус, всё же получается, что крестовые походы происходят преимущественно из духа тех взглядов на мир, которые могли признавать: «Кровь героев ближе к Богу, чем молитвы набожных и чернила мудрых», и в качестве небесного идеала почиталась Валхалла, дом героев, а как местонахождение бессмертных – «героический остров» белокурого Радаманта. По сравнению с этим, крестовые походы действительно имели мало общего с традицией, звучащей в изречении Августина: «Кто может думать о войне и выносить её без тяжелейшей боли, тот действительно потерял человеческое чувство» – здесь также умалчивается о мучениках фиванского легиона[59][59]
Фиванский легион отличался особенно большим числом воинов–христиан. В период антихристианских гонений легион был полностью уничтожен. – прим. перев.
[Закрыть] и грубых отзывах Тертуллиана о евангельском изречении «Поднявший меч от меча и погибнет» и о приказе Христа Петру вложить меч в ножны.
В крестовых походах под христианским покровом побеждает древняя духовная мужественность – на место святого и кроткого снова выходит священный воин. Священен и воинственен тип рыцаря в великих средневековых орденах. С этой точки зрения, конечно, самым типичным был орден тамплиеров. Однако такой же типичной является жестокая расправа с этим орденом церковью в союзе с враждебным дворянству и уже близким к современному типу светским правителем Филиппом Красивым. Против тамплиеров выдвигалось в том числе и такое обвинение, что во вступительной ступени их инициации неофит должен был оттолкнуть символ креста и объяснить, что Иисус – это ошибочный пророк и его учение не ведёт к спасению. Далее, тамплиеры совершали отвратительные ритуалы, где в том числе сжигали новорожденных детей. При этом речь идёт о признаниях, полученных посредством пыток, где преступления толковались как святотатство. С большой вероятностью под отталкиванием креста должно было подразумеваться только освобождение от низшей формы религии во имя высшей. Что касается овеянных дурной славой ритуалах сожжения новорожденных, то здесь, скорее всего, речь идёт об «огненном крещении» заново рождённых. Этот символ можно сравнить с символом саламандры, которая оживает, как бессмертный феникс, в огне героического возрождения и кожу которой мы находим в качестве одного из «знаков», которые Фридрих II получил от «пресвитера Иоанна».
С другой стороны, символику храма нельзя оценивать как чистый синоним церкви. Храм стоит выше церкви – церкви уходят, а храм остаётся как символ существующего родства между всеми великими традициями. Исходя из этой точки зрения, по нашему мнению, даже великое универсальное крестоносное движение на Иерусалим, к храму, имеет некий тайный задний план. Уже преимущественно гибеллинский характер этого движения и та роль, которую в нём играли альбигойцы и тамплиеры, должен был пробудить в нас подозрение. В самом деле, движению в Иерусалим часто было присуще оккультное движение против Рима, которое неосознанно вызвал сам Рим, и его militia[60][60]
Здесь: воинство (лат.) – прим. перев.
[Закрыть] – рыцарство; оно должно было достигнуть своих целей благодаря императору, которого Григорий IX рассматривал как «человека, угрожающего заменить христианскую веру собственными древними языческими ритуалами и узурпировать функции духовенства, восседая в храме».
Готтфрид фон Буиллон (Булонский) – типичный пример (lux monarchorum[61][61]
Свет монархов (лат.)– прим. перев.
[Закрыть] ) рыцарства крестовых походов – является образцом правителя, который взошёл на трон Иерусалима после того, как он железом и огнем хозяйничал в Риме, убил соперника–кандидата в императоры Рудольфа фон Ринфельда и выбросил папу из города Цезаря. В дальнейшем легенда создает смысловое «родство» между этим королём–крестоносцем и мифическим «рыцарем–лебедем», что со своей стороны подводит нас к языческим императорским символам (на что указывает сказочное «генеалогическое» происхождение Гелиаса от самого Цезаря), а также к «солнечным» и языческим гиперборейским символам (лебедь, Гелиас–Лоэнгрин с «неба», является также символическим животным гиперборейского Аполлона и знаком, который часто повторяется в палеографических следах северо–арктического культа). В такой связи Готтфрид фон Буиллон в сочетании с крестовыми походами кажется новым символом той тайной силы, чьим проявлением – только лишь внешним – выступала политическая борьба германского императора и даже победа Оттона I.
«Грааль» и «Госпожа»
В центре рыцарства стоит Храм – не только как Иерусалимский храм, но и как «храм Грааля». Эзотерическая сторона рыцарства во многих отношениях соответствует Граалю. В христианской формулировке этой легенды после тайной вечери ангелами был взят на небо Грааль – таинственный, способный светиться сосуд, утоляющий любую потребность в земной пище и дающий вечную молодость. Он снова опустится на землю, когда появится героический род, способный оберегать его. Вождь этого рода позволил воздвигнуть храм, подобный Иерусалимскому, для Грааля; это составило орден Грааля из 12 «совершенных» или «небесных» рыцарей. Поиск этого таинственного предмета образует наивысший рыцарский идеал и во многих отношениях равносилен поиску потерянной в течение времён или возвратившейся в область невидимого духовной традиции (исчезновение Грааля в небе). Если эту традицию приравнивать к священничеству церкви, то как тогда объяснить мысль, что Грааль исчез, а также то, что возвращение Грааля в земной «храм» связано с новым родом не священников, а героев и рыцарей? Кажется, что здесь снова проступает указание на духовность, отличную от церковной, в которой церковная традиция не обнаруживает никакой опоры.
С другой стороны, сказание о Граале является только христианской адаптацией языческих нехристианских мотивов. Таким образом, можно обнаружить, например, оба таинственных объекта сказания о Граале – чашу и копьё – в тех предметах, которые принесла с собой «божественная раса» Туата–де–Дананн (вероятно, кроманьонцы) от Аваллона до Ирландии. На остров Аваллон – «где нет никакой смерти» – возвращается король Артур. Однако, согласно некоторым сказаниям, сам король Артур был создателем рыцарства Грааля. Описание замка, где он по древнегэльской традиции оберегает – как Грааль – дарующий амброзию сосуд, совпадает с картиной символического местонахождения «царя мира», дворца «пресвитера Иоанна», эддического Асгарда, местонахождения асов и изначальных северных королей, а также с другими многочисленными аллегорическими символизациями «места» наивысших, владеющих авторитетом обеим властей. Прежде чем стать использованной в последнем причастии чашей Иисуса, Грааль был магическим сосудом, который Брану, сын Ллира, дал Матолух (Matholwch). Сила давала этому сосуду возможность возрождать к жизни «умерших» и излечивать любую рану. О многих других сосудах этого чудесного типа часто говорится в кельтских сказаниях, и говорят, что они отказывают в священном питании не «грешнику», а – совершенно в арийском духе – только трусу и клятвопреступнику.
Всё это осмысленно указывает нам на фон – употребляя выражение Ару – «мистерий» рыцарства. Даже если бы невежество определённых академических учёных едва ли позволило им обратить на это внимание, то сам Ару, далее Розеттии, наконец, Луиджи Валли проторили дорогу к следующим открытиям. Эти исследователи подтвердили существование зашифрованной аллегорической манеры говорить, с помощью которой выражалось не только переступающее барьеры христианской веры учение, но и решительная, иногда совершенно дикая антипатия к церкви в текстах, рассказах и стихотворениях рыцарства вплоть до Данте и так называемых «верных любви» (Fedeli d’Amore). В этой связи и в качестве завершения нужно уделить место несколько коротких рассмотрений рыцарской символики «госпожи».
Как известно, культ «госпожи» очень характерен для рыцарства: он распространился так сильно, что если понимать его в буквальном смысле, то его можно оценить только как заблуждение. Торжественно давать обет «госпоже», посвящать ей безусловную верность, искать славы и геройской смерти во имя её – таковы были лейтмотивы при рыцарских дворах. «Госпоже» позволялось решать вопросы мужества и чести рыцарей. Согласно продвигаемой замками «теологии» нет никакого сомнения в том, что умершему во имя своей «госпожи» рыцарю определено то же счастливое бессмертие, что и для павшего за освобождение храма крестоносца. Странно, а также довольно неприлично следующее: «госпожа» рыцаря должна была раздевать и сопровождать неофитов к купанию в качестве подготовки к «караулу при оружии» и рыцарскому посвящению. С другой стороны, такие образцы, как Тристан («рыцарь печального образа») и Ланцелот, одновременно являются рыцарями короля Артура в поисках Грааля, т. е. членами того таинственного ордена, к которому также принадлежат преодолевающий искушение Кундри Парцифаль и «небесный» рыцарь, как и гиперборейский рыцарь–лебедь, который отвергает Эльзу.
Определённо, во всем этом можно заметить и высший смысл. Так как это содержание не было известно ни судьям инквизиции, ни некомпетентным людям, то оно выражалось символикой странных обычаев и эротических рассказов. В сочетании с хорошо определённой языческой традиционной символикой для «госпожи» древнего рыцарства во многих случаях фактически предлагается то же истолкование, которое применяется для женщины у «верных любви». Женщина, которой обещается безусловная верность, а рыцари посвящают ей себя участием в крестовых походах; женщина, которая сопровождает к очистительному ритуальному купанию, рассматривается рыцарем в качестве награды и которая дарует ему бессмертие, если он умирает за неё – такая женщина не является физической женщиной; это скорее символ, который с определённой точки зрения тождественен даже символу Грааля. Как документально подтвердил Луиджи Валли относительно литературы «верных любви», «женщина» означает осознаваемый в трансцендентном смысле «интеллект», «святую мудрость», т. е. персонификацию преображающей духовности и больше не связанной со смертью жизни. Она является, так сказать, аватарой Гебы, вечной молодости, которая на Олимпе становится невестой героя Геракла, «прекрасного победителя»; произошедшей из ума богини Афины, которую этот дорический герой даже избрал руководительницей; эддической светлой богини Фрейи, предмета продолжительной жадности теллурических и, следовательно, стихийных существ, которые тщетно стремятся заполучить её; Сигрдрифы–Брюнхильд, которой Водан определяет героя, который превзойдет «крещение огнём» (при этом мы можем напомнить о символике огненного крещения тамплиеров); относящейся к гностицизму девы Софии и всех тех богинь, которые встречаются в многочисленных восточных и западных мифах в сочетании с древом мира и жизни, и которые воплощают стихийную силу жизни, а поэтому также и власть (ср. двусмысленность санскритского слова шакти, которой обозначает одновременно «невеста» и «сила, власть»).