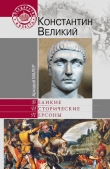Текст книги "Традиция и Европа"
Автор книги: Юлиус Эвола
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц)
Юлиус Эвола
Традиция и Европа
Традиция и Европа
ПРЕДИСЛОВИЕ
Данный сборник объединяет в себе тридцать статей разных лет известного итальянского мыслителя–традиционалиста Юлиуса Эволы (1898–1974). Большинство из них публикуются на русском языке впервые. Материалы в сборнике сгруппированы тематически, без соблюдения строгой хронологической последовательности.
Первые статьи – «Сакральное в римской традиции» и «Рим против Этрурии» – посвящены традиции величественного Древнего Рима. Раскрыв в первой статье суть древнеримской традиции как традиции действия, во второй статье Юлиус Эвола рассматривает её как противоположную традиции загадочных этрусков, имевшей скорее хтонический характер. И пусть нам до сих пор не так уж много известно об этрусках (фантазии некоторых отечественных горе–историков в духе «этруски – это русские» всерьёз принимать, конечно, не стоит), подобное противопоставление достаточно интересно.
Следующие три статьи «Император Юлиан», «О мистериях Митры» и «Путь просветления в мистериях Митры» объединены темой митраизма – древней героической религии. Посвящённому в мистерии Митры последнему языческому императору Рима Юлиану не суждено было возродить величие Древнего Рима, и сам митраизм постепенно отошёл в мир преданий. Что он представлял из себя, и какой инициатический путь он предлагал неофитам – на эти вопросы развёрнуто отвечает последняя статья из этой троицы.
Следующая статья под названием «Пределы регулярности инициации» посвящена проблеме инициации. В ней Юлиус Эвола критически рассматривает учение об инициации французского классика традиционализма Рене Генона. Но это не столько полемика с Геноном, сколько уточнение отдельных моментов и своего рода обзор возможностей получения инициатического опыта в наш тёмный век.
Статья «Свастика как символ полюса» посвящена значению этого древнего и вызывающего сегодня противоречивые ассоциации символа. Юлиус Эвола обращается к исследованиям Германа Вирта и демонстрирует первичный смысл свастики – непоколебимый центр, олимпийский принцип – фактически, вечность.
Названия статей «Сакральный характер королевской власти» и «Мистерии Грааля и имперская идея» говорят сами за себя. В первой Эвола демонстрирует глубокие корни идеи о священной сути верховной власти царя, короля, императора: это не просто человек, но нечто большее, существо божественного происхождения. Во второй статье рассматривается загадочный Грааль средневековых преданий во взаимосвязи с гибеллинской идеей: Грааль увенчивал собой средневековый миф об Императоре.
Продолжает рассмотрение имперской идеи статья «Нижний мир христианских Средних веков». Автор доказывает, что в средневековой европейской культуре – казалось бы, тотально христианской – присутствовало стремление к восстановлению древней универсальной «солнечной» традиции, и при этом налицо были антихристианские или выходившие за рамки христианства тенденции.
Красный цвет в ХХ веке окончательно превратился в узнаваемый символ левого, коммунистического движения. Но в статье «Красное знамя» итальянский мыслитель демонстрирует, что первоначально красный является императорским цветом, цветом действия в высшем смысле, а древние символы были узурпированы силами деградации.
Статьи «Преодоление ‘сверхчеловека’» и «Ницше: нигилизм и смысл жизни» посвящены философскому наследию Фридриха Ницше. Если в первой статье Юлиус Эвола обращается к концепции сверхчеловека, демонстрирует её сущность и ограничения, то вторая – это рецензия на книгу немецкого философа Р. Рейнингера «Борьба Фридриха Ницше за смысл жизни» (Friedrich Nietzsches Kampf um den Sinn des Lebens, 1922). Но, как это иногда бывает, это нечто большее, чем просто рецензия: мыслитель подробно рассматривает взаимоотношения философии Ницше и современного нигилизма.
Следующая статья «О тайне упадка» (известная в русском переводе также под названием «О секрете вырождения») отвечает на важный вопрос – как могло случиться, что величайшие цивилизации древности оставили после себя только руины, а иногда – лишь туманные воспоминания, отражённые в мифах и легендах? Ответ на этот вопрос таков: деградация происходит тогда, когда свобода воли человека используется для отрицания духа, что в итоге приводит к потере связи с высшей точкой опоры. «Европеец сначала уничтожил иерархию в самом себе, искоренив свои внутренние духовные способности, находящиеся в тесной связи с основными принципами традиционного порядка, который затем и был разрушен».
В статье «Два лика национализма» автором кратко излагается закон регрессии каст, анализируется современный национализм и делается вывод о возможности национализма, направленного не против традиционного порядка, как это имело место при зарождении европейских национальных государств, а, наоборот, стремящегося к возрождению новой аристократической иерархии.
Триада «Раса и культура», «Раса как сила, созидающая вождей» и «О метафизических основаниях расового мышления» посвящены расовой проблеме. Обращаясь к вопросу о расе, Юлиус Эвола никогда не уставал подчёркивать абсолютную недостаточность и неполноценность одностороннего, чисто биологического подхода, сводящего человека до уровня животного.
Статьи «Феминизм и героическая традиция», «Американская ‘цивилизация’» и «Живём ли мы в гинекократическом обществе?» посвящены анализу негативных сторон современной цивилизации, при этом особое внимание уделяется социальному аспекту вопроса взаимоотношения полов.
Несколько особняком стоит статья «Драма румынского легионерства», в которой автор обращает внимание читателя к трагической судьбе Корнелиу Кодряну – знаменитого румынского подвижника правой идеи. Здесь стоит отметить, что недавно книга последнего «Моим легионерам» наконец–то вышла на русском языке.
Следующий блок статей – «О духовных предпосылках европейского единства», «Рейх и Империя как элементы нового европейского порядка», «Европа и органическое мышление», «Носители мифа Европы» и «Духовные и структурные предпосылки Европейского союза» – посвящён Единой Европе. Юлиуса Эволу всегда интересовала эта тема. Сегодня, когда Европейский союз стал реальностью, можно наблюдать, с одной стороны, постепенную концентрацию власти в руках «брюссельских бюрократов», а с другой – неповоротливость и неуклюжесть этого разношерстного союза, не объединённого никакой высшей идеей. Через все материалы, посвящённые этой теме, красной нитью проходит тема Imperium Europa – единства, основанного не на преходящих политических или экономических интересах, а на реальной духовности высшего типа. Какие опасности угрожают Европе? Кто мог бы стать носителем европейской идеи? В какой области прежде всего возможно единство? Все эти вопросы находят своё освещение.
Статья «Кровожадный барон» посвящена загадочному барону Унгерну фон Штернбергу. Также в ней затронута тема «царя мира».
Небольшая статья «Благородный дух» посвящена вопросу духовной элиты, а следующая, завершающая сборник статья «Орден железного венца» более подробно освещает тему того, какова могла бы быть форма организации сегодняшней духовной элиты, объединённой в орденскую структуру. Этот материал имеет под собой реальную основу: в середине 60–х годов XX века определённые круги обратились к Юлиусу Эволе, чтобы он в самых общих чертах набросал план Ордена, который мог бы противостоять современному миру не только словом, но и делом.
Статьи «Сакральное в римской традиции», «Рим и Этрурия», «Император Юлиан», «О мистериях Митры», «Путь просветления в мистериях Митры», «Пределы регулярности инициации», «Ницше: нигилизм и смысл жизни», «Раса как сила, созидающая вождей», «Живём ли мы в гинекократическом обществе?» и «Духовные и структурные предпосылки Европейского союза» были переведены с английского языка, остальные статьи – с немецкого языка.
САКРАЛЬНОЕ В РИМСКОЙ ТРАДИЦИИ
В 1929 году издательство «Принципато» выпустило книгу Витторио Маккиоро под названием ‘Roma Capta. Saggio intornoalla religione dei Romani’. [1][1]
«Понятый Рим. Эссе о римской религии» (итал.) – прим. перев.
[Закрыть] Эта книга примечательна из–за серьёзного подхода к подаче информации, ясности описания и иллюстрации пронзительного трагического чувства, присутствовавшего в древнеримской традиции. Конечно, мы далеко не во всём согласны с интерпретацией Маккиоро. Ему, как и почти всем современным «эрудитам», недостаёт доктринальных и традиционных точек опоры, которые уже сами по себе позволят нам понять реальную суть того, что можно называть духовностью времени, предшествовавшего современности. Тем не менее, в этой книге он даёт нам много частично организованного материала, который могут использовать желающие исследовать глубины мира римской религиозности до периода её изменения чуждыми влияниями. Мы используем её в этом очерке, предназначенном для пролития света на иные аспекты римской традиции по сравнению с теми, которые были предметом предыдущих работ.
Саллюстий, говоря о ранних римлянах, использует выражение religiossimi mortales[2][2]
Самые религиозные из смертных (лат.) – прим. перев.
[Закрыть] («Заговор Катилины», 13), а Цицерон заявлял, что древняя римская цивилизация по своему чувству священного превосходила любой другой народ или государство: omnes gentes nationesque superavimus («Об ответах гаруспиков», IX, 9). Эти свидетельства, как и другие, которые можно найти в целой серии древних писателей, даже если они составляют формальное опровержение взглядов тех, кто видел и обнаруживал в римской цивилизации только гражданские, политические и юридические профанные аспекты, всё же не должны вводить в заблуждение относительно использования самого термина «религия». На самом деле, изначальная, традиционная, связанная с таинственным происхождением «священного города» «религия» римлян имела не так уж много общего с тем, что это слово обозначает сейчас.
Во–первых, в древнеримской «религии» почти полностью отсутствовала персонификация божественного – в культе не было изображений. Древние римляне не были склоны мыслить посредством образов. В этом состоит (в профанной области) одна из причин презрения, которое древние римляне питали к художникам – они гордились тем, что их отличают весьма иные идеалы, нежели создание образов и скульптур из мрамора. Отсюда (в области священного) не существование в раннем Риме мифологии того рода, которую привыкли называть греческой, но которую лучше назвать мифологией греческого упадка. Ещё в меньшей степени римляне воспринимали богов как философские абстракции, как теологические концепты, как умозрительные гипотезы. В римской реальности такие идеи имели такое же слабое распространение, как и образное искусство.
Таким образом, римляне знали божественное не как «мысль», не как мифологический мир, и даже не как опору простой веры. Римляне знали божественное как действие. В римлянах ощущение numen было приоритетным перед ощущением deus: numen – это божество, понимаемое не столько как «личность», сколько как «сила», принцип действия; это сущность, чьё представление было неважно (в лучшем случае для представления numen древние римляне использовали символические объекты: копьё, огонь, щит и так далее), было важно его реальное действие. Таким образом, вполне можно сказать, что древнеримская «религия» имела «экспериментальный» характер. Сервий в комментариях к «Эннеадам» (III, 456) отчётливо выявил этот момент, говоря, что для древних римлян, maiores nostri, [3][3]
Наши предки (лат.) – прим. перев.
[Закрыть] религия содержалась не в вере, а в опыте: maiores enimexpugnando religionem totum in experientia collocabunt. К этому можно добавить свидетельство Лактанция («Божественные институты», IV, 3), который сообщает нам, что римская «религия» была направлена не на поиск «истины», а на знание ритуала: nechabet inquisitionem aliquam veritas sed tantummodo ritum colendi.
Таким образом, оправданно говорить о специфически римской активно–интенсивной концепции священного. Кажется, что древние римляне всё ещё хранили это отношение к области сущностного, что заставило их исключить из первоначальных традиций любую фантастическую и мифологическую форму сверхчувственного восприятия. Мы хорошо знаем, что традиционные мифологии со своими разнообразными персонажами – это не порождение человеческого воображения, а система форм, в которых воображение своими образами выражает, овеществляет сверхчувственный опыт. Но нам также хорошо известно, что эти способы косвенного и мифологизированного опыта стоят ниже прямого и абсолютного опыта, т. е. такого опыта, который обходится без форм и образов, являясь безмолвным и сущностным. Именно таков уровень римской концепции священного. Эту концепцию можно рассматривать как гармонический сакральный двойник того реализма, той нетерпимости к несущественному, сентиментальному и субъективному, который всегда был римским правилом в этическом, политическом и социальном плане. И как сознательность высшего этоса– того внутреннего стиля жизни, который заставил первого посланника уже выхолощенной Эллады сказать, что в римском сенате он обнаружил не собрание варваров, как он боялся, а почти что «совет царей» – была скрыта в римском презрении к эстетам и «философам», так и в очевидной бедности изначального римского культа, в его сырых и простых формах, чуждых всякому мистицизму и пафосу, любым причудливым и эстетическим одеяниям, есть что–то таинственное и мощное, что в своём величии оказывается трудным для понимания: дыхание примордиальности (изначальности).
Концепция бога как numen в Древнем Риме соответствовала концепции культа как чистого ритуала. Он сопровождал любой аспект римской жизни – как индивидуальный, так и коллективный, как частный, так и политический, как в мирное, так и в военное время. Древнейшая римская религия была связана с так называемой Indigitamenta. Слово indigitare означает «призывать». Indigitamenta была трактатом, в котором были записаны имена различных богов и случаи, в которых каждого из них можно было эффективно призвать, согласно их природе и, так сказать, юрисдикции. Эти имена, таким образом, являлись nomina agentis, то есть они имели не мифологическое, а практическое значение. Они также окружали таинственные отношения, основывающиеся на древней идее, согласно которой имя до определённой степени содержит силу, душу названного и вызванных вещей. Типично римское выражение, всегда сопровождавшее ритуал: «Я чувствую, что я называю». Оно закрепляло глубокое осознание действия, его силу, участие в его «фатальном» аспекте, который превратит его в команду для невидимого.
Таким образом, были существенны не молитвы или догмы, а ритуалы. Отношения римлян со священным находили свой принцип и свой конец в ритуале. Римская «религия» – как пишет Маккиоро – «никогда не имела теоретического, этического или метафизического содержания; она никогда не обладала и не желала обладать полнотой доктрин бога, мира или человека; она полностью исчерпывалась ритуалом. Вне ритуала не было религии, хорошей или плохой, истинной или ложной. Быть религиозным означало правильно исполнять ритуал. Изменяющий ритуал выходит за границы религии, и, какими бы искренними ни были его намерения, впадает в суеверие. Именно поэтому определение истинного, т. е. эффективного, адекватного, решающего ритуала составляло центр римской «религии». Таким образом, оно было ius sacrum, т. е. установленным традиционным ритуалом, совпадавшим с религией, который, как таковой, нельзя было изменить даже в самой мелочи без нарушения связи с богом, вовлечённым в ритуал. Малейшее нарушение в ius sacrum, даже по невнимательности, вызывало piaculum, так что всю церемонию приходилось совершать заново. Если виновный в piaculum сознательно совершил ошибку, то его связь с божеством прерывалась навсегда, и он оказывался за пределами ius sacrum, он становился impius[4][4]
Нечестивый, преступный, гнусный (лат.) – прим. перев.
[Закрыть] и подвергался божественному наказанию; если же piaculum было непреднамеренным, то связь восстанавливалась при помощи искупительного жертвоприношения».
Что касается «божественного наказания» и «искупления», то в отношении этого мы выскажемся вполне ясно. Дело здесь не в «грехе» или «покаянии». Опыт в лаборатории может быть испорчен из–за неповоротливости или неосторожности. Тогда его нужно повторить, если человек не пострадал от последствий ошибки, которую может повлечь за собой любая мелочь. То же самое можно сказать о ритуальном действии. Когда древнеримская традиция говорит о человеке, который был «поражён» из–за изменения ритуала жертвоприношения, в этом «божественном наказании» можно только видеть безличный эффект вызванных и плохо управляемых сил. Что касается искупления или искупительного жертвоприношения, то оно не имело значения морального акта, но, если так можно выразиться, это была объективная операция детоксификации и реинтеграции того, кто нечаянно вызвал силы, направленные отрицательно, а также призванная ослабить объёктивную силу «пробуждения» и indigitare в личности виновного.
Именно ритуал, в своей неизменной традиции, определённый в каждом аспекте ритуала как традиции трансцендентального действия, был центром, вокруг которого вращались не только римская жизнь, но и римское величие. Валерио Массимо (I,1, 3) упоминает, что римляне приписывали свою удачу ритуальной щепетильности. Согласно Ливию (XVII, 9), после ужасной битвы при Трасимене не жрец, а генерал Фабий сказал солдатам: «Ваша ошибка заключается скорее в пренебрежении жертвоприношениями, чем в недостатке храбрости или умения». Плутарх («Жизнь Марцелла», 4) упоминает, что в трагические моменты галльской войны римляне «думали, что для защиты города более важно, чтобы консулы практиковали божественные вещи, нежели разбили врага». Загадка изначальности господствовала: «Рим не мог бы приобрести такую большую власть, если бы у него не было божественного происхождения, чтобы показать людям что–то великое и непостижимое» (Плутарх, «Об удаче римлян», I, 8). И, в качестве последнего эхо, император Юлиан («Против галилеян», 222с) не колеблется, говоря, что он не может противопоставить «владение как всеми варварскими странами, так и Римом» ритуальному знанию богов.
Всякий, кто не может видеть мужское, сдержанное величие этой духовности, потому что всякая «религиозная близость», любой сентиментализм и теологические спекуляции кажутся почти отсутствующими в этом мире, состоящем из numina и riti, [5][5]
Ритуалы (лат.) – прим. перев.
[Закрыть] мог бы склониться к определению римского взгляда на священное как «магического примитивизма», почти как у дикарей. Кажется, что и сам Маккиоро придерживается этого мнения. Но читатель знает уже достаточно, чтобы не впасть в подобное непонимание: если «магия» могла быть традиционной древней наукой не такого уж высокого рода, которую римляне неоднократно запрещали, она, тем не менее, может отмечать такое же духовное отношение по сравнению с «религиозным» (в общем, «набожном» смысле), как мужское по сравнению с женским, как «солнечное» по сравнению с «лунным». Что касается дикарей, то читатель знает, что для нас они представляю собой тёмные остатки древнейших рас и цивилизаций, сами имена которых зачастую сегодня утеряны. И так как то, что было в самом начале, было не низшим, а высшим, самым близким к абсолютной духовности, тот факт, что определённые традиции среди дикарей сохраняются только в материализированных, грубых и выродившихся формах, не должен отпугивать нас от признания их смысла и достоинства, которым они обладают, если возвести их обратно к первопричине. Это же во многом касается и «магии» (не колдовства) у дикарей. Первоначальный Рим воплотил – не в выродившихся формах, как у этих жалких остатков, а в по–прежнему ясных и осознанных формах, изначальную духовность, оплодотворявшую всю его жизнь и скрыто придававшую силу его величию именно посредством ритуала и ритуальных традиций.
Давайте теперь перейдём к другой характеристике римской концепции священного – её «имманентности». В этом отношении не нужно думать о спекуляциях «идеалистической» современной философии. Для прояснения лучше сравним стиль римской и эллинской духовности. В то время как последний во многом находится, скажем так, под знаком пространства, первый находится под знаком времени. Для последнего боги, объекты чистого созерцания, живут в качестве вечных сущностей в абсолютном пространстве «высшего мира»; для римлян же боги, не теряя ни капли своего метафизической сути, сущностно проявляются– как numina – во времени, в истории, в человеческих превратностях; и самой большой заботой римлян было создание баланса при встрече между человеческими и божественными силами, или устроение того, чтобы одни продолжали или направляли другие. Всё загадочное римское искусство содержит подобную идею: и так как, в свою очередь, узоры ответов оракула и самих оракулов были неотделимы от всех римских дел, то можно сказать, что вся римская история для наших предков имела характер поистине священной истории – истории, постоянно предрекаемой божественными смыслами, откровениями и символами. Факт состоит в том, что всё это встречало не экстатическое и пассивное, а скорее активное, воинственное отношение. Вполне можно сказать, что римляне делали историю священной, питая её невидимыми силами и действуя совместно с ними.
Частный аспект «имманентности» касается символа человека. Хорошо известно, что в начале римской истории сан понтифика и сан царя совмещались одним человеком; даже впоследствии до августовской реставрации сакральные функции по самой своей сути были прерогативой политических лидеров – консулов и многих других. В области сакрального можно найти даже более типичные примеры. Один из них был выявлен Кереньи. [6][6]
Карл Кереньи (1897–1973) – венгерский и швейцарский филолог и религиовед. – прим. перев.
[Закрыть] В Элладе олимпийского бога в его совершенстве символизировала статуя. В Риме тот же самый бог освящал живой символ, flamendialis[7][7]
Одна из должностей верховных жрецов, на которых были перенесены сакральные аспекты царской власти после изгнания царей – прим. перев.
[Закрыть] – эта величественная и чистая фигура, тесно связанная с идеей государства, являлась на протяжении своей жизни живым символом божественного – так что её можно было назвать «живой статуей Юпитера». И, даже в уже тусклых воспоминаниях, похожие смыслы сохранялись в эпоху империи. Императорский культ является как раз его свидетельством. Человеческая фигура повелителя воплощала божественный символ.
Давайте упомянем ещё об одном аспекте римской «религии», связанным с загробным миром. В самом начале можно сказать, что проблема загробного мира как «религиозная» проблема даже не поднималась для обычного римлянина. Будучи по–мужски реалистичным, чуждым всяким пустым спекуляциям, закрытым для всяких волнений, связанных с надеждой, страхом и верой, римлянин этим не интересовался. Он мог взглянуть на самого себя ясным и спокойным взором. С другой стороны, он не нуждался в сверхъестественных перспективах, чтобы придать своей жизни смысл и внутренний закон. Таким образом, изначальная концепция загробного мира в Риме была главным образом концепцией мира ночи, состояния без радости и страданий: perpetua nox dormienda — говорит Катон; ultra neque curae neque gaudi locum esse[8][8]
Нет места ни заботе, ни радости (лат.) – прим. перев.
[Закрыть] – эти слова приписывают Цезарю. Успех эпикурейской философии, которую резюмировал Лукреций, в этом смысле существенен. Он означает не материализм, но, опять же, реализм. Древнеримская душа отторгала мистицизм и мифологию, заимствованную из Азии и упадочной Эллады; их можно найти в основном в концепциях, таких, как у Лукреция или Эпикура, в которых объяснения вещей согласно природным причинам имели функцию оружия против страха смерти и богов для низших классов, чтобы, говоря кратко, освободить жизнь и придать ей покой и уверенность. В то же время для лучших существовал незамутнённый олимпийский идеал богов как безмятежных и невозмутимых сущностей, для которых нет ни надежды, ни страха, и которых мудрые могут рассматривать как модель и предел совершенства.
Но проблема загробного мира не сводилась к проблеме посмертной участи индивидуальной души. В древнем мире человека всегда считали существом более сложным, чем просто связка душа–тело; существом, составленным из различных сил, и, в первую очередь, сил рода и расы, имеющих свои законы и особые отношения с живыми и мёртвыми. Римляне интересовались главным образом той частью души, которая состоит в сущностном отношении с такими силами: таким образом, не самим покойным, а покойным, понимаемым как сила, продолжающая принимать участие также и в судьбе семьи, народа или расы, и способная на реальное действие. Здесь снова проявляются характеристики общей римской концепции священного: не душа, а сила; несентиментальная близость, а объективность ритуала. По сути, первоначально римляне считали мёртвых не личностями, а безличной энергией, с которой можно взаимодействовать как со всеми другими невидимыми двойниками видимых вещей.
Фюстель де Куланж отмечал, что мёртвые не любили живых, равно как и наоборот. Не было отношений, связанных с сожалением, болью или печалью; или же, по крайней мере, это было чем–то подчинённым и «частным» по отношению к сущностной цели, которая состояла в направлении энергий, освободившихся со смертью, чтобы заставить их приносить не несчастье, а «удачу».
Теперь мы кратко рассмотрим развитие римской концепции загробного мира. В самом начале чувствуется эффект субстрата духовности италийских народов низшей, теллурической, негероической цивилизации, чей горизонт в этом отношении ограничивался «путём инферно»: именно поэтому считалось, что мёртвые в общем растворяются в безличной энергии крови и продолжают оставаться вместе с живыми только в таком качестве – но не как преображённые сущности. Таков смысл античной концепции лар, о которой можно сказать, что она скорее этрусская, нежели римская. Лары – это genius generis, [9][9]
Гений (дух) рода (лат.) – прим. перев.
[Закрыть] т. е. жизненная сила, порождающая, поддерживающая и развивающая данный род и в то же время служащая в качестве вместилища энергий покойного: субстанция, в которой тот продолжал жить и незаметно присутствовать в народе. Культ лар в своей изначальной форме, как мы уже сказали, не является римским, а также не имеет патрицианского характера: он имеет этрусско–сабинское происхождение. Он был намеренно внедрён в Риме царём Сервием Туллием – плебеем по рождению. Легенда о том, что лары – это сыны «безмолвной Мании» или Акки Ларентии, тождественной Деа Диа (Dea Dia), [10][10]
Богиня плодородия – прим. перев.
[Закрыть] и их область – это не высота небес и не символическое место на земле, но инфернальная подземная зона (deorum inferorum, quos vocant lares, по Фесту), возвращает нас к азиатско–южной цивилизации натуралистично–матриархального типа, незнакомой с высшим идеалом небесной мужественности. Особенностью культа лар было то, что в нём важную роль играли рабы, и это был единственный культ, в котором использовались слуги.
Но подлинный римский дух проявляется через более позднее очищение этого культа. Концепция покойного, растворяющегося в тёмной и натуралистической силе предков, уступает место концепции покойного как «героя», как божественного предка, принципа сверхъестественной наследственности, который семья или благородный ритуал обновляли и подтверждали в линии наследования. Варрон, сравнивая лар с манами, называл их «божественными духами» и «героями». С этого времени их сравнение с героями патрицианского эллинистического культа становилось всё более частым, и фундаментальные взгляды, свойственные великим арийским цивилизациям гиперборейского происхождения, в этом отношении заново утвердились в Риме. Цензорин и Плутарх говорят нам о дуальности, о двойном genius, светлом и тёмном, до того времени, как в традициях, которые Плотин снова будет обсуждать, лары будут пониматься как души тех, кто освобождены смертью и становятся вечными духами. Хотя лары изначально представлялись в образе змей, двусмысленных животных сырой земли, позднее они приобрели мужественный образ pater familias, [11][11]
Отец семейства, глава семьи (лат.) – прим. перев.
[Закрыть] в жесте жертвоприношения, что возвращает ларам «царский» смысл, содержащийся в первоначальном выражении: так как lar соответствует греческому anax, что означает «начальник», «вождь» или «князь».
Это отчётливо аристократическая точка зрения, соответствующая наиболее очищенному римскому сознанию. К тому времени судьба тех, кто станет только лишь тенями Гадеса, отошла на второй план. Покойный, оставшийся с живыми – это непросто жизненная энергия рода, но скорее что–то преобразованное, ясный принцип, чьё тело составляет вечный ритуальный огонь в центре благородного дома, и являющийся не абстракцией или памятью, а скорее силой, действующей в смысле проявления расположения, «удачи» и величия в ряду поколений– при условии, что этот ряд, верный своей традиции, продолжает поддерживать контакт.
Таким образом, нам явился другой аспект римской «имманентности». Римское единство мёртвых и живых является только лишь формой божественных и человеческих сил, развивающейся в области действия и истории. Опять же, предел этого процесса представит императорская теология со своими символическими божественными генеалогиями. ‘Genius’ повелителей уже является истинной силой «высшего мира», чьи таинственные отношения связывают с невидимыми влияниями данной крови и с надындивидуальным элементом, неотъемлемым от имперской функции.
Sul “sacro” nella tradizione romana // UR, т. III, 1930