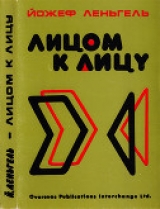
Текст книги "Лицом к лицу"
Автор книги: Йожеф Леньгель
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
Теперь, накануне ухода с этого поста, он начал искать вокруг себя лицо, которое с радостью встретил бы еще когда-нибудь в будущем, но не мог найти. Кешеру первым обозлился на Баницу, но тот и не старался добиваться его дружбы. Самым приемлемым был бухгалтер Кардош – тот хотел казаться добросовестным служащим, и был им на самом деле. Кроме Кардоша – никого. В конечном итоге Баница был рад предстоящему отъезду, возможности встретить новых людей, другие лица. Хуже не будет…
Он не искал дружбы среди дипломатов. Ему достаточно было в соответствии с принятыми нормами представлять его маленькую родину, и делать это не без достоинства. Большего никто бы не сделал для тогдашней Венгрии. Единственным, может быть, полюбившимся ему человеком был датский морской атташе, который не мог скрыть своего отвращения к посольским кабинетам. И над рюмкой водки они могли бы стать друзьями… Но, по правде, из этого тоже ничего бы не вышло, ведь Баница не любит пить… Все-таки парню не помешает попробовать венгерских водок, а вдруг ему придутся по вкусу еще больше голландского коньяка. Еще лучше – найти ему какую-нибудь особенную, хитрую бутылочку. В подвалах посольства осталось несколько приличных бутылок после этнографической выставки. Он пошлет датчанину трехлитровую, с выдержанной абрикосовой водкой. Такие бывают только в посольствах, на рынке их ни купить, ни продать. Парню наверняка понравится абрикосовая водка – «барак» – специальность неизвестной маленькой сухопутной страны, которой ему никогда не придется повидать… Да, это нужно сделать, он пошлет ему абрикосовую водку. Принц Уэльский во время своих частых визитов в Будапешт так к ней привязался, что и часа не ходил трезвый, зато выучил одно венгерское слово: «барак»… Принц Уэльский… Пусть датчанин пробует на здоровье.
Только… он ведь захочет как-нибудь отблагодарить. А это поведет к объяснениям с третьим секретарем. Третий секретарь посольства – политуполномоченный. В таких делах он начальник. «Пошлю бутылку в последнюю минуту перед отъездом… у парня не будет времени слать ответных подарков… в самый последний день. Третий секретарь и так начнет вынюхивать, напишет донесение, будет задавать вопросы… Пусть доносит… Это отвратительно, унизительно! Гм… Неужели влияние Эндре Лассу? Или я и раньше все это считал отвратительным? Да, конечно, но у меня для всего было оправдание: бдительность, коммунистическая бдительность, для которой причин множество».
Снова и снова он задает себе тот же вопрос, спрашивает у собственного страха: «Неужели нет другого выхода?»
По утрам он остается в бюро, хотя работы мало. Жену встречает только на обедах.
– Мы можем сбыть наши рубли без труда, – сообщает ему жена. – Я продам мебель. Госпоже Кешеру.
– Тебе виднее, дорогая.
Юный Ричард Тренд, который сидит теперь на своем обычном месте рядом с матерью, тоже думает о покупках:
– Мама, купи мне меховую шапку.
– Неплохая мысль, но давай купим каракулевую.
– Как у генералов?
– Примерно.
– Здорово!
– А ты, – обращается Илона к Банице, – что тебе нужно?
– Я думаю, ничего.
– Да, конечно, ведь ты едешь в Лондон.
Баница не отвечает. В душе он уже выговаривал себе за желание поехать в Лондон без них. Хотя так лучше для всех. Они уже там были вместе и очень неважно ладили.
– Купить простыни?
– Конечно, – рассеянно отвечает он.
Они поспешно кончают обед. Илона тут же выходит за покупками, забирает с собой Нуси.
В посольском магазине их влечет свежий запах льняного белья, только что привезенного с фабрики. Едва войдя, Нуси хватает угол отреза, мнет его, расправляет. Илона безошибочно ориентируется в путанице проходов по запахам. Пожилой продавец семенит к ним.
– Разрешите продемонстрировать, – улыбается он. Непринужденно достав из кармана спичечный коробок, зажигает одну спичку и подносит ее к выдернутой из пряжи шерстяной нитке. Неприятный запах гарантирует превосходное качество шерсти. Илона соглашается, одобрительно кивает, но не проявляет интереса.
– Мы бы хотели посмотреть постельное белье.
– Сюда, прошу вас, – указывает направление продавец.
Когда они входят в отдел белоснежного белья, продавец сильными и уверенными движениями стаскивает с полок рулоны. Тяжелый материал с глухим стуком ложится на прилавок.
– Мне готовые простыни и наволочки, – говорит Илона и добавляет, обращаясь к Нуси: – Полотно тоже стоит купить.
– Если недорого, – говорит Нуси, вынимает кошелек и начинает подсчитывать свои сбережения.
– О, порядочно тут, – улыбается Илона, заглянув в кошелек.
Илона покупает простыни целыми дюжинами, наволочки и чехлы для перин. Нуси за все деньги покупает на метры полотно.
– Ну, хорошо, – говорит Илона, – теперь пойдем к одеялам. Лучше чистого полотна не найти, – говорит она Нуси, поджидая, пока та кончит свои покупки. Илона берет еще шесть пледов из верблюжьей шерсти.
Нуси выносит тяжелый рулон полотна и огромный сверток пледов к ожидающей их машине.
Из посольского магазина они едут в комиссионный. Нуси остается в машине.
Илона покупает громадный письменный стол и полный гарнитур к нему. По сторонам она не смотрит, она давно уже точила зуб на эту ампирную мебель кавказского красного дерева. Бронзовая оковка, львиные когти на темно-красном, поблескивающем дереве. Истинное сокровище – сделано полторы сотни лет назад, а продержится еще несколько веков. Это делали крепостные каких-то князей или графов, по указаниям, которые их господа привозили из Парижа. Стулья и стол гораздо больше парижских моделей. В этих русских дворцах такой простор, много дерева, и мастера были частью недвижимостей. Да, настоящая мебель, словно для гигантов – гигантов, которые могли писать великие произведения литературы или составлять и подписывать самые важные документы империи. Стол как новый, ни одной царапинки. Гораздо красивее того стола, за которым Лев Толстой писал свои толстенные книги – Илона видела стол Толстого, когда они были с экскурсией от посольства в Ясной Поляне. Но дипломатам столы нужны самые большие, такой обычай. Так было во всех посольствах. В Будапеште большие письменные столы так и называют: дипломатические. Только там никто и не видывал таких огромных. Красное дерево, и какая работа! Почти невозможно заметить стыки – крепостные делали, им спешить было некуда.
Она платит за мебель. Еще остались деньги. Она покупает позолоченные, с лепными украшениями, каминные часы. С именем парижского мастера на эмалированном циферблате. И два подсвечника, они очень подходят к часам. От денег за проданную госпоже Кешеру мебель еще немного остается. Она выбирает пять восточных ковров – молитвенных, сотканных сотни лет назад в Бухаре и Таджикистане. Но потом она начинает сомневаться насчет ковров. Об этом еще нужно подумать. Пусть сначала привезут мебель и часы с подсвечниками.
Ковров не надо. В Будапеште такие можно купить, хотя там они дороже и не такие красивые. Потом в задней комнате магазина Илона смотрит старые иконы. Очень красиво… Библиотека Ричарда Тренда, музеи, которые они вместе посещали, Равенна, Венеция, ее собственный инстинкт и унаследованный от отца вкус – все это придает Илоне уверенность в вопросах искусства. Она быстро подсчитывает, сколько она сможет выгадать, купив иконы. Они очень дешевые, русские икон не покупают. Мысленно она уже видит новую пятикомнатную квартиру. В большой передней висят волшебные, темные с огненными бликами картины. Эта итальянка понимает толк в вещах. Но Баница не захочет в своей квартире икон. В передней все бы их видели, потому-то они и должны бы там висеть. В конце концов, святой образ для православных – это произведение искусства для нас, жителей Будапешта. Серьезно, Баница должен купить. Как будет хорошо в передней, никто и не подумает, что мы их прячем…
Илона нюхает иконы. Дерево пахнет мышами: запах красок и лака улетучился за долгие столетия.
Она сердито оставляет иконы. «Я его уговорю… а вернее, и о себе надо подумать, хотя бы раз. Ведь это тоже важно».
Она снова едет в посольский магазин и покупает еще девять пледов из верблюжьей шерсти, все, что осталось.
– Не сможете ли вы зайти после первого? – говорит продавец на очень вежливом немецком языке: – Мы ждем новую партию.
– Гут.
Они приезжают домой. Илона ждет, пока Нуси и шофер разгружают машину. Потом входит в квартиру и стучит в дверь Баницы.
– Я все это продала, – описывает она круг руками.
– Ладно.
– Сейчас будут выносить к Кешеру.
– Хорошо.
– Вынь, пожалуйста, твои вещи из ящиков.
– Не сейчас.
– Они приносят новую мебель.
– Какую мебель?
– Я купила. Восхитительную. И почти даром.
– Пусть вносят.
– А куда они ее поставят, если можно спросить? Тут же все заставлено.
– Меня это не касается.
Илона поворачивается на каблуке и хлопает дверью. Нуси ждет ее в передней, придерживая свертки с покупками.
– Отнесем к мальчику.
Ричард Тренд-младший слышит шум в коридоре, когда вносят покупки. Сейчас он сидит за своим столом, уткнув нос в книгу, – воплощенное прилежание. Он сердито смотрит, как Нуси открывает локтем дверь и протискивается в нее вместе с огромными рулонами. Что они, не могут оставить его в покое? Пледы из верблюжьей шерсти в двух тюках нужно проталкивать силой в широко распахнутую дверь. Дешевая оберточная бумага рвется. Мальчик с отвращением смотрит на тюки, один из которых занимает весь диван, а второй – половину пола. Он встает, тычет в мягкие рулоны, заглядывает под коричневую бумагу, и пускается в пляс по комнате, еще не занятой пледами.
Верблюды одногорбые,
Двугорбые,
Трехгорбые,
И более того… —
выкрикивает он модную в Будапеште эстрадную песенку.
– Перестань дурачиться!
Раздраженный нетерпеливый голос матери веселит его еще пуще:
Верблюды одногорбые,
Двугорбые,
Трехгорбые,
И более того… —
он скачет и прыгает, как сумасшедший.
На глазах его матери выступают слезы гнева. Она выбегает из комнаты и снова хлопает изо всех сил дверью. Нуси тихо выходит вслед за ней.
Баница сидит за столом. Он не вынул бумаг из ящиков. Весь вечер он спрашивает самого себя, спрашивает Эндре Лассу: тот, кто не боится убийств, – труслив он или отважен? Кто не боится убийств – трус или храбрец?
– Кто меньше боится убийств? Трус? Храбрец?
– Трус.
– Храбрый человек. А ты храбрый человек, Лассу. Ты убежал с легким сердцем, а я остался; и скажу тебе вот что: в течение долгих десяти лет, несмотря на все ужасы, я не жалел, что остался. И я был рад, что тебе удалось пробраться в Вену. А теперь – поверишь ли? – теперь это я оказываюсь трусом. Мне не хотелось тебя ранить, вот почему я молчал. Но теперь посмотри, наконец, правде в лицо: ты у меня в долгу. И не думай, что у тебя есть право меня оскорблять, обзывать «целителем трипперов». А кто ты сам, Лассу? Ты почти готов передать власть буржуям, неофашистской буржуазии, во имя абстрактной правды вложить им в руки оружие против меня, против нас! Ситуация проще простого. Эксплуатации нет. Там, где нет эксплуатации, все дороги открыты. Так ли это мало, по-твоему?
– Но эксплуатация существует, – отвечает издалека голос, долетая через весь огромный, утонувший в тумане город. Он говорит тихо, но звуки его голоса крепнут, они доносятся издалека, но от них чуть не лопаются барабанные перепонки. Баница с трудом разбирает слова в этом оглушительном крике, но он отвечает:
– Саул-Павел? Не только Саул может превратиться в Павла, но и Павел может стать Саулом. Как ты. Это случилось с тобой, брат Банди, да, с тобой!.. Ты не веришь в Святую Коммунистическую Церковь и в непогрешимость ее земных пап и представителей. Но это делает тебя всего лишь протестантом. Я достаточно понимаю в дипломатии и могу говорить на этом жаргоне.
– Я не протестант, – отвечает он со злостью – наконец-то он злится! – Я не верю в доктрину предопределенности всех событий. Если бы жил Ленин, лагеря не были бы предопределены. В книге судеб не написано, что дьюла должен был получить пять лет благодаря нежным заботам своего соотечественника.
– Теперь легко говорить, что все было бы иначе, лишь бы Ленин жил. А если бы не было большой разницы? Возьми мой пример. Или ты скажешь, что пост советника посольства и обеды, которые варит мне Нусика, определяют мое сознание? Это ложь. Да, из того, что уже есть, я хочу развить, построить, выколдовать зеленую дорогу, которая поведет в бесклассовое общество. Если бы ты сказал: «мы снова и снова должны выбираться из тупиков», это было бы правдой. А ты думаешь, Лассу, что тебе дано все предвидеть? Легко пророчествовать, что будет через сто лет, это детская игра, и лучше всего в ней то, что ничего нельзя проверить. Для меня же важно, какой шаг нужно сделать сейчас, сегодня, чтобы завтра было лучше. В этом суть ленинского учения: «конкретный анализ конкретной ситуации». Легко понять, что обстановка сложная. Преодолеть препятствия, выбраться из лабиринта – вот что трудно, вот что важно…
Тихий звонок домашнего телефона.
Вкрадчивый голос секретаря:
– Извините за беспокойство, но пришли два товарища с письмом, которое они хотят вручить лично товарищу Банице.
– Какое письмо? Откуда?
– Из министерства иностранных дел, или внутренних, не знаю. Они в штатском.
– Иду.
Иду в бюро. В другую дверь входит двое мужчин. На них почти одинаковые синие костюмы. Оба дюжие, широкоплечие. Смахивают одновременно и на боксеров, и на тюремных надсмотрщиков, и на служащих. Вид угрюмый. Тот, который помоложе, держит желтый портфель из коровьей кожи. У второго в руках нет ничего. Можно спорить, что их задние карманы оттопырены, это сразу видно по их походке, манере держаться. Мне наплевать. Это курьеры, они должны носить оружие. Старший – плохо выбритый мужчина – вытаскивает из кармана ключ и открывает портфель, который ему протягивает товарищ. Старший вынимает из портфеля большой конверт с пятью сургучными печатями и лист бумаги. Бумагу он кладет на стол.
– Подпишите, пожалуйста, что печати не тронуты. И будьте добры проставить точное время вручения: день, час, минуты.
Я киваю. Демонстративно осматриваю печати. Ни трещинки. Подтягиваю манжету, чтобы проверить время, вписываю дату, час, минуты в предназначенное для этого место на бланке, подписываю и пододвигаю им бумагу. Они не двигаются.
– Будьте добры, поставьте личную печать и печать бюро.
Я открываю несгораемый шкаф, вынимаю свою печать, тискаю под подписью. Вызываю звонком секретаря. Он моментально является, должно быть, подслушивал.
– Попросите, пожалуйста, шефа протокола, – говорю я, не называя фамилии, – зайти ко мне в бюро со своей печатью.
Курьеры стоят неподвижно, следя за движениями наших губ. Понимают по-венгерски? Вряд ли. Если бы понимали, не оставались бы в курьерах… Секретарь возвращается с начальником бюро. Подписи, печати. Я кладу бумагу на край стола.
Старший курьер берет ее, кладет в портфель, который продолжает держать его младший товарищ, поворачивает в замке ключ. После этого они выходят – очень обыкновенно, как все люди. С улыбкой и вздохом облегчения.
Что могло их так угнетать здесь, в венгерском посольстве? Почему они смотрели с таким подозрением? Чего они боялись?
Секретарь и шеф протокола уходят. Конверт лежит, все еще запечатанный. На нем виднеется гриф министерства внутренних дел. Ломаю печати. В большом, тяжелом конверте крохотное письмо на тонкой бумаге. В нем с полным уважением говорится, что:
…ответе на ваш запрос, касающийся 97 (девяноста семи) лиц, подвергшихся репрессиям и отбывшим сроки заключения, считаем нужным сообщить вам о начатой нами процедуре, имеющей целью оформление запрошенных разрешений на выезд. Учитывая, однако, что нам до сих пор не удалось укомплектовать надлежащим образом материалы, относящиеся к данному делу, проведение необходимых мер должно быть на некоторое время задержано, несмотря на отсутствие, в принципе, каких-либо возражений относительно целесообразности данного мероприятия. С просьбой принять вышесказанное во внимание остаемся…
Министерство внутренних дел. Но Министерство иностранных дел пишет так же, почти слово в слово. Теперь это репатриация репрессированных, «отбывших наказание» венгров. Тогда речь шла о биографических данных покойного Чичерина. Всегда что-то «на некоторое время задерживает проведение необходимых мер». Тогда – исследования архивов. «Материалы еще не собраны и пополняются. А поскольку эта тема лишена актуальности в данный момент, работа в этом направлении не ведется, хотя, в принципе, никаких возражений по этому поводу не имеется». Опять «в принципе» нет возражений. На этот раз даже не пишут об актуальности. Но нет ничего, что было бы до конца определившимся, окончательно установленным, завершенным. Потому что только неопределенное всегда безопасно…
Письмо не адресовано ни послу, ни посольству, а мне лично. Показать послу? Можно показать. По крайней мере избегу насмешек. Письмо я положу в несгораемый шкаф. А потом, согласно обычаям и правилам всех посольств, запру и запечатаю этот проклятый шкаф.
Написать письмо Эндре Лассу – теперь? Может быть, как я хотел написать сначала? «Факт, что ты возвращаешься на родину, сам по себе доказывает, что все устроится. У нас много общего. Конечно, ожидание войны, военная истерия – могут наводить уныние. Но на родине мы с полным доверием будем рассчитывать на твое сотрудничество». И так далее, и так далее. К чертовой матери! Как я теперь могу писать Лассу? Хорошо, что ничего не написал. Жизни бы не хватило смыть позор.
Когда я возвращаюсь в кабинет, новая мебель уже расставлена. Совсем неплохая, пойди она к черту! К счастью, мой стол еще стоит в передней. Вынимаю мои бумаги и бросаю в ящик нового стола. Он большой – это хорошо. А остальное меня не касается. Все равно. Наплевать на все. И на Брокдорфа-Ранцау тоже.
Илона – плевать.
Нуси? Мгновение. Все прошло.
Самоубийство! Слишком поздно. Теперь я уже боюсь смерти.
В американском журнале писали, что лучше всего – онанизм. Оставим это им.
Я буду суровым и требовательным начальником и начну писать воспоминания. Но только до 1945 года. А дальше? Я никогда не напишу, что было дальше…
6. Лассу спорит с голосом
Из Москвы люди могут выезжать свободно. Тех, кто уезжает, железнодорожные патрули не трогают. Стремительный, сверкающий поезд с протяжным воем мчится мимо пригородных станций.
Я убрал пальто обратно в шкаф Дмитрия Сергеевича. На мне старая телогрейка. Хорошо, что здесь тепло. Телогрейка – ношеная, солдатская – внимания не вызывает. Она из лагеря, тертая, вся в пятнах, но носить еще можно. Хотя тепла не держит – от бесчисленных стирок материал совсем истончился. Старые разбитые сапоги снова промокли насквозь, но тут, в поезде должны просохнуть.
Пальто в шкафу. Вернувшись домой, Дмитрий Сергеевич поначалу и не заметит. Он повесит свою шинель за дверью, сядет и будет ждать. А когда в семь часов меня еще не будет, он спросит: «Ко мне никто не приходил?» И только потом заглянет в шкаф… Он обидится, что я не подождал, а потом, конечно же, почувствует облегчение. Сядет и начнет мечтать… Он устал… и я тоже устал. Я не смог бы ему рассказать, о чем мы говорили с Баницей. Да и так Дмитрий Сергеевич не одобрил бы. Он заварил бы чай, угостил меня хлебом с маслом, и объяснил, что с ним, человеком беспартийным, я могу говорить о чем угодно, он поймет все. Но доверяться партийцу, прямая обязанность которого – немедленно доложить о каждом сказанном ему слове!.. Все это Дмитрий Сергеевич знает по собственному опыту, и если бы я ему сказал, что доверяю Банице, он огорчился бы еще больше. Ибо в таком случае дело оборачивается «подпольной организацией», «фракционной деятельностью» – вот как научили беспартийных думать о партии. Вот как думает Дмитрий Сергеевич. И он верит в это, его пугают партийные проблемы, они надоели ему до смерти. Его беспокоит, что друг снова лезет в это болото. «Геологические формации гораздо проще, я никогда в них не нашел и следа политики» – вот весь Дмитрий Сергеевич, Дима, который весь диамат вызубрил наизусть. Наизусть – самый удобный способ, если вам приходится читать лекции в университете. Единственное, что выводит из себя университетскую компанию, – это лысенковские мошенничества с генетикой. Это чересчур даже для геологов…
Хорошо, что мы не поговорили. Ему все понятно, и он счастлив, что «всего лишь геолог».
Когда я ухожу, все вздыхают с облегчением, даже те, кто меня любит.
Электричка летит, как птица. Одна остановка уже была. Следующая станция – Загорск. Последняя. Пассажиры готовятся к выходу… Подъезжаем, нужно пересаживаться. Только бы здесь не нарваться… Тут строгая проверка. Многие сходят с поездов дальнего следования и дачными поездами пробиваются в Москву. Без багажа это не особенно сложно. Вчера мне самому удалось. Но с багажом – пропащее дело…
Пригородный поезд в Александров должен прийти через час. Он стоит в Загорске полчаса, а еще через полчаса я буду на месте. Сяду в первый вагон, он останавливается далеко за станцией. Потом пройду по шпалам к мосту, а оттуда уже недалеко до дома. Неплохое место для жилья, не нужно тащиться через весь город. В такое время это совсем неплохо… Правда, я жаловался Банице на железнодорожный шум. Но пусть сам попробует: всю ночь напролет жуткий, ужасающий вой: свистки, ревуны.
Хорошо бы стать невидимкой. Колени окоченели, пальцы у ног тоже, и я боюсь. Сапоги вовсе не просохли. Мороз. Я мог бы зайти в буфет, но там дорого. Деньги у меня теперь есть, но именно поэтому нужно экономить. С деньгами Баницы можно будет жить. Если бы у меня было всего несколько рублей, я наверняка зашел бы в буфет, не мерз бы на дворе. Но теперь, со всеми деньгами и с полным желудком…
Мне уже не терпится сесть в поезд. Тут же засну. Всегда, когда еду до конечной остановки, засыпаю в поезде. А сегодня особенно. Устал я зверски, внутри сосет пустота. Эти деньги лишают меня сил, само сознание, что и завтра и послезавтра, может быть, все время, пока останусь в Александрове, я смогу нормально есть… Когда проходит сверхъестественное напряжение, я прямо валюсь с ног, меня могло бы опрокинуть дуновение ветерка. Несчастья закаляют каждый нерв, каждую клетку тела, а приходит облегчение – и с ним бессильность высохшего осеннего листа, плывущего по реке. Ветер гонит листок, он мокнет, тонет, разлагается, превращается в ил, гнилой осадок на дне… Не так ли добро превращается в зло? Глупости. Хочется спать.
Само путешествие не утомляет. Но пересадки, ожидание – это трудно вынести. Символ? Ясный, как день. Физиологи могли бы, наверное, объяснить, почему нервы тратят столько энергии на ожидание.
Скоро электрички будут ездить до самого Александрова. А вообще линию электрифицируют прямо до Урала, Красноярска, Владивостока. Электрические поезда на всей бесконечной транссибирской дороге. Ну и правильно. Но меня тогда уже не будет.
Стоило бы посмотреть Загорск. Если бы можно было ходить свободно… Посмотреть святой город, спрятанный за исполинскими крепостными стенами и бастионами. Сейчас я всего лишь проезжий. В последний раз я был тут давно, ходил потрясенный красотой похожих на луковицы золотых и небесно-голубых куполов с прибитыми к ним большими золотыми звездами – детское небо за толстенными стенами, где под низкими башнями холодящие сердце глубокие проходы ведут в подвалы, а высоко под сводами висят образа святых. Церковь и крепость – до банальности знакомая связь. Мы осознаем все больше и больше связей, и в то же время все вокруг нас становится более и более сложным. Число неизвестных растет в геометрической прогрессии по сравнению с взаимосвязами, которые мы начинаем понимать. Картины Рублева… Стоило бы посмотреть. Но еще лучше пойти посмотреть на александровский кремль. Там, по крайней мере, мне ходить не запрещено. Мало таких мест, но александровский кремль – одно из них.
В «нашем городе» Иван Грозный убил своего сына. И через Загорск, в котором я сейчас сижу, шли к нему крестным ходом толпы людей с мольбой: «Вернись в Москву». Когда тиран уходит, народ идет к нему и просит вернуться. Это мог быть «организованный» народ, но все же народ. Народ, который во что-то верит, чего-то ищет. Завтра после базара пойду посмотреть. Или нет, сначала занесу хлеб домой.
Иван прятался здесь от бояр. Сталин хочет считаться его преемником. Оба они – бесстрашные строители империи, великие вожди. Петра Великого он тоже берет в свои предшественники. Алексей Толстой даже заказ взял – расписать Петра в сталинском стиле. Для него – бывшего эмигранта, нынешнего придворного фаворита, прихлебателя – нет слишком высокой цены, а грубые намеки так порадовали «хозяина»! Этот красный граф, бывший эмигрант, до самой смерти оставшийся князем литературного двора, был, по-видимому, порядочным подлецом. Но по сравнению с Иваном и Петром, Сталин – просто щенок. Иван или Петр никогда не позволили бы надуть себя какому-нибудь Гитлеру. Они не искали романтических аналогий. Они просто были. И не беспокоились о сохранении видимости.
Строители империи – вот общая черта всех троих. А может быть, жестокость их общая черта? Иван убил своего сына сам, Петр приказал другим убить сына. Вот что было у них общего: все трое боялись наследников. Беспрерывный страх, что кто-нибудь потихоньку соберет силы – и приберет наследство к своим рукам.
Иван Грозный… В моей стране его имя переводят: «Иван Страшный». Может точнее был бы перевод: «угрожающий». Тот, чьи действия невозможно предвидеть, кого мания преследования превращает во все-сущую, ежеминутную угрозу – Иван Грозный…
Завтра с утра пойду на базар купить хлеба. Но на этот раз куплю не хлеб, а хлебные карточки. Хватит замызганных буханок, завернутых в грязные тряпки, купленных украдкой в какой-то подворотне. Хватит бояться, что продавец убежит с моими деньгами, в то время как он дрожит от страха, что ты убежишь с его хлебом… Я оборачиваюсь, он оборачивается – вечный страх и слежка. Теперь буду ходить туда, где толпятся жены милиционеров – возле водочных магазинов. У них всегда есть хлебные карточки. Я их хорошо приметил… Милицейских жен можно отличить по их самоуверенности, по виду – краснощекие, крепкие бабенки, не то, что другие. Они знают, когда бывают налеты – когда их нет. Мужья предупреждают – в постели, должно быть? Или по утрам, когда застегивают свои широкие кожаные ремни, заправляют складки гимнастерки?
Купить кашне? Вязаное, шерстяное… Шерстяные носки тоже не помешают…
Они мне нужны, но покупать не буду. Если бы я заработал эти деньги, тогда другое дело. Но их мне дал Баница. Второй раз уже не попрошу. А разве я просил? Почти. Нечего стыдиться. Я деньги взял. Мы – товарищи. Он их дал по-товарищески, без задних мыслей.
И за это я на него напал? Вцепился, как бешеный… «Целитель трипперов»… Если бы он оставался официален, высокомерен, дал что-нибудь поесть, но не пригласил бы к столу вместе с семьей, тогда-то я бы на него не бросался.
Но ведь в том, что я говорил, когда мы сидели в кабинете, было больше уважения к нему, чем если бы я закрыл рот, закрыл глаза, не нарушал его безмятежного спокойствия. Я заставил его смотреть: «взгляни на меня, взгляни на мир!»
И какой же мир я предложил ему? Я подставил ему под нос кривое зеркало.
Убил бы я этого Маркусова? Он приказал мне стоять лицом к стене и думать о моих преступлениях, а сам в это время болтал по телефону о своей новой квартире, о продаже коллекции почтовых марок, купленных им в тот день. Разве я мог бы его убить? Он заслужил смерть. Таких людей нужно убивать. Я не должен с ужасом отворачиваться или бояться замарать руки. Но пытки? Нет! Перед его женой? Нет! Тогда к чему было устраивать это представление? Худо, если Баница поверил, еще хуже, если не поверил, совсем плохо. Я говорил со стыда, мне стыдно, что я все перенес, что все объяснял тактикой, стыдно, что оказался дураком, покорной безобидной овцой. Я не был ни настолько глуп, чтобы хорошо работать, ни настолько смел, чтобы серьезно вредить.
Хотя это тоже не совсем верно. Я неплохо поработал, когда был санитаром. Сделал все, что мог. Все, что мог? Просто – много сделал. А с другой стороны, слишком тяжелых мешков таскать я не брался. Только… Я не бунтовал против этого рабского труда, я просто откладывал пилу, едва отработав свои полнормы. А потом шел греться. Полнормы, товарищ Баница, потому что тогда мне не могли пришить «вредительства». Нам выгоднее было получать меньшую пайку за полнормы, чем надрываться за несколько дополнительных калорий. Мы все строго рассчитывали. Я себя берег, верно, но почему бы и нет? «Искупи свои преступления трудом»? Но никаких преступлений и не было. Но… я вел себя очень тихо… Слишком тихо? В зависимости от обстоятельств.
Но разве нет другого способа? Отсюда – из Загорска – царские приспешники увозили боярыню Морозову, мученицу за старую веру. Ее увозили отсюда, из Загорска, а она стояла в санях, гордо выпрямившись, одетая в шубу, вроде тех, которые сейчас носят крестьянки. Есть такая картина, очень хорошо ее помню. Ворота крепости все еще стоят, и стоят так же, как тогда, в старое время. Да, есть другой способ…
Баница в своем лагере никогда не был таким трусом, каким я был в моем. Он считал, что я утратил элементарную порядность, что я искренен только, когда нет никакого риска. Но я еще выскажусь, увидишь, выложу все там, где будет нужно. И, между прочим, господин советник посольства, с сегодняшнего дня мы стали соучастниками, даже если оба будем молчать. По крайней мере, этого мне удалось добиться.
Они глупо сделали, оставив меня в живых. Китаец Чен – он все излагал по-своему – доказывал, что они не такие дураки. «Они должны знать, – говорил он с улыбкой, – что сидеть верхом на тигре – опасно, но соскочить с него еще опаснее». Мы соскочили. И теперь сами превратились в кровожадных тигров – все мы стали тиграми – и мы еще разорвем их в клочья. Так, по крайней мере, они думают – увы, какое преувеличение! А может, они и не считают нас опасными. Но все равно полиция найдет себе работу. Колесики должны вертеться. Поэтому время от времени они вскакивают на наши тигровые спины, которые в действительности – всего лишь ослиные хребты. Но если Баница не поможет мне вернуться домой – как можно скорее! – тогда снова тюрьма, снова «Столыпины», место назначения – Сибирь. Смогу ли я выдержать все это еще раз? И стоит ли держаться?
В конце концов, хорошо, что я ему сказал. Пусть наш разговор останется в нем навсегда, как ноющая рана, пусть будет ему раной и лекарством, а мне – утешением до конца моих дней, утешительной мыслью, что жизнь прожита не совсем бесполезно… А если я зашел слишком далеко? Если был с ним слишком груб, превратил его в своего врага?








