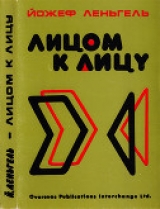
Текст книги "Лицом к лицу"
Автор книги: Йожеф Леньгель
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)
– Ты уверен в этом? А я? Я тоже буду таким же?
– К чему молоть чепуху? Ты думаешь, я не понимаю твоего положения? Вы сами только что сказали, Баница, – кажется, я снова стал «Баницей», – почему вас сделали советником посольства. Не обижайся, Пишта – теперь опять Пишта, – тебе тоже нужно быть начеку. И не только для твоего собственного блага. Власть – как раковая опухоль… Она пожирает живые клетки того, что в человеке человечно. В его глазах цель становится пустым призраком, и за власть он начинает цепляться во имя самой власти.
– Я прекрасно могу представить себе человека, который бы не цеплялся за власть.
– Конечно, но даже это не доказывает, что он лучше других. Возможно, он настолько устал, что потерял даже свое властолюбие. Если первый болен раком, второй – страдает чахоткой.
– А что делать с человеком, чувствующим, что польза дела требует от него держать власть в своих руках?
– Все было бы в порядке, если только это не был самообман. А как быть в этом уверенным? Вот здесь-то и собака зарыта. Сказать: «власть – это рак» недостаточно. Власть действительно уничтожает нормальное в человеке, она раздувает самомнение, пока не происходит взрыв, но она еще хуже рака, она заразна, как чума. Чума нашего времени – это и есть власть бюрократии, власть руководящих лиц. Она распространяется молниеносно и не поддается контролю. Даже смотреть на нее со стороны опасно для людей здоровых, они теряют стремление к жизни.
– Ты, как я вижу, потерял стремление бороться.
– Я – исключение из правила.
– Что ты говоришь! Может, как раз то исключение, которое предназначено к власти?
– Предназначено быть врагом власти.
– Назовем белое белым: анархист.
Он прищуривает левый глаз, точно безжалостно целится в меня из ружья, во взгляде вопрос: «Вытащил из запасов словцо, чтобы запугать?» Некоторое время он молчит, все так же прицеливающе глядя на меня, потом медленно, подбирая слова, начинает говорить:
– Можете называть это как угодно, Баница, но такова должна быть позиция каждого последовательного коммуниста, если мы не хотим забывать о целях, которые лежат перед нами. Собираемся мы или нет взяться за строительство как раз такого государства? Как это написано?.. «Диктатура превращается в свою диалектическую противоположность и становится концом всякой государственной власти». Так ведь? Мне давно не приходилось приводить столько цитат.
– Цитата правильная, – пожимаю я плечами. – Но проблема заключается во времени. Вам не терпится ликвидировать государство сейчас же.
– Я бы и сделал это сейчас, если бы мог. Но даже если этого нельзя сделать сегодня, я бы старался к этому подготовить завтрашний день. Точнее: я бы не делал и не позволял делать ничего, что могло бы помешать – как это называют ученые мужи? – «диалектическому процессу». А тем более, когда начнут падать преграды, умышленно вознесенные узурпаторами власти на пути к цели. Мне кажется, это называется объективной силой истории.
– Примерно. Никто в этом не сомневается. Но, к сожалению, это далекий путь.
– Я бы предпочел, чтобы ваше сожаление было искренним, а не стилистической связкой. Но…
Он совсем охрип: горло пересохло от центрального отопления. По-видимому, ему не часто случается так много говорить.
– Чуточку свежего воздуха, – говорю я, открывая окно.
– Где тут найти немного воды?
– Минутку. – Я выхожу, перерыв нам только на пользу. Я тоже устал… Возвращаюсь со стаканом воды. Он пьет.
– Паровозы… – Он показывает в открытое окно. – Там я слышал моторы над головой, но поезда не видел годами. Ни паровозного гудка. А потом нас вдруг гонят к какому-то железнодорожному пути, на боковой ветке грузят в вагоны для скота… Между прочим, они лучше тех вагонов, которые тут по сей день зовут столипин-скими… Прогрессивная традиция… Во всяком случае, едем. Куда? Где-то нас выгружают, уводят – и снова не видим поезда многие годы. А после освобождения я ехал неделями в поезде. Под конец мне удалось пробраться в товарный вагон, как-нибудь еще расскажу… Ехал я месяц. Но не буду тебя утомлять своими историями.
Я не отвечаю, и он продолжает:
– Сейчас я живу в Александрове, в доме, где дни и ночи слышен шум и грохот с сортировочной станции. В Александрове к составам прицепляют паровозы дальнего следования. Большой железнодорожный узел… туман, паровозы свистят, похоже, что они воют и стонут… В тумане кажется, что все звуки ближе, не так ли? Больше нигде в мире у паровозов нет такого пронзительного, жуткого гудка, этого предвестия катастрофы.
– Гудок, по поводу которого вы так негодуете, необходим при частых здесь крушениях в тумане и снегах.
– Знаю, но это меня как-то мало утешает. С вашего позволения, Баница, лагерь сыграл дьявольские штучки с моей нервной системой. Не говоря о том, что до ареста я проводил ночь за ночью, ожидая, когда за мной придут. Скажу – с должным почтением, – что тут была не одна, а тысяча и одна варфоломеевская ночь.
Как он смеет такое говорить, это отвратительно! Я спрашиваю ледяным тоном:
– Вы их считали?
– Нет. Счет продолжается. Можно закрыть окно?
– Разумеется.
Дым выветрился, но в комнате стало холодно и осталась махорочная вонь. Я сижу напротив него. Попробуем его немного одернуть:
– Скажите мне начистоту, Банди Лассу, вы бы рассказали, допустим, о тех же бесчисленных так называемых варфоломеевских ночах моей жене или, к примеру – нашему швейцару?
– Это и есть вопрос, на который у меня нет ответа. И тут дело не только в опасности, – как ни парадоксально это звучит, но мне все еще хочется жить, – мой страх всего лишь один из факторов. Меня удерживает еще что-то. Даже в школе дети не начинают с алгебраических уравнений. Я хочу сказать, – не разбираясь правда, особенно в таких вещах, – что, по-моему, это похоже на второй закон термодинамики: все движется ко все большей потере энергии.
– Ну, это не вполне точно.
– Без сомнения. Ваша сфера. И все-таки Эйнштейн был прав, говоря, что политика сложнее физики.
– Но если дело обстоит именно так, не кажется ли вам, что открытия и публикации открытий требуют большей осмотрительности в политике, чем в науке?
– Согласен, все это очень запутанно и взаимосвязано. Человек – сложный механизм. А в человеке есть мозг, который понимает то, что нужно понимать, даже если он этого не хочет.
– Или не понимает, даже если хочет.
– А в вашем случае, Пишта Баница?
– Хочет.
– Должен сказать, что мне трудно понять, почему человек вообще стремится жить, ведь ему и так предстоит умереть. Великая тайна, смысл жизни, на мой взгляд, в том, что человек хочет жить. Но еще глубже прячется куда большая тайна: почему человек не хочет жить в бесчестии. Вот вам философский камень.
– Или, может, просто интеллектуальный выкрутас.
– Оставим в покое интеллектуализм. Вы, Баница, теперь дипломат. А ваш отец был мужиком, повидавшим Америку, если хорошо помню.
– Память у вас отличная, Эндре Лассу. Убежден, что вы проверили каждую деталь моей биографии прежде, чем взяли меня своим связным.
– Уверен, что ваш отец намного лучше разбирался в общественных порядках и в обществе, чем мой папаша, лояльный либерал урожая 1848 года, знаете, булавка с тюльпаном, «поддерживайте венгерскую промышленность», и все такое. Но когда началась война и первым патриотическим лозунгом стало: «золото для железа», он отнес в пункт сборки свое обручальное кольцо. Это была единственная золотая вещь в нашем доме. Крестик, который мать носила на шее, был из серебра. В 1919-ом папаша выходил из себя: оба сына подались в коммунисты. Он был в отчаянии. Бедный учитель истории и географии из маленького городка, пятеро детей, трое из них – дочери без приданого и сыновья, еще не кончившие учиться, которые вдруг уходят и становятся коммунистами. Мой старший брат, Йоска, как раз сдавал последние зачеты на медицинском, а я бросил гимназию, чтобы записаться в Красную Армию.
– Я не хотел сказать, что интеллигент… – но он прерывает.
– И все-таки вы непрочь наподдать разика два интеллигентам в задницу. Это модно теперь. Я мог бы ответить старым примером: Носке был рабочим, а Ленин – нет. Так что поймите, что ваше крестьянское происхождение, ваше собственное рабочее прошлое со временем изнашивается до дыр. Так же, как вся благородная генеалогия валится в тартарары, стоит какому-нибудь юному отпрыску оказаться ублюдком. Когда-то благородная кровь считалась действенной и неизменной от поколения к поколению. Теперь мы живем быстрее. В течение одной жизни происхождение теряет свою действенность.
– Не лучше ли выразиться – может потерять?
– Как хотите.
Он очень устал. И это он ведь настоящий сектант. Я вижу, насколько он изнурен, и сам чувствую усталость, раздражение, пропал даже интерес к разговору. Он снова нацеливается в меня сощуренными глазами. Я размышляю, о чем бы еще поговорить. Наконец, спрашиваю:
– А что вы делали в лагере?
На самом деле мне все равно. Ведь он выжил, он не стал еще одним несчастным Ричардом Трендом.
– На общих работах. Лопата, пила, кайло, тачка. Потом врачи меня спасли – взяли в санитары. Это означало работу под крышей, не нужно было вскакивать до рассвета и бежать вкалывать в темноте и холоде… Потом снова кайло и лопата, и снова работа санитаром. Врачи брали меня под свою опеку. А вы, Баница?
– Работал в гараже.
– Завидное место. Как-то я протянул целую зиму лишь благодаря помощи одного венгра, который работал в гараже. У него всегда была еда, по крайней мере, картошка была всегда. Я повстречал там много замечательных людей…
– Вам что-нибудь известно о судьбе брата?
– Только то, что он умер.
– Я его хорошо помню. В последний раз я его видел, когда он лечил старого Буйтора в госпитале на передовой, в 1919-ом. Старик был из моей деревни. Это было время, Банду Лассу…
– Так кажется, когда мы о нем думаем сейчас, созрев и во всех отношениях… – я вижу, что его не тянет говорить на эту тему. Он вдруг спрашивает: – Вы давно женились?
– Моя жена – вдова товарища по лагерю.
– Очень милая женщина. Вам, по всему видно, посчастливилось.
– Мне нужна как раз такая жена, – говорю я. – Она знает языки, на приемах умеет себя показать. Пролетарский дипломат поневоле, вроде меня, может быть только счастлив и благодарен за такую помощь.
– Конечно. Но почему поневоле? Не надо скромничать. Я уже убедился, что вы умеете играть настоящего дипломата, Баница, а не просто ответственного за репатриацию бывших заключенных.
– Умоляю, не надо меня расхваливать! – наконец-то мы одновременно ловим на своих лицах улыбку. – Ведь я, видите ли, еще не бросил виды на то, что когда-нибудь найду место директора симпатичного большого завода. На исследовательскую работу надежды нет – слишком поздно. Но я бы еще сумел обучить нескольких первоклассных технологов. Это моя сокровенная и старая мечта.
– Это было бы замечательно, – говорит он, почти совсем смягчившись.
– Мы скоро уладим ваши дела, а потом, может быть, пошлем месяцев на шесть в санаторий – подлечиться. А потом… где бы вам хотелось работать?
Все это звучит довольно туманно, да и он не дает прямого ответа.
– Скажем, картографом. Я мечтал об этом, когда был мальчишкой. Конечно, сначала я хотел стать великим путешественником, исследовать все белые пятна на карте. Те, которые поближе к экватору, помните, Жюль Верн… А теперь я хотел бы просто быть картографом. В каком-нибудь бюро… Но как достать работу? Никто ведь не примет бывшего зека.
– Что за вздор! Какие-то фантазии. Шесть месяцев в приличном санатории как рукой снимут этот ваш… пессимизм.
Я стараюсь ободрить его болтовней вроде «все будет в порядке», но ведь он не несчастный Ричард Тренд. Это сильный человек, отнюдь не слабее меня самого.
– Вы так считаете? – снова набрасывается он на меня. – Санаторий… нервное расстройство и прочее? Позвольте тогда мне повторить: пусть я страдаю манией преследования, если так угодно всемогущему коммунистическому Богу. Но у меня печальное предчувствие, что я вовсе не схожу с ума, говоря: или очень скоро я уеду отсюда, то-есть из Александрова, на родину, или, если это дело запоздает, поеду прямым путем обратно в Сибирь.
– Ерунда! В истории ничто не повторяется.
– Согласно Марксу, трагедия иногда повторяется, но уже в виде комедии. Но в этом случае так не выйдет, разве что мы назовем комедией ту же трагедию, во многократ более трагичную. Будь что будет, а я хочу остаться свободным.
– Вы добиваетесь абсолютной свободы?
– Ах, гак приятно немножко поиздеваться над интеллигентом, не так ли, Баница? Я вам скажу прямо, чего я хочу: я хочу иметь записную книжку, чтобы записывать фамилии и телефонные номера моих друзей. Не так уж много, верно? И еще я хочу не ходить в вечном страхе, что моя записная книжечка может означать катастрофу для моих друзей и знакомых. Хоть столько свободы есть сегодня в Венгрии?
– Возможно.
– А вы сами, Баница, у вас такая книжечка имеется? А если да, то вы случайно не боитесь за своих друзей, будь позволено мне задать такой вопрос?
Это ехидство выводит меня из себя, но я сохраняю самообладание.
– У меня нет такой книжки, по той простой причине, что необходимый мне список знакомств находится у моего секретаря.
– Ответ достойный дипломата. А такие адреса, которые лучше не доверять секретарю, такие адреса у вас есть?
– Нет.
– И мой адрес вы тоже дадите секретарю?
– Естественно.
– Смело. Хоть какое-то утешение. В самом деле. – Он встал. – И мне уже пора идти, пока утешение еще действует…
– Я могу добавить, неофициально, что Венгрия просит о репатриации девяноста семи человек, каждый из которых срочно необходим на родине. Все, кто хочет вернуться, могут быть репатриированы, но по государственным причинам есть приоритетные случаи. С этим, я надеюсь, вы не начнете спорить? Кстати, в этом списке вы на третьем месте.
– Какое счастье! Какое счастье! А кто номер Первый?
– Начи Зоргер, переводчик, лингвистический гений.
– А, да, ему первое место принадлежит по праву. Говорит на двадцати семи языках, переводит с одного на другой.
– Вы с ним встречаетесь?
– Конечно, он тоже живет в Александрове. Изучает латвийский. Похоже, что кроме латвийского ему уже нечему учиться. А кто идет после него?
– Менее известный товарищ. Он, видимо, пошел в гору в те годы, когда мы были изъяты из обращения.
– Возможно. А кто составлял список?
– Будапешт, министерство внутренних дел.
– И я на третьем месте?
– Как видите.
– По сути дела, мне следовало бы веселиться. Я и рад бы, но что-то слишком устал.
– Я тоже. Но нужно сказать еще кое-что. Мы весь день напролет как бы поглядывали на лакмусовые бумажки: покраснеет ли голубая? Станет ли голубой красная? Кислота или щелочь? Щелочь или кислота? Очень утомительно, когда двое людей, близких людей, ведут такой эксперимент.
– Утомительно, но и грустно тоже. Вину за это сложим частично на мое нервное истощение. Хотя причина, конечно, не только в этом…
– Я отлично понимаю, что вас гложет ненависть. Отсюда и все предубеждения. Хотите вы этого или нет, но я считаю, что в этом виновато состояние ваших нервов, Лассу.
Он идет первым. Проходя в дверь, говорит:
– Мы не докопались еще до самого сердца проблемы. По мне, глубочайший и основной вопрос заключается вот в чем: возможно ли излечение от разрушительных последствий случившегося в психике людей – я говорю людей, но мог бы сказать: всего человечества, – и, что еще важнее, можно ли избежать повторения случившегося в будущем. Вот о чем я думаю, хладнокровно и бесстрастно, скидывая со счетов личные обиды, как врач, которого не может отвлекать симпатия к пациенту. Именно так я думаю о брате.
Внезапно он хватает меня за руку, втаскивает обратно в комнату и закрывает дверь:
– Я не хочу кончить разговор этими словами, пусть последним будет еще одно: я могу быть коммунистом только в случае, если будет открыто признано и объявлено всему миру, что ответственные за все, что произошло, коммунистами не были.
– Это вопрос тактики.
– Тактики? Тогда вот еще, лично вам, Баница. В будущем дважды подумайте, прежде, чем повторять, как попугай, что Тухачевский был предателем.
– Откуда вы знаете, что он не был?
– Я знал стольких предателей, которые были честными людьми, что мне трудно поверить в вину хотя бы одного из тех, кого осудили за измену. Хорошо, я знаю, что вы собираетесь ответить. В таком виде это, возможно, преувеличение. Но никакого преувеличения нет в случае Тухачевского. А тем более в случаях еще более простых и очевидных. Так что…
Мы пожимаем руки, он обнимает меня. Записывает свой адрес в Александрове. Я пишу на вырванной из блокнота страничке мой адрес и телефон в Будапеште и вручаю ему. Он кладет его в карман, приметанный к телогрейке. Мне знакомы такие карманы.
Ни я, ни он ни слова не говорим, придет ли он еще раз. Зову Илону. Ей он говорит:
– С вашего разрешения, я зайду через недельку-две. Извините, что побеспокоил и так засиделся.
Пустые любезности. Илона оставляет нас одних. Она чувствует то же, что и я: пронзительное ощущение последнего прощания. Что еще мы можем сказать друг другу?
Проходим в переднюю. И там, уже надев пальто, он бросает взгляд в зеркало. Я стою за ним, и мы одновременно видим самих себя и друг друга. На его лице маска ужаса. Он поворачивается ко мне. Мы смотрим друг на друга в упор, стараясь выдержать эти взгляды. Разве можно упрекать меня за то, что произошло? Разве все это моя вина?
– Ты, Пишта, рассуждаешь, как старенький целитель трипперов, которого после двадцати лет практики разоряет пенициллин.
Я еле удерживаюсь, чтобы его не ударить. Зачем он это сказал? Илона тоже, наверное, слышала… из коридора. Разве это моя вина?
Он открывает дверь, кивает на нее, нет на стену. Да, стена. Сколько подлости в этом прощании!
4. Что важно для юного Тренда
Мама приходит только если ей что-нибудь нужно. Например, ей не нравятся мои ботинки, и она хочет купить мне новые. Но если мне захочется получить новые ботинки и я иду к ней, это ей не нравится. Она совсем меня не любит, ни капельки. И я тоже маму не люблю. И знаю, почему. У меня множество причин, только сказать ей я не могу. Зачем ее расстраивать? Не стоит. А почему мы вообще должны любить друг друга?.. Лучше так, как у нас. Она сказала, что через два года меня пошлют в среднюю школу. Я не хочу с ними жить. Пойду в техникум. Отчим против идеи средней школы, потому что и сам в нее не ходил.
Он вовсе не плох. Он, может, любит меня больше, чем мама, только я не его сын. Не его. И не хочу быть его сыном. И если пойду в среднюю школу, то назло ему. Я мог бы пойти в армию, в связисты… Утром мама пришла предупредить, что «придет друг отчима, из лагеря». Отца он не знал, так что неинтересно… «Веди себя прилично». Могу, конечно. Мне все равно. Отец умер, а другие из лагерей для меня – ноль. А вообще, и так никаких лагерей уже нет.
Я знаю, как отец умер. Баница принес нам записную книжку, в которой отец вел записи. Мама сказала спасибо, завернула в папиросную бумагу и запихнула под простыни в шкаф. И никогда больше не вынимала, я проверял. Сделал на бумаге отметку и смотрел много раз. И читал эти записки на зло им всем. Никто больше не читал. Только я. Но это было потом.
Отец был настоящим трусом. Он не хотел убежать. Баница предлагал ему бежать, но отец сказал, что он слишком устал. Устал? Трус! Он там позволял себя бить. Я бы никому не позволил. И писал все про свои глупые старые влюбленности. Он этим рано начал заниматься, как дурак, когда еще был мальчишкой… Это не мой стиль. Хорошим спортсменам девчонки не нужны. Сначала я стану олимпийским чемпионом по плаванию на сто метров. А потом, уже чемпионом, встречу там девушку, тоже чемпионку по плаванию, как я…
Отец писал, мол, хорошо знать, что дома его никто не ждет, никто в нем не нуждается. Маме-то он и вправду не был нужен. А мне, думаю, тоже нет.
Когда Баница принес эту книжку, мама расплакалась, а потом говорит: «Ах, я не могу этого читать, мне слишком тяжело». Баница говорит: «Прочтете в другой раз», а мама завернула отцовскую книжку в белую бумагу. Я еще маленький был, не любил читать. А перед тем, как мы сюда приехали, прочел. Жалко, что в последний день, мы как раз собирались уезжать, повсюду шум, балаган, беготьня с вещами.
Там написано, что отец оставил свое завещание в Гёде. Я его найду. Как только уедем отсюда, поеду в Гёд. Мама еще говорила, что отец жил в летнем доме у дяди Геза, до того, как его забрали. Дядя Геза ушел с немцами, теперь живет в Австралии, а дом его совсем развалился. Но я буду там кругом копать, делать раскопки, как в руинах в Аквинкуме. Там они находят какие-то идиотские камни, а я найду завещание.
Маме на Гёд начихать. Гёд – это было имение, частная собственность. Мы больше не верим в частную собственность, Баница мне объяснял. Мне тоже на Гёд наплевать; на Балатоне лучше. В Гёде я просто буду делать раскопки, как в Аквинкуме. Он мне только для этого и нужен. Аквинкум. Не хочу учить латынь. И на что мне ходить в среднюю школу? Буду радиомехаником и буду конструировать телевизоры, получше, чем теперь делают. Сделаю большой… И его можно будет трогать, только коробка будет стеклянная и видно будет, как в витрине магазина. Вроде той витрины в Лондоне, которую мы с мамой видели на Бонд Стрит, но не разные восковые манекены и пластмассовые штучки, а движущиеся, живые, хотя они будут передаваться за сорока тысяч километров. Нужно построить очень, очень высокую башню для передач, потому что волны идут только по прямой. Если встречается гора, они задерживаются. Но с очень высокой башни их можно передавать. Мама таких вещей не понимает. Она даже звонка не починит.
Баница доволен, что я умею чинить звонок. Когда он возится с электричеством, всегда мне показывает, что и как сделано, купил мне ящик с инструментами. Мама хочет, чтобы я учил языки. Теперь я должен зубрить русский и английский. С языками у меня дело идет туговато, но маме позарез нужно, чтобы я их знал. А я сиди, как приклеенный, в этой комнате, пока не кончу домашней работы. Все время думаю о том, что мне запретили идти кататься на коньках, что я должен сидеть на месте, и никаких новых слов не могу запомнить. Катаюсь немного тут в комнате. Пируэт на полу, паркет натертый до блеска, потом прыжок, на выходе из прыжка опять пируэт. Останавливаюсь как раз, когда входит мама. Она сердится. Ну на кой мне учиться русскому и английскому? Мне еще слишком рано знать языки…
Мама всегда сердитая. На меня она сердится все время и на дядю Пишту тоже очень часто. И всегда командует, гоняет туда, сюда. Хотела, чтобы я звал дядю Пишту «папой». А для меня он просто «Баница». Не собираюсь говорить «папа», да он сам не хочет: «Говори, как тебе нравится», я и зову его дядя Пишта. А когда о нем думаю, обычно: Баница. Когда мама говорит с Нуси, она его зовет «товарищ советник». С Нуси она всегда добрая: «Нусика, дорогая». По телефону тоже: «Алло-о, дорогой!», «Ах, как мило!» А только отложит трубку, сразу же другой разговор: «Прекрати! Я этого не выношу!» И так все время.
История с Баницей тоже началась по телефону, этим ее нежным телефонным голосом, этаким приторным голоском.
– Ах!.. Да, да… я… Да, конечно… Но ведь – ах!. Вы знали его? – потом очень печально: – Несчастный… Ох, хорошо… буду вам очень признательна… Благодарю вас. – Потом о нашей квартире: – Да, да… Могло быть хуже… моя старая квартира была разрушена в осаду, теперь мы кое-как устроились, кое-какую мебель набрали – из кафе «Нью-Йорк», в таком стиле… Но все же! Лучше, чем ничего… С продуктами? Вы знаете, какие условия… перебиваемся потихоньку… Да, да, мой сын тоже… Вы привезли его записи… Боже мой!.. Хорошо… да, да, конечно, меня это интересует… Это было бы замечательно… Хорошо, тогда заходите… Когда нам удобно? В любое время. Только не сегодня. Не сегодня.
Понятно, не сегодня. На сегодня у тебя, небось, свидание.
– Конечно же, вы нам нисколько не помешаете, в любое время, поверьте… Я всегда дома по вечерам. Но лучше позвонить заранее. Я работаю секретаршей… – Баница, видно, спросил, не нужно ли нам чего. – Нет, ничего, серьезно. Ничего. – Потом: – Да… О, да… Просто так… разумеется, в наши дни модно жаловаться, но я не люблю жаловаться… Во всяком случае, не присылайте, а принесите сами, ладно?
Но потом, когда Баница явился – не на следующий день, еще были телефоны и разговоры, – это я пошел открывать. Шаркаю своими сандалиями по коридору, открываю дверь, говорю: «Вам кого?», хотя я слышал голос в трубке и сразу догадался, что он – Баница.
Он глядит на меня, ни слова, но мама тут же приходит:
– Товарищ Баница?
Баница пожимает ей руки, в стиле «глубочайшее почтение». Ну, я, конечно, ухожу. Но слушаю, что происходит, за дверью.
– Мебель ужасная, – говорит мама извиняющимся томом и гладит черный буфет с такими резными ма-дьярами-кочевниками. – Что попалось под руку. Но это неважно. Представьте себе, Ричард был специалистом по мебели. А я занимаюсь художественным ремеслом. Хотя… нужно быть благодарным за то, что остались в живых… Садитесь, прошу вас, и расскажите все по порядку.
Мама усаживает его и подходит к буфету, который только что раскритиковала в пух и прах, хотя это очень приличный буфет, вынимает полбутылки водки, ставит на пластмассовый поднос пару хрустальных стаканчиков.
– Я знал Ричарда Тренда еще по Будапешту, – говорит Баница. Тут я навострил уши и принялся заглядывать в полуоткрытую дверь.
На маме черная юбка и свеженькая, шелестящая только что выстиранная и выглаженная блузка; лицо у нее тоже белое и прекрасное.
– Смерть Тренда для всех большая потеря, – говорит он; тут, наконец, стало ясно, что отец умер.
– Да, – говорит мама, и они долго молчат. Потом он спросил, где мама работает, она делает гримаску.
– Художественное ремесло? – спрашивает Баница.
– Работаю секретаршей. У нас нет ни сырья, ни клиентов… Не очень веселая работа. А мой шеф не знает орфографии. Но после всех передряг спасибо и на этом.
Баница немного хмурится, смотрит на маму и говорит с холодком:
– Со временем мы научимся орфографии.
– А что вы делаете? – спрашивает мама.
Вот как это началось. А скоро он к нам заглядывал каждый день… «Ах! Я несчастная!» Еще немного, и Баница занял место всех, кто был и во время войны, и после войны. Во второй или третий раз мама спросила:
– У вас есть секретарша?
– Разумеется.
– Красивая?
Он качает головой.
– А вы не хотели бы меня взять в ваше бюро? Или вы и без того довольны?
– Не то, что доволен…
– Значит, красивая?
– Пожилая вдова. Но даже если бы она была самой красивой в мире, директору не пристало флиртовать с сотрудницами.
– Ах, в таком случае, – и мама смеется, сверкая белыми зубами, – в таком случае лучше уж вы меня не принимайте.
Баница понял, что она имела в виду, и я тоже. Мама отдала ему отцовскую книжку.
– Возьмите ее с собой, пожалуйста. Вы мне скажете, что там написано, ладно?
– Это длинная, длинная история, – вздыхает Баница.
– Не завтра же. Когда-нибудь. Вы мне расскажете? Когда-нибудь в будущем?
Как только слышу, что Баница ушел, запускаю сандалием в стену.
– Что это за типчик?
– Как ты выражаешься? Он был другом твоего отца.
– … и будет твоим.
– Не смей говорить непристойностей.
– Когда ты начинаешь угощать водкой…
– Ах, ты, грязный звереныш… – Она показывает на одну из дверей. – Соседи!
– Ну да, что ты думаешь, у них нет глаз и ушей? – я смеюсь.
– Звереныш, – говорит мама и уходит. И забирает на кухню стаканы.
Немного погодя вся история начинает сводиться к жилищному вопросу. Мама сказала Банице, чтобы тот постарался получить квартиру побольше или же вытурил наших соседей. Баница повертелся и кое-что сообразил, достал маленькую квартиру, отдал ее соседям, а к тому времени я выточил для Баницы отдельный ключ от квартиры. Я в этом толк понимаю.
Но звать его «папа»? Еще чего! Тоже мне папа! Он неплохо устроил делишки, что верно, то верно. Маме он объяснял, что легче получить новую квартиру, чем выгнать из нашей соседей, то есть, конечно, относительно легче. И все равно мама сказала, что не слишком он умен. Чистая правда – не очень умный. В том смысле, что не смог для себя отхватить то, что Кертеши.
– Покорные, значит, – заграбастали: дачу, большое авто, деток возят в школу в персональной машине. Но все же ловкости ему не занимать, хватило, чтобы занять папино место.
И можете быть уверены, папино место он занял. Никак не меньше. Это устроить ему удалось.
А к чему это? Зачем ей это нужно, пускать пыль в глаза? Почему? Могла бы заиметь хахаля, приходил бы себе и уходил, но притащить сюда «папу», да еще с полоумной идеей, чтобы он для меня стал отцом… И не то, чтобы он плохой… Но это просто невозможно… Это не…
А мне ничего этого не надо. Уйду отсюда вообще, ненавижу все это. Ненавижу Кертешей, которых звали – какое мне дело, как их раньше звали, – и хочу уехать отсюда. Мама…
Баница влюблен в маму. А она? Не знаю. Она никогда не разговаривает об отце. Мама очень красивая, я бы хотел на такой, как она, когда-нибудь жениться. Только спорта она не любит. Ест немного. «И так толстею».
Я бы ее взял с собой на каток. Тогда она могла бы есть и не толстеть. Когда она входит домой с улицы, щеки у нее такие свежие и холодные, так приятно к ним прижаться. Она тогда как хорошенькая девочка.
Мама все обнюхивает. Я тоже. «Мой маленький песик», так она меня называет, когда я ее обнюхиваю.
Не люблю, когда мама нюхает вещи и при этом морщит нос, она тогда некрасивая. Сегодня она тоже нюхала в прихожей. Ноздри у нее еще дрожали, когда она пришла ко мне. И тут она бросилась все раскладывать по местам и прибирать. Линейку, потом тушь.
Поправила подушку, такими легонькими шлепками. Я подглядел – она себя тоже вот так же приглаживает шлепочками, чтобы быть красивой. Она прекрасно видела, что я делал домашнюю работу, и все же не могла не спросить: «Ты сделал домашнюю работу?» Одна и та же пластинка. А у меня своя: «Уи, маман». И я все кидаю, где лежало. Вынимаю циркули, кладу чертежную доску на стол. Хотя Баница это называет «учить геометрию».
Все чего-то хотят. Владимир Петрович хочет, чтобы я знал геометрию и понимал, что он мне там объясняет по-русски. И еще хочет, чтобы Нуси накладывала ему полную тарелку. Владимиру Петровичу приносят есть в мою комнату. Он всегда долго жует и пережевывает, у меня тогда минута отдыха. Растягиваюсь на диване. До меня доходит вонь его потных подмышек – это он режет мясо, двигает руками. Мама называет его «бедняга», должно быть, потому, что он так любит поесть. Нуси заглядывает: «Добавки?» А Владимир Петрович на седьмом небе: «Да, да, добавки» – и хохочет. С дивана видна его пасть и черные зубы.








