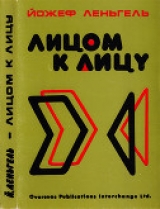
Текст книги "Лицом к лицу"
Автор книги: Йожеф Леньгель
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
– Для меня это было достаточно просто, почти все были старше меня. Мне неудобно было тыкать. – И добавляет притворно беспечным тоном: – Это были времена. Жаль, что так давно это было.
– Что это ты, напрашиваешься на комплименты? – говорю я, зная, что это тоже ему нравится, когда я немножко его задираю.
– Конечно, – отвечает он. – А пока, может, сначала отобедаем, а потом уж потолкуем.
Лассу ест с удовольствием. Он очень худой, но не больше, чем Баница, когда мы впервые встретились. Лассу наслаждается супом, тарелкой, из которой он ест, даже цветом супа. Ведет себя за столом очень корректно. Баница тоже. Мне не нужно было ему давать уроков хорошего воспитания, за исключением нескольких деталей. Они не облизываются, не чмокают, не заглатывают с шумом. Я слежу, чтобы едва Лассу кончит, долить ему еще. Он поглядывает на меня и видит, что мне доставляет истинное удовольствие его аппетит, что я с радостью подбавляю.
– Вижу, что вы понимаете, – говорит он, улыбаясь.
– А мне можно еще супа? – спрашивает Пишта и льстиво добавляет: – Когда такой замечательный суп, все бывшие лагерники требуют добавки.
– И мне тоже, пожалуйста, – подает голос Ричи. Это действительно победа: он никогда не просит добавки супа. Обезьянка.
Когда Лассу кончает, я кричу в сторону двери:
– Нусика…
Нуси вносит на большом серебряном блюде телячье рагу, картофельное пюре в желтой иенской вазе и темно-красную свеклу на сверкающей тарелке.
– Иногда нам везло, тогда мы тоже делали картофельное пюре, – говорит Лассу и тут же смущается.
– Значит, вам было легче, чем нам, – отвечаю я. – Во время войны картошка ценилась на вес золота. Кто пережил осаду Будапешта, тот знает…
– Разумеется, – в голосе Баницы слышится сарказм.
– Я говорю, конечно, только о продуктах. Да и длилось это всего несколько недель, а вы провели там годы. Ужасно…
– Если мы выдержали, значит, можно было выдержать, – сухо замечает Баница. – Правильно, Банди Лассу?
– Верно. Лагерная жизнь, – обращается он ко мне, – совсем не бесконечное ожидание смерти. В лагере тоже смеются, я бы сказал даже, что настроение бывало, в среднем, не хуже, чем на воле.
– У нас бывало хуже, – с горькой усмешкой говорит Баница.
– А я думаю, – вмешивается Ричи, – что мой отец в Маутхаузене не слишком веселился. – Он хмуро оглядывает всех по очереди, Лассу, своего отчима, наконец задерживает взгляд на мне. Я отворачиваюсь.
Лассу чувствует потребность объясниться:
– В жизни ведь так всегда: пока человек жив, он смеется. Повсюду есть смешные ситуации, везде и всегда. Я вам расскажу новый анекдот, уже послевоенный, – говорит он, обращаясь к Пиште. – Дело происходит где-то на Урале, забыл название местности. Из Германии везут трофейное добро для колхоза. Все, конечно, собираются, чтобы посмотреть. И вот проводят мекленбургов, это такие битюги, флегматичные, с громадными копытами, – объясняет он Ричи, – вроде наших ломовых лошадей, только еще покрепче. Тут одна крестьянка говорит другой: «Глянь-ка. Ну и лошади!» И все. Ей дали десять лет. Причина: восхваление западной техники.
Ричи прыскает, ржет, как жеребенок. Я тоже смеюсь. Так смеются, когда в кафе отпускает остроту несимпатичный клиент. Этому я научилась буфетницей – нужно было работать, чтобы получить хлебные карточки. Буфетчицам положено смеяться, и если случается услышать по-настоящему смешное, чувствуешь признательность.
Только Баница сидит недовольный.
– Что с нашим обедом?
Я передаю блюдо Лаосу. Он накладывает себе полную тарелку и, глядя на меня, говорит:
– В приятном обществе я уж и не стесняюсь.
– Большего удовольствия вы мне не можете доставить.
– Потому что я знаю – на завтра останется. У моих русских друзей… Они тоже меня угощают, и очень радушно, только даже когда они настаивают, мне все время кажется, что на завтра им не хватит еды.
– Ах, такая жизнь, это страшно, – говорю я, стараясь не сболтнуть лишнего, и, немного погодя, добавляю, показывая, что и я не проста: – Бытие определяет сознание.
Он даже не удостоил внимания этого «бытия» и «сознания», продолжает о русских.
– Это факт, – говорит он мне с поучающим видом, – русские очень интеллигентный и очень гостеприимный народ.
– Но они такие примитивные. Это несносно! – он мог бы понимать, что есть разница – сидеть за моим столом или с этими русскими.
– Совсем не несносно, – отвечает он. – И они не так уж примитивны. Например, что касается чистоты, то они спокойно дадут пару очков вперед, скажем, венграм. Чище немцев. В субботу вечером в русской деревне, особенно в Сибири, не найдется ни одного, кто не пошел бы в баню. Это освященный обычай. А бани у них парные. Так что в русском поезде, в третьем классе, со всеми этими деревянными скамейками, вовсе нет того незабываемого зловония, какое бывает у нас на родине.
– Не считая вони махорки, – возражает Пишта.
– А по мне махорка не воняет, – говорит он, – я к ней привык. Люблю махорку.
– Это замечательно, то что вы говорили о банях, – я стараюсь сказать что-нибудь, чтобы расшевелить Баницу, который сидит с каменным выражением лица.
– Мы ходили в баню даже в лагере. Все ходили, раз в неделю. А повара – каждый день. Когда я был санитаром, мне удавалось мыться в бане раза три в неделю.
Он и теперь выглядит чисто, опрятно. Только нет в нем ничего мужского, когда-то, может, и было… Даже очень, пожалуй… А сейчас нет…
– Лагерные бани, – возражает Баница и пренебрежительно машет рукой.
– Конечно, ничего особенного. Но за всю мою жизнь я столько не мылся. А однажды, – он шутливо подмигивает, – я был в бане четыре раза в один и тот же день. В тридцать восьмом. Сперва утром. До того, как нас забрали из Таганки. Такое правило: если переводят, первым делом баня и дезинфекция. Приезжаем на Лубянку, там допрашивали. Но сначала – баня и дезинфекция. Только по каким-то причинам допросов нет – что-то там произошло. – Он обращается только к Пиште: – Ежов по шапке получил, а Берия, видимо, все еще рвался в гору. – И продолжает невозмутимым голосом рассказчика: – Значит, опять назад! Уже был вечер. И перед отправкой: баня и дезинфекция. В Таганку прибываем уже на рассвете. И как вы думаете, приказ есть приказ: баня и дезинфекция. Четыре раза за двадцать четыре часа.
Я позволяю ему досказать до конца, потом зову:
– Нусика, дорогая, кофе, пожалуйста.
Тут я внезапно вспоминаю:
– Ах, как жаль! Мы не пили вина, но ведь на брудершафт вы должны выпить!
– Обязательно, – говорит Пишта, и объясняет: – Я почти никогда не пью. Хотя на приемах без этого не обойдешься. Приходится притворяться.
– Я тоже не очень хорошо переношу вино, – говорит Лассу, – от пищи желудок не отвыкает, но от алкоголя даже очень. А кроме того, у меня не было доступа к выпивке.
– А у других? – спрашиваю я, хотя больше меня интересует, был ли там у них доступ к женщинам.
– Вы знаете, даже в лагере есть свои бедные и богатые. Это целый мирок, замкнутый в себе, но со всеми социальными различиями внешнего мира.
Нуси приходит с вином и огромным количеством каштановой массы со взбитыми сливками. Я даю Ричи побольше, чтобы не надоедал потом. Он ест и смотрит, как его отчим и Лассу исполняют ритуал брудершафта. Они неуверенно целуются.
Я наливаю кофе. Лассу все смотрит на мои руки. Так, как некоторые смотрят на произведение искусства.
– Большое вам спасибо, – говорит он и встает. – Вы знаете, что для меня было здесь, у вас, самым важным? – Я сижу с выжидающим видом, это лучший способ, когда не знаешь, о чем речь. – Самое важное то, что я ел этот чудесный обед ножом, вилкой и ложкой. У нас были только ложки, все больше деревянные. Ножи мы сами делали, после каждого обыска – новые. Но вилок мы и в глаза не видывали. Это и есть самое важное… И то, – он поворачивается ко мне, – что рука хозяйки прикасалась к еде. Вы понимаете, как это прекрасно?
– Не находишь, что тут пахнет мещанским душком? – шутит Баница. Он даже не способен понять, что этот Лассу, этот незнакомец, умеет говорить с женщиной… Умеет обращаться… хотя я об этом и не думала… Не знаю почему, мне кажется, что в нем совсем нет ничего мужского. Но это вернется… Не для меня, правда… я… Но кто знает…
3. Баница нападает и защищается
Он постепенно успокаивается, лицо перестает нервно кривиться – спасибо Илоне. У нее недурно получается, и соображает она быстро. Нет, я не так плохо выбрал, в конце концов… Илона старается, дирижирует обедом, создает семейную атмосферу. Сам обед тоже неплох: не слишком изысканный, но и не бедный, такой обед подают к приезду брата. А что касается первоклассных обедов… Я точно знаю, что моя антипатия к Кертешам – то-есть, к Покорным[2], конечно, Покорный, – крупный партийный работник, – началась с того обеда, когда они подали на закуску лососину и бананы. С тех пор не могу себя заставить пойти к ним снова. Сегодня все прошло отлично; малыш Тренд тоже показал себя молодцом, Лассу с ним не говорил, оба чувствовали себя не совсем ловко, но, скорее, из-за симпатии друг к другу а времени было маловато, чтобы найти общий язык.
Мы вернулись в кабинет, снова расселись в креслах. Мне кажется, что немного есть на свете людей, так мне близких, как этот Банди Лассу, а по его тону можно думать, что и он меня любит. Я благодарен ему за то, что он не напугал Илону и мальчика. Он не дурак, знает, когда можно говорить, а когда лучше помолчать. Но надо спросить его о деньгах… и сколько…
– Ну, Банди, – начинаю я, – могу ли я тебе дать немного денег, мы ведь пили на брудершафт, помни это!
Пусть он скажет, сколько…
– Я не могу тебе дать расписку… Она сразу бы поехала в бухгалтерию, а бухгалтерские книги, сам знаешь…
– Никакой расписки не нужно, обойдемся, – прерываю я. – Пять тысяч? Хватит?
– Много очень, даже слишком.
Я поднимаю телефонную трубку – он следит за моей рукой, набирающей номер, – и говорю:
– Товарищ Кардош, – он напряженно прислушивается, словно готов в любую минуту удариться в бегство, – почему он мне не доверяет? – Принесите мне, пожалуйста, в кабинет восемь тысяч.
Кардош спрашивает, из какого фонда, и я отвечаю так, чтобы все было ясно:
– Из особого фонда, товарищ Кардош. – Готово. Кладу трубку: – Восемь. Думаю, тебе пригодится.
– Пусть будет по-твоему, Пишта.
Он, кажется, успокоился. Еще один вопрос, до сих пор я не решался задать его:
– А твой брат, доктор… Что с ним? Что-нибудь о нем знаешь?
– Умер. По слухам, в Казахстане. Вообще-то врачам было легче, чем другим, но мой брат… – намек на то, что старший Лассу был инвалидом, – брат не мог в лагере выдержать…
– Это был замечательный человек, и великолепный врач. В лагере наверное…
– Очень возможно. Среди врачей было много порядочных людей, большинство. Подлецы тоже, конечно, случались, вымогатели, интриганы. Но таких было из сотни один, а то и меньше.
– В немецких лагерях было наоборот.
– Понимаешь, они были своими людьми, связаны с нами той же веревочкой. Ко мне они очень хорошо относились. Хотя мне не посчастливилось встретить врача-венгра. О них рассказывали по всем лагерям, за тысячи километров. Не считая брата, я слышал только о двоих: Лачи Поллачек и Йожеф Маджар. Ты их знал?
– Само собой. Лачи был врачом Белы Куна, работал в кремлевской больнице. А старика Маджара я знал еще в Будапеште. Что с ними?
– Понятия не имею. Вообще говоря, врачи держались лучше, им было легче устроиться. Можно полагать, что они выжили.
Стук в дверь. Входит Кардош. Он не может удержаться от поклона, вторая натура. Лассу он тоже кланяется. Потом отсчитывает банкноты и, по привычке, добавляет:
– Пересчитайте, пожалуйста.
– Вы еще никогда не ошиблись, товарищ Кардош, – говорю я. Этот пухлый, одутловатый человечек сияет, завоевав признание начальства. Лассу тоже бросает на меня благодарный взгляд. Кардош удаляется. Я пододвигаю пачку к Лассу.
– Желаю удачи!
– Ловко сработано, Пишта, – говорит он, и мне вдруг становится легко и весело.
– Значит, они пользовались доброй славой, – возвращаюсь я к разговору о врачах, чтобы дать ему время спрятать деньги и закончить этот денежный эпизод. – А старого Маджара я очень любил…
– Я не очень его знал. Но Лачи… Один русский, крестьянин, как-то мне сказал: «В каждой вечерней молитве я поминаю имя Ладислава Антоновича». А нужно признать, что в тех условиях не так просто было спасать людей, даже в чисто медицинском смысле.
– Скажите, Лассу, – опять на «вы», но тот близкий мне Банди как-то все время ускользает, – а для врачей не было опасно пользоваться среди пациентов такой популярностью?
– Нет.
– Вот видите! У нас даже это было смертельно опасным.
– Не пытайтесь доказать, что я не вижу разницы, – огрызается он.
– Не стоит пререкаться, – утихомириваю я, – мы же… У нас такое прошлое. Ничего важнее не может быть…
– Это правда.
– И знаешь, мне было приятно, когда ты хвалил советский народ. Моя жена вступила в партию недавно и еще тянется к так называемой «западной культуре». Ей не помешает знать, например, что русские тоже моются.
– Ясно, но я начал об этом только потому, что это чистая правда. С той же уверенностью я мог бы объявить русских лучшим народом, чем немцы. Везде есть свои негодяи, но у русских меньше, чем у других. И жизнью своей я обязан как раз порядочным, добрым русским. Но были и страшные вещи, о них я тоже должен говорить, и говорю – это мой долг.
– И все же, Лассу, вы за столом говорили не так, как тут, в кабинете, до обеда.
– Совершенно верно.
– Значит, вы признаете, что нельзя высказываться обо всем перед каждым встречным.
– И все же я как раз так и намерен делать. Но я не могу кричать об этом со всех крыш. Поэтому я не стал говорить перед вашей женой и мальчиком. Только вы, Баница, можете выслушать и переварить все, что я тут сказал. Это тоже ваш долг – понять. Если бы я принялся выкладывать все, что на душе, перед вашей женой, у вас не осталось бы другого выхода, как сообщить обо мне куда следует.
– Итак, Лассу, к счастью, ваш здравый рассудок и коммунистическая честность тормозят ваши же хорошие намерения.
– Какая логика! Откуда она вдруг?
– Я только что сказал.
– Полнейшее заблуждение. В этом доме вашим долгом станет рассказать обо всем. И не только в этом доме! Никто и ничто не может освободить вас от этой обязанности, Иштван Баница. То, о чем говорю я, вы должны передать дальше. Но независимо от того, передадите ли вы или оставите при себе для личного пользования, я, если буду жив, раскрою миру все, что знаю сам, и все, что я, наконец, понял.
– Когда это безопасно, Банди, когда ты ничем не рискуешь, – снова зову его Банди. Я очень спокоен теперь, и очень зол. – Но в таком случае, это перестает иметь смысл, не думаешь?
– А, понял… Совсем нет. Избежать этого нельзя. А смысл будет огромный, это дело будет самым срочным и самым важным. Оно создаст… Нет, скажем точнее. Только откровенное разоблачение случившегося может создать ситуацию, в которой будет возможно все основательнейшим образом проветрить, впустить струю свежего воздуха. Одно вытекает из другого именно в таком порядке: сначала разоблачение, потом свежий воздух, другого пути нет и не будет. Только в случае, если нам удастся зайти так далеко, мучительное настоящее превратится в прошлое, в уроки для будущего, в историю.
– А где вы предлагаете начать эти разоблачения? На своей родине, Лассу? Или вы поищите более безопасного места?
– Ага, понятно, куда вы гнете… Я не собираюсь бежать на Запад. Но позвольте узнать, Баница, откуда у вас право задавать мне такие вопросы?
– Вы сами, Лассу, даете мне такое право, – разъяряюсь я. Теперь я на самом деле хочу его ранить в самое больное место. Но сразу же меняю тон: – Я отнюдь не подозреваю тебя, Банди. Не злись. Но на мой взгляд, ты перестал во что-либо верить, у тебя нет доверия ни к чему.
– Разрешите мне, Баница, старый товарищ и свежеиспеченный брат, разъяснить этот пункт. Верить? Нет, я не верю в непогрешимость партии. Доверять? Да, я доверяю силе коммунистического строя. Но это доверие основано на нескольких предварительных условиях. Во-первых, как я сказал, полное, идущее до конца раскрытие правды; затем разгон узкой руководящей касты на верхах, касты, уверенной в себе, окопавшейся на постах наподобие феодальных правителей, еще более консервативной, чем верхний слой буржуазии. Сегодня здесь секретарь обкома располагает властью большей, чем губернатор в старое время. То же и в Венгрии. Берегитесь! Вы идете по тому же пути. Я имел возможность прочесть несколько венгерских газет, и таково мое впечатление. А если учесть тип людей, с которыми имеешь дело… то нам уже недалеко идти. Возьмем хотя бы вашего швейцара – он похуже любого русского.
Мне казалось, что худшее позади – судьба его брата, вопрос денег, но нет… Я пытаюсь отвечать хладнокровно, выйти на теоретическую почву.
– Ленин указывал, что полуфеодальные страны – самое слабое звено капитализма.
– Да, указывал. Но вопрос-то не в том. Между прочим, я не называл бы здешнюю систему феодальной. Такое сравнение дает неверное впечатление. Аналогии всегда вводят в заблуждение – это трюизм. Я возьму термин самого Ленина: бюрократия. Наглость бюрократов. Власть мелких царьков. Все это начало расцветать еще при жизни Ленина. А сегодня бюрократы составляют уже независимую прослойку, не класс, а наглую изолированную прослойку. Преувеличением ли будет, если скажу, что эта прослойка чужда народу? Преувеличение или нет, неважно, но их интересы никак не совпадают с интересами пролетариата. С внутрипартийной демократией они покончили быстро. Что же касается выборов, вы не станете отрицать, что это всего лишь комедия… – Он смотрит на меня вызывающе: – Ну, что вы скажете?
– А вы бы хотели многопартийной системы? Нам ясно, что это безумие.
– Я еще не знаю, каков путь истинного прогресса. Но я хочу, и хочу сейчас, немедля, потому что можно начать уже сегодня, чтобы все должностные лица избирались из числа пяти или шести кандидатов. Это единственный способ иметь на постах порядочных людей. Само собой разумеется, это не панацея, но это маленький шажок к улучшению положения вещей, не откладывая в долгий ящик.
– У нас на родине это было бы преждевременно, – говорю я, сам не зная, злиться ли на него или соглашаться с его выводами. В конце концов, когда-то была улица Радай, наши встречи, дружба. У меня нет брата, только младшая сестра, с немногими я был так близок, как с ним, с Банди Лассу. Но так же, как это бывает при семейных ссорах, он умеет вывести меня из себя скорее, чем кто-либо другой. И я повторяю:
– У нас это было бы преждевременным.
– Вы думаете? – отвечает он.
Я не спорю: он готов обвинить меня в том, что мне неизвестна обстановка у нас дома.
– Но здесь, – тычет он пальцем в стол, – здесь это не преждевременно. А тут все направлено в противоположную сторону. Это, конечно, гораздо удобнее. Насилие может нам дать даже ощущение безопасности и стабильности. Как видно, люди умеют «сидеть на штыках» со сравнительными удобствами, нужно лишь иметь достаточно толстую кожу на заду. И такая благодать, если не нужно прислушиваться к сокровенным желаниям народа, не нужно чувствовать биения его сердца. Это и к вам относится, Баница. Осторожно! Сегодня – преждевременно, допустим, что так оно и есть. Но в один прекрасный день может быть слишком поздно, – он умолкает и ждет ответа. Я не отвечаю. Пусть продолжает, пусть говорит.
И он продолжает:
– Вот какое у меня доверие к силе коммунистического строя.
Он протяжно и глубоко вздыхает и замолкает.
– Этой силы можно достичь только единством.
– А единства – только хирургическим скальпелем. Обнажить очаг инфекции, вычистить гангрену, ибо бинтовать – напрасный труд, а намордник тоже не поможет.
– Верно, нужна операция, но в такое время и такими средствами, чтобы пациент не умер на столе.
– Но и так, чтобы успеть, пока инфекция не разрушит всего организма. Что-то мне кажется, Баница, что вас сильно пугает скальпель.
– А вас, Лассу, не испугали бы и реки крови.
Пожалуйста – сцепились насмерть, едва чокнувшись на брудершафт. Однако…
– Банди, ты полагаешь, что вся эта беседа к чему-либо ведет? – спрашиваю я, пытаясь как-то его успокоить.
– Пишта, я тебя очень люблю, вот что я полагаю, и поэтому…
– И поэтому ты хочешь меня спасти? А между тем, мы хватаем друг друга за глотки. Позволь мне сначала воспользоваться кратким перемирием. – Он смеется, я тоже. – Правду сказать, не перемирием, а миром. Я же хорошо знаю, что мы, партия, мы сплоченные воедино, мы – как Прометей, приносящий на землю огонь. Давай поговорим о том, с чем мы оба согласны: о Венгрии.
– Милая безопасная тема… если говорить вообще, без деталей, – он снова хмурится. – И не будем вмешивать сюда Прометея, ладно?
– Что-то не похоже на перемирие. И что ты имеешь в виду своим «вообще»?
– Только то, ничего больше. Вообще, без деталей. Я говорю с дипломатом, черт побери. Меня интересуют общие перспективы нашей внутренней и внешней политики.
– Сударь, вы мне оказываете большую честь.
– Сударь, вы ее достойны. Жаль, что вам мое отношение безразлично. Я уважаю вас и прекрасно вижу, что ваше положение далеко не просто. Венгру трудно преодолеть «комплекс одиночества», назовем его так, за неимением лучшего термина. Как говорил Кошут: «Нас, мадьяров, так мало, что нам следует прощать даже отцеубийство». Правильно?
– Слово в слово.
– Память у меня стала хуже. Особенно что касается цитат. Я уже бросил цитировать.
– Из-за этого не стоит беспокоиться, – ободряю я его, но он пренебрежительно отмахивается.
– Но если бы нам удалось победить в себе этот «комплекс» и не прощать отцеубийцу только потому, что он венгр, у нас было бы больше шансов устроить свою жизнь в согласии с заповедью: «человек человеку не должен быть врагом». Тогда мы достигли бы универсальной человеческой сферы. И тут у нас, венгров, есть одно преимущество, результат нашей малочисленности: ничто не заставляет нас быть солидарными с «великими народами». Вы понимаете меня?
– Нет.
– Нам не нужно стоять грудью за разные славянские или арийские, не говоря уже о туранских, идеалы, они всегда в корне ложны, их нам навязывают во имя какого-то несуществующего превосходства. Таким образом, нам легче объективно оценивать стремления развитых народов, так же, как стремления стран экономически отсталых, так называемых примитивных народов. Мы не принадлежим ни к тем, ни к другим. И к слову сказать, кое-кому не помешало бы знать, что Неру врос в культуру браминов прежде, чем к ней присоединилось кембриджское образование, – раза в три больше культурных ценностей, чем у наших государственных мужей.
– Это, однако, ничего не изменило. Экономическая отсталость Индии…
– Знаю, – прерывает он. – Так же хорошо, как и вы. Скоренько же вы сворачиваете в сторону! Лучше повернем обратно: я говорю о преимуществах нашего народа и малых народов вообще. Мы все знаем об экономических препятствиях и минусах, но не нужно забывать и плюсы. То, что мы – маленький народ и маленькая страна, дает нам огромное преимущество, нам не нужно стремиться заполучить атомную бомбу, ни для себя, ни для других. Мы с полной уверенностью знаем, что для нас не может быть победных войн, а только войны проигранные. В нашем положении мы можем предвидеть то, о чем «великие народы» догадываются лишь задним числом. Мы не нуждаемся в лживых лозунгах. Мы знаем, что можем жить только, если живут другие. Нам нельзя подписываться под двойной моралью. Простите меня, Баница, я не вел бы речь о таких вещах, которые, возможно, не совсем относятся к нашей теме, но у меня такое чувство, что мы разговариваем в последний раз.
Что он там говорит! Его рассуждения – скучища, а кроме того, я и сам не знаю, что мне следует думать. Не буду замечать этой путаницы у него в голове.
– Ладно, Лассу, ладно, – мне становится скучно и чтобы навести его на более общие вопросы, я говорю: – Не будете же вы отрицать, что есть буржуазная мораль и мораль пролетарская?
Я не очень искренен в этот момент, и он мне как-то меньше симпатичен, чем раньше.
– Я просто утверждаю, что наш народ, благодаря своей немногочисленности и разным историческим причинам, мог бы стать наилучшей почвой для воспитания интернационализма и человечности. Не только мог бы – может! Вот почему, по-моему, в Венгрии была возможна пролетарская диктатура в 1919 году.
– Классовая диктатура, прошу заметить!
– Очень мягкая диктатура. Оставим на другой раз дискуссию о том, привела ли мягкость к чему-либо хорошему, или наоборот. Если, конечно, у нас будет другой раз.
– Не разглашая никаких тайн, могу тебя заверить, что в Венгрии следующим шагом будет диктатура. Это неизбежно.
– Если неизбежно, то неизбежно. Но те, кто в ответе, действительно ли они хотят – не на словах, а на деле, – чтобы этот этап был всего лишь этапом? Предваряя, так сказать, некий другой тип государства? Ибо в таком случае нельзя загораживать дорогу к очередному этапу.
– Дорога не будет короткой.
– И вас это радует?
– Нет, я спокойно констатирую факт.
– Отдаю должное вашему спокойствию. По нему можно заключить о вашей вере и непоколебимости. Только…
– Только на уме у вас не то, что на языке, – говорю я и резко добавляю: – Что за «только»?
– Только я беспокоюсь… А скорее, вы должны беспокоиться. У вас – в ту минуту, когда вы начнете сознавать, что количество переходит в качество, – хватит ли у вас силы духа дать сигнал остановиться?
– А почему вы думаете, что будет такой переход? И к тому же, о каких качествах и количествах идет речь? Будьте любезны, Лассу, выражаться точнее. Если в таком тоне…
Теперь мой черед думать, что мы и на самом деле видимся в последний раз.
– Пожалуйста, буду любезен, – отвечает он, – но должен попросить немного терпения.
– У меня его предостаточно. – Я не стараюсь уколоть, просто возвращаю уколы.
– У меня тоже. Тридцать лет прошло с тех пор, как я был в Венгрии в последний раз, и, естественно… Но даже отсюда я смог заметить некоторые вещи. Порой мне попадаются венгерские газеты. Они на целые страницы размазывают все, что могут выудить из заметочки в здешних газетах. От этого тошнит. Ничего, кроме плевков и ядовитой слюны. Я немного оговорился, когда сказал тут о количестве, которое будет переходить в качество. Оно уже перешло, уже родилось другое качество. Не демократическую диктатуру, а демагогический абсолютизм, вот что мы скоро получим.
Он глядит на меня, будто хочет просверлить насквозь.
– Ну, что ж, дорогой бывший безжалостно-стремящийся-к-добру, а теперь гласящий мелкобуржуазные…
– Белу Куна давно отпели, о нем едва ли вообще упоминают… А 1919-й? Было ли это вообще? А если было, разве у его вождя была задница вместо головы?
– Спокойнее, зачем так грубо? – увещеваю я его.
– Я знал Белу Куна еще раньше, чем вы. А сегодня некий товарищ, который знает детали жизни Куна не хуже меня, во всеуслышание фальсифицирует историю встреч Куна с Лениным, чтобы подогнать ее к биографии «великого вождя». К чему, куда это ведет? Это не ошибка суждения, нельзя сослаться на то, что он не знаком с фактами. Наоборот. И тот, кого восхваляют, и восхваляющий, оба равно знают – это бессовестное вранье. И все же распространяется заведомая ложь. А вы, Баница, знаете это так же хорошо. Знаете или нет?
– Кун тоже не был ангелом.
– Правильно. Но ответьте на мой вопрос. Правду я говорю или нет?
– Да. И это довольно противно.
– Противно! Не более того! Просто противно?
– Зовите, как вам нравится, Лассу. А вам никогда не пришло в голову, что меня засадили в этот дипломатический курятник именно потому, что я принадлежу к старой гвардии?
Он долго смотрит на меня. И потом говорит сипловатым голосом:
– Наконец-то вы проговорились, Баница. За искренность плачу искренностью. Может быть, я уже сказал раз, но повторю еще: мой глубочайший личный позор заключается в том, что не было ни малейшего повода меня арестовывать. Я вел себя тише воды, ниже травы, лежал тихонько, как дерьмо в кустах. Само собой, оправдание было под рукой: «то, что нас объединяет, важнее того, что нас разделяет». Разве было бы плохо, товарищ дипломат, поучиться чему-нибудь на моих ошибках? Пока еще есть время?
– Мы учили такие вещи: «Среди преступников молчание – соучастие».
– Кто это сказал?
– Один поэт, Бабич[3].
– Не знал.
– В 1938 году. «Книга Йонаша».
– А, да. Но я и так бы ее не прочел… Тогда я был фанатическим приверженцем Ади[4]. Мы же по любому вопросу раскалывались на два лагеря.
– А Бабич хотел это изменить… Тоже слабость с его стороны.
– Со мной дело обстоит так – если я начинаю улавливать смысл происходящего, отречься от своего знания я уже не в состоянии. Послушай, Баница, – настаивает он совсем мягким тоном, – я знаю, что ты не трус. Именно поэтому для них ты – человек ненадежный. Понимаешь, в чем суть? Трус – это постоянный фактор, базируясь на котором они могут вести свои расчеты. Трус – это во все времена фундамент и опора существующего государства.
– Его фундамент и опора – моральное право.
– В известной мере. А трус – фактор постоянный. Человек смелый – переменная величина, оттого он и ненадежен. Из всего, чему я здесь научился, самым поучительным было постепенное превращение смелых людей в трусов. Поучительным и самым страшным. Я тоже был смелым – а стал трусом.
– Я этого не вижу.
– Видишь, конечно. Я, смелость, все так смешалось, сплошная неразбериха. Но пока я не распутаю все сам, я не могу называть себя коммунистом.
– Ты был коммунистом, Банди, и остался им.
– К несчастью, это не совсем так. Я говорил тебе о принципе, по которому нас вылавливали и сгоняли в одно стадо: тот, кто отважился поднять бунт однажды в прошлом, может взбунтоваться и в будущем. Они переоценивали нас. Грустно признаваться, но по крайней мере в моем случае, они нас переоценили. Во мне не осталось ни крупицы силы воли, я уже не мог протестовать. Я хотел схорониться в мышиную норку. Арест был для меня честью, которой я не заслужил. Теперь, с опозданием на десять лет, я пытаюсь оказаться достойным оказанной мне чести. И следовательно, я обязан высказаться, объяснить всем то, что ясно мне самому, – а именно, что партия не есть мистическое существо, неспособное совершить ошибку.
– Но…
– Я знаю, что ты хочешь сказать, Пишта: ошибается «диктатор». Но не только он, партия тоже. А разница в том, что диктатор не может не ошибаться. Поэтому он стремится построить партийную машину, которая провозгласила бы его непогрешимость. В конце концов, он сам начинает в нее верить, но приходит к этому, мне кажется, уже когда партийная машина работает полным ходом… Так или иначе, такая машина может быть налажена и пущена в ход лишь путем истребления всех сколько-нибудь выдающихся, честных людей, одаренных какими-то благородными качествами, истребления всех, у кого хоть в самой малой степени можно заподозрить такие качества. Всех таких людей машина ликвидирует сама или отдает другим приказ ликвидировать, даже если «подозрение» не имеет никаких реальных оснований. По мысли диктатора, доверия достойны лишь те, кто стоит и, как он думает, падет вместе с ним, ибо они занимают свои посты не по личным заслугам, а единственно по милости и прихоти диктатора. А они, со своей стороны, должны защищать своего хозяина, разделять его страхи, служить ему, превращаясь в вице– и вице-вице-диктаторов. В конечном итоге диктатор ошибается и в преданности своих вице– и вице-вице-вождишек, так же, как он ошибается во всем другом. Его пешки будут служить ему с диким энтузиазмом, пока он остается диктатором, но те, кто его свергнет, нигде не смогут найти более подобострастных лакеев, чем бывшие диктаторские приспешники, нигде не найдут таких раболепствующих, заискивающих, низких псов. Их нельзя будет отодрать от начальственных постов и с помощью подъемного крана.








