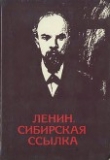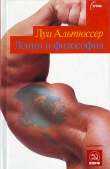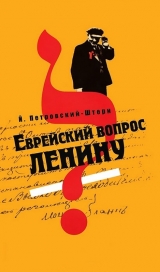
Текст книги "Еврейский вопрос Ленину"
Автор книги: Йоханан Петровский-Штерн
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
Театральная встреча
Владимир Ульянов (Ленин) вырос в Симбирске, городе на Волге, расположенном на тысячеверстом расстоянии к востоку от Староконстантинова, Житомира и черты еврейской оседлости. Население Симбирска состояло на 83 % из русских православных, на 3 % из католиков и на 8 % из мусульман. Едва заметную еврейскую городскую общину составляли главным образом бывшие еврейские кантонисты и солдаты, служившие в русской армии при Николае I, которым военное начальство дозволило поселиться по месту прохождения службы.[63]63
Подробнее см. Petrovsky-Shtern Yohanan. Jews in the Russian Army, 1827–1917: Drafted into Modernity. Cambridge: Cambridge University Press. 2008. P. 69–71, 85-
[Закрыть] Местные евреи занимались мелкой торговлей и ремеслом. В 7080-е гг. в результате Великих реформ Александра II к ним присоединились переселившиеся за черту привилегированные мануфактурщики и гильдейские купцы. Местные евреи обрусели и в целом и в частности принадлежали к русскому обществу: они говорили не на идише, а по-русски, носили русскую одежду, а не традиционную еврейскую. К концу XIX в. в городе было всего 3 или 4 еврейских частных молельных дома. И даже после интенсивного (и порой насильного) переселения евреев из черты оседлости во внутренние районы России во время Первой мировой войны еврейское население Симбирска составляло не больше 1 %.
Ульяновы принадлежали к другому социальному и культурному слою. Илья Ульянов, учитель физики и математики, получил в Симбирске должность инспектора народных училищ. Он хлопотал об открытии новых школ и библиотек, поощрял назначение женщин на преподавательские места, следил за правильной постановкой учебного процесса и распространением образования среди этнических меньшинств: мордвы, чувашей и татар. За годы его деятельности было открыто примерно 350 новых школ, где обучалось около 20 000человек. За безупречную и усердную службу, которой впоследствии помешало слабое здоровье, Ульянов был награжден орденами Св. Анны, Св. Владимира и Св. Станислава.[64]64
Штейн. Ульяновы и Ленины. С. 286.
[Закрыть]
Ульяновы были одной из многих скромных семей просвещенного русского мелкопоместного дворянства. Они верили в великую миссию просвещения. Их единственная статья дохода – государственное жалованье. В Симбирске Ульяновы жили в деревянном доме, одноэтажном с фасада и с двухэтажным флигелем с тыла: по фасаду у дома было 7 окон, 5 комнат были расположены на первом этаже, 4 комнаты наверху, а позади дома у них еще был маленький дворик с громоздким ручным насосом и колодцем. Мария Бланк воспитывала детей в скромности, прилежании и трудолюбии. Детям прививались важнейшие ценности: учеба, самоусовершенствование и взаимопомощь. Шахматы, музыка, чтение – вот их увлечения. Ульяновы были православными, как их друзья и знакомые учителя. Среди друзей семьи попадались юристы, чиновники и врачи. Иногда приглашали православного священника готовить детей в гимназию.[65]65
Ульянова-Елизарова А.И. О В.И. Ленине и семье Ульяновых. Воспоминания. Очерки. Письма. Статьи. М.: Политиздат, 1988. С. 25–27, 37, 107–111.
[Закрыть] Гораздо позднее Ленин, уже убежденный марксист, с неодобрением вспоминал, что воспитывался в православном благочестии. Ленин порвал с христианством, когда ему исполнилось 16 – через год после того, как умер отец, и за год до казни брата.
Когда Ленин впервые увидел евреев? В своих сдержанных, подвергшихся самоцензуре, мемуарах младший брат Ленина Дмитрий вспоминает вот какой эпизод, неожиданно проливающий свет на этот вопрос. Еще подростками Дмитрий и Владимир, в бытность свою в Казани, пошли на оперу Жака Фроманталя Галеви «La Jui've» (Жидовка). В центре сюжета – история любви и страданий Рахили, приемной дочери Элеазара, серебряных дел мастера, и Леопольда, швейцарского наследного принца. Прошедшая премьерой в 1835 г. в Париже, «Жидовка» возвращает слушателей в XV в. и рассказывает о жестокости и непримиримости к евреям со стороны католической церкви, о тяжелом положении евреев и гонениях против них в позднем Средневековье.
Опера удачно использует романтические клише: Рахиль оказывается потерянной дочерью кардинала, а кардинал вынужден пойти против собственной дочери, вооружившись карающим мечом главенствующей религии. Сидя в казанском оперном театре, Владимир и Дмитрий впервые увидели множество вещей, которых не видели никогда в жизни, включая пасхальный седер. Именно благодаря этой опере Владимир впервые познакомился с целой эпохой еврейской истории, увидел еврейские ритуалы и еврейских персонажей. Это все было для него в диковинку. Похоже, на Владимира произвела неизгладимое впечатление заключительная сцена, когда стойкая и непреклонная Рахиль и ее неуступчивый старик-отец отвергают спасительное крещение. Взамен их ждет мучительная смерть в котле с кипящим маслом.
Дмитрий вспоминает, что брат был переполнен чувствами. По возвращении домой он не мог уснуть: расхаживал взад-вперед по комнате, напевая темы из «Жидовки» – начиная с арии «Рахиль, ты мне дана небесным провиденьем…». Наибольшее впечатление произвела на него ария Элеазара. Ювелир излагал в ней свои нравственные принципы: «Христиан я ненавижу, их решился презирать, но теперь я прибыль вижу – можно денежки достать!» Эта ария невероятно вдохновила Володю Ульянова, он повторял ее снова и снова.[66]66
Ульянов Д.И. Очерки разных лет. М.: Политиздат, 1976. С. 112.
[Закрыть] Тринадцать лет спустя, в сентябре 1901 г., Ленин провел некоторое время в Мюнхене. Он писал матери, что был в мюнхенской опере, где «с великим наслаждением» слушал «Жидовку». Попутно он упомянул, что слушал эту оперу в 1887 или в 1888 г., но «некоторые мотивы остались в памяти».[67]67
Ленин В.И. ПСС. 55: 202.
[Закрыть]
Ленин жил жизнью сценических героев «Жидовки» и, как восторженный зритель из русской глубинки, отождествлял себя с персонажами французской grand opera. Со всеми теми, кто извлек из позднего Средневековья и возродил в сценической форме отчаяние, страсть, гордость и страдания гонимого народа. Для молодого Владимира Ульянова евреи долгое время оставались сценическими персонажами – порой мелодраматичными, порой героическими, но всегда принадлежавшими сфере искусства, не жизни. И о «Жидовке» Ленин писал точно так же, как написал бы об удачном исполнении «Кармен» или «Риголетто».
Если бы он хоть что-нибудь знал о Бланках, им бы владели совсем иные чувства. Он упоминает «Жидовку» в письме к Марии Бланк, матери, которую нежно любил, называл «ангелом» и всегда старался ее успокоить и обезопасить, особенно после казни его старшего брата Александра, повешенного за покушение на царя. Так что вряд ли Ленин что-нибудь знал о происхождении матери. Неудивительно, что он ходил слушать музыкальный шедевр Галеви дважды: «Жидовка» была очень популярной оперой, которую ставили во многих театрах и которую высоко ценили Рихард Вагнер, Гектор Берлиоз и Густав Малер. Замечательно, что на Ленина не произвели впечатления ни колоритные сцены жизни средневековой Швейцарии, ни роскошные костюмы и яркие иудейские персонажи. Зато на него произвел незабываемое впечатление прагматичный, балансирующий на грани цинизма ювелир Элеазар. Как только дело заходит о его финансовых интересах, Элеазар с легкостью отказывается от деланой ненависти к богобоязненным христианам и без колебаний жертвует идеологией ради сиюминутной практической выгоды.
Впечатление, которое на Ленина прозвела опера Галеви, сродни его впечатлениям от романа Николая Чернышевского «Что делать?», который, возможно, оказал кардинальное воздействие на формирование ленинского мировоззрения. Написанный поклонником французского утопического социализма, этот роман построен по принципу намеренно двусмысленной социалистической риторики. На уровне сюжета роман представляет собой тривиальный любовный треугольник, историю освобождения молодой женщины от гнета мелкобуржуазной семьи, происходящую на фоне становления мануфактурного производства. Однако роман читается по трем-четырем кодам, он полон скрытых намеков, на которых, к примеру, построен и знаменитый разговор Веры Павловны с Лопуховым, знающих, что их подслушивают.
Эти рассыпанные по роману намеки указывают на то, что роман следует воспринимать в первую очередь аллегорически. А прочитанный как аллегория роман оказывается еще и социополитическим трактатом о классовой и гендерной эмансипации, о революционных переменах в обществе, о формировании социалистически настроенной интеллигенции, о роли труда и капитала и об окончательном социальном освобождении трудящихся. Стилистически и структурно построенный на нарочитой двусмысленности, этот роман научил Ленина новоязу – как, произнося слово «невеста», на самом деле говорить о революции и как манипулировать языком и интересами оппонентов ради своей немедленной выгоды.[68]68
См. Paperno Irina. Chernyshevsky and the Age of Realism: A Study in the Semiotics of Behavior. Stanford. Calif. Stanford University Press, 1988.
[Закрыть] Набоков тонко высмеял этот роман, эту «маленькую мертвую книгу», построенную на «призрачной этике» и пропагандирующую утилитаризм как движущую силу человеческих поступков.
Мы вряд ли когда-нибудь выясним, увидел ли Ленин в оперном Элеазаре образ в стиле Чернышевского или в героях Чернышевского – циничного прагматика из оперы Галеви. Тем не менее отношение Ленина к евреям в целом и партийным товарищам еврейского происхождения в частности свидетельствует, что ради достижения собственных целей Ленин научился мастерски манипулировать вопросами, связанными с этническими и национальными меньшинствами. Это его умение особенно проявилось тогда, когда в жизни Ленина театральные евреи сошли со сцены и оказались среди его непосредственных собеседников.
Замаранный Маркс
Когда Ленин впервые встретился с Юлием Цедербаумом (которого русские марксисты знали как Юлия Мартова), евреи уже спустились с театральных подмостков, оделись в поношенные революционные пиджаки и стали ежедневной реальностью. Этих всамделишных евреев Ленин воспринимал через свой марксистский зрачок. Из сибирской деревеньки Шушенское, куда он был сослан на 3 года за политическую деятельность, Ленин писал матери о путешествии в близлежащий Минусинск. В 1897 г. в этот же отдаленный район Сибири были сосланы некоторые революционеры, его друзья и соратники. Ленин кратко останавливается на положении каждого из них. Иногда он упоминает, к какой партии принадлежит тот или иной ссыльный (скажем, член Народной воли), реже указывает национальность (поляк) и почти всегда отмечает классовую принадлежность (рабочий). В одном из таких писем к матери Юлий Мартов фигурирует просто как Юлий. Назвать его евреем было бы грубостью и для Ленина, и для его матери. Слово «еврей» было неприемлемо не только с точки зрения ленинского марксистского словаря, но и с точки зрения общедемократических убеждений Ульяновых. Разумеется, Ленин прекрасно знал о глубочайших еврейских корнях своего тогдашнего лучшего друга.
Мартов родился в среднебуржуазной семье: его отец служил в Русской торгово-пароходной компании в Константинополе, позднее переехал в Одессу и затем в Санкт-Петербург. Мать Юлия происходила из еврейской сефардской семьи, но Цедербаумы крепко вросли в русско-европейскую ассимилированную буржуазную среду. Юлий был обязан своим коротким знакомством с иудаизмом разве что рассказам деда – Александра Цедербаума, знаменитого еврейского журналиста-просветителя и издателя, стоявшего у основ российской еврейской прессы. Но даже при таком прославленном деде Юлий никогда не сталкивался с еврейскими ритуалами и обычаями. Его знакомство с древнееврейским языком было более чем поверхностным; сестра Мартова вспоминает, что они не могли осилить Ha-Melits, дедовскую газету.
Наоборот, русская литература была для них «наше все». Будучи физически инвалидом – он сильно хромал с детства, – Юлий вырос страстным, заядлым читателем и заглатывал целые тома таких русских писателей-демократов, как Александр Герцен, Николай Островский и Владимир Короленко. Юлий всегда сочувствовал положению евреев в Российской империи и даже вдохновил создание марксистских фракций в среде еврейских пролетариев, но для него это был жест либерального интернационалиста, сочувствующего стороннего наблюдателя-демократа, симпатизирующего еврейской борьбе за эмансипацию.[69]69
Мартов и его близкие. Сборник. Нью-Йорк, 1959. С. 11–12, 24–25.
[Закрыть]
В начале своей политической карьеры Ленин обожал Мартова, тепло писал о его работе, называл его «неунывающий парень» и часто выражал озабоченность нездоровой обстановкой вокруг Юлия, его психическим состоянием.[70]70
Ленин В.И. ПСС. 55: 57, 84, 92.
[Закрыть] Ленин нередко напевал революционную песню, написанную Мартовым: построенная на революционно-романтических метафорах, она, вероятно, помогала Ленину переносить трудности и одиночество сибирской ссылки. Первый вопрос, который он задал родственникам по возвращении из ссылки, был о Мартове: как его здоровье, какие новости, когда вернется.[71]71
Ульянова-Елизарова. О Ленине. С. 156–157.
[Закрыть]
Для Ленина Мартов был русским социал-демократом, марксистом. Ленин, конечно, знал, что в середине 90-х гг. Мартов не только предлагал создать специальную еврейскую пролетарскую организацию еще до того, как такая организация была официально создана, но также настаивал на интеграции организованных рабочих-евреев в другие интернационалистские пролетарские группы.[72]72
Урилов ИХ. Ю.О. Мартов: политик и историк. М.: Наука, 1997. С.138.
[Закрыть]
И все же для Ленина Мартов – в первую очередь самый многообещающий сотрудник в деле издания будущей всероссийской социал-демократической газеты.[73]73
Подробнее см. Урилов И.Х. История российской социал-демократии (меньшевизм). Ч. 2. М.: Раритет, 2001. Указатель.
[Закрыть] Троцкий изображает Мартова в первые годы XX в. как ближайшего друга Ленина, хотя Мартов, по Ленину, «очень уж мягок».[74]74
Троцкий Л.Д. О Ленине: материалы для биографии. М.: Госиздат, 1924. С. 19–22.
[Закрыть] Эта мягкость выражалась в первую очередь в приверженности Мартова демократическим ценностям и гуманистическому началу в политике. Скажем, когда у Ленина были разногласия с оппонентами, он их клеймил как предателей, негодяев и преступников, в то время как Мартов настаивал на тщательном критическом разборе их взглядов.[75]75
Валентинов Н. Встречи с Лениным. Нью-Йорк: Изд. им. Чехова, 1953. С. 312–313.
[Закрыть] Из-за различий между «твердым» Лениным и «мягким» Мартовым их дружеские отношения в конце концов закончились размолвкой, скандалом и политическим противостоянием.
Кризис в отношениях между ними наступил в 1903 г. на Втором съезде РСДРП, когда Мартов и Ленин радикально разошлись по вопросу о членстве в партии. Это знаменитое разногласие, вошедшее во все классические учебники по истории партии, привело к расколу русских социал-демократов на меньшевиков (которых поддерживал Мартов) и большевиков (следовавших за Лениным). Мартов отстаивал понимание партии как открытой партийной организации, пользующейся поддержкой своих членов, в то время как Ленин настаивал на партийном членстве только активно участвующих. Мартов имел в виду демократическую партию, предполагавшую различную степень вовлеченности и участия. Ленин, наоборот, жаждал видеть партию исключительно партией профессиональных революционеров. Социал-демократы еврейского происхождения поддержали Мартова и обеспечили ему большинство (таким образом, большевики некоторое время оставались в партии меньшинством). Несмотря на то, что на Четвертом съезде в 1906 г. меньшевики отказались от своей точки зрения и приняли большевистскую формулировку, Мартов и Ленин остались оппонентами. Один ленинский биограф верно подметил, что ленинская доктрина централизованной партии привела к созданию ленинского же «сверх-централизованного советского государства».[76]76
Урилов. Мартов. С. 150.
[Закрыть]
После Второго съезда партии дружеские отношения Ленина с Мартовым прервались. Троцкий вспоминает, что когда Ленину с Мартовым надо было о чем-то переговорить, Ленин говорил, глядя мимо Мартова, а у Мартова глаза стекленели. На съезде, подытоживает Троцкий, Ленин «потерял Мартова, и – потерял навсегда».[77]77
Троцкий. О Ленине. С. 46.
[Закрыть] С этого времени Ленин не упускал возможности пнуть Мартова. Когда Мартов присоединился к ликвидаторам, Ленин обозвал его клеветником. В частном письме к сестре Анне Ленин называет Мартова мерзавцем и подлым шантажистом, которого надо выкинуть из рабочего движения. Невзирая на столь резкую критику, Ленин продолжал переписываться с Мартовым, приглашал его работать на благо социалистической прессы и даже предлагал ему членство в редакционном комитете главного печатного органа партии, хотя Мартов, как Ленину было хорошо известно, был крепко связан с различными небольшевистскими течениями в социал-демократическом движении.[78]78
Ленин В.И. ПСС. 25: 343, 55: 350, 47: 253, 270–271.
[Закрыть]
Ленин обращался с Мартовым в зависимости от того, как сам Мартов относился к ленинскому пониманию непосредственной революционной задачи текущего момента. В первое десятилетие XX в. Ленин отлично понимал, что Мартов – самый радикально настроенный и неслыханно продуктивный журналист среди всех русских марксистов, так что партии и социал-демократическому движению было бы выгодно с ним сотрудничать. Следовательно, Мартов может быть полезен партии.
В таком случае Ленин готов был временно прекратить нападки на Мартова. Ведь он оценивал своих коллег, в том числе и евреев, с одной-единственной точки зрения: их готовности пожертвовать любыми групповыми, этническими, классовыми или национальными интересами ради того, что сам Ленин считал главной задачей текущего момента.
Проблема не в том, был ли Мартов евреем или нет, а лишь в том, что он был слишком «мягок» для Ленина. Мартов не был готов пожертвовать своими демократическими принципами ради агрессивного, подавляющего человеческую индивидуальность большевизма. Мартовский, отличный от ленинского, взгляд на членство в партии имел далекоидущие последствия. Демократически настроенный гуманист Мартов не принял Октябрьский 1917 г. переворот, призвал к объединению всех подлинно интернационалистских и миролюбивых демократических фракций на Втором съезде Советов и требовал, уже из эмиграции, чтобы европейские интеллектуалы выразили свой протест против жестокости большевистского режима.[79]79
Мартов Ю.О. Письма. 1916–1922. Benson: Chalidze Publications. 1990. C. 165–167, 179–181.
[Закрыть] В разгар этих событий Ленин проклял Мартова как ренегата, а не как еврея.
«Вышибать из числа наций!»
Многих глубоко русифицированных евреев, таких как Мартов, из среды русских революционеров Ленин знал лично, однако его представление о пятимиллионном народе, запертом в черте оседлости, было поверхностным и опосредованным. В целом Ленин знал о евреях прискорбно мало, а то, что он знал, было по преимуществу ненадежно и предвзято. Ленин черпал свои представления о евреях из русской прессы, а концептуальные понятия заимствовал у немецких социалистов. Ленин, скорей всего, также знал ранние работы Маркса по еврейскому вопросу.
Маркс называет буржуазными все те социо-экономические условия, что радикально ограничивали для евреев выбор профессии и что порождали стереотипные представления об иудаизме – буржуазной системе, где «деньги» служили «мирскому Богу евреев». Остроумно извернувшись в риторике, Маркс совместил этот шаблонный иудаизм с германским капитализмом и призвал к уничтожению социоэкономических условий, порождающих как засилье евреев в одной-единственной хозяйственной торгово-банковской отрасли, так и капиталистическую эксплуатацию в целом. Поскольку эмансипация пролетариата зависела от ликвидации капитализма, «еврейская эмансипация» была связана с «эмансипацией человечества от еврейства».[80]80
Статья написана осенью 1843 г. как рецензия на публикации Бруно Бауэра о евреях, опубликована в феврале 1844 г. в Deutsch-Französische Jahrbücher; см. Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений. Т. 1. С. 408, 413.
[Закрыть]
Самостоятельные исследования, посвященные политической ситуации в многонациональной Российской империи, привели Ленина к более корректному пониманию положения евреев, которых он назвал «наиболее угнетенной и затравленной нацией» в Восточной Европе. Ленин подчеркивал, что режим Российской империи превратил евреев в объект чудовищных преследований, особенно накануне Первой мировой войны. Ленин считал, что евреям в России хуже, чем неграм в Америке. Попутно он обронил, что только в отсталой России может возникнуть кровавый навет – обвинение евреев в том, что они используют кровь христианских мальчиков для приготовления пасхальной мацы (опресноков) – печально известное дело Бейлиса (1911–1913) тому примером.[81]81
Ленин В.И. ПСС. 24: 122–123; 25: 16–18, 64, 86; Ленин посмотрел фильм про дело Бейлиса и остался недоволен тем, что режиссер превратил важную социополитическую проблему в мелодраму; см. ПСС 55: 353.
[Закрыть]
Ленин выделяет две подгруппы в среде «всемирного еврейства». Одна группа евреев, к которой он относит большую часть 10-миллионного народа, обитает в отсталых, полудиких странах под властью Габсбургов и Романовых. В этих двух странах, Австрии и России, евреев насильно держат в положении касты, класса мелких торговцев. Другая, меньшая часть живет в цивилизованном мире: в Западной Европе и Северной Америке, где евреи пользуются полной свободой и успешно ассимилируются в господствующую культуру. Западноевропейские и североамериканские евреи воплощают, с точки зрения Ленина, истинные национальные черты еврейского народа: интернационализм и восприимчивость к передовым движениям эпохи (читай – социализму).
В начале 1900-х гг. Ленин рассматривает евреев России как угнетенное изолированное этническое меньшинство с четкими социоэкономическими характеристиками, а евреев в Европе – как ассимилированных левацки настроенных интернационалистов. Ленин считает, что на пути к эмансипации евреи должны непременно отказаться от зашоренной восточноевропейской идентичности и принять западноевропейскую, социалистически-ассимилянтскую. По большому счету, восточноевропейские евреи для Ленина оказываются неудобной классовой сущностью: мелкой буржуазией. Чтобы покончить со своим угнетенным социально-экономическим положением, евреи должны вырваться из средневекового гетто и присоединиться к социалистической революции.
Социал-демократы успешно разрешат еврейский вопрос, предложив евреям спасительную ассимиляцию. Поэтому евреи, полагал Ленин, должны во что бы то ни стало ассимилироваться во вне– и наднациональную пролетарскую культуру, а не в русскую имперскую. Как и другие поборники эмансипации евреев, Ленин считал ассимиляцию исключительно позитивным явлением, единственно возможным выходом из тупика. Культурная ассимиляция, дескать, наполнит смыслом еврейскую интеграцию в цивилизованное общество. Ей отводится особая роль еще и потому, что она «составляет один из величайших двигателей, превращающих капитализм в социализм». Словом, чем больше евреев ассимилируется, тем лучше для мировой пролетарской революции.[82]82
Ленин В.И. ПСС. 24:113–150.
[Закрыть]
Именно те евреи-марксисты, которые не подписывались под сепаратистскими устремлениями еврейских социал-демократов, продолжали, по Ленину, лучшие традиции еврейского народа. Марксисты и революционеры с интернационалистскими установками, отказавшиеся от своего еврейства и личностно, и политически, были настоящими евреями; все те, кто исповедовал марксизм, но при этом защищал права еврейских рабочих в черте оседлости, – неподлинными евреями. Ленин пошел еще дальше, он задавался вопросом, нужна ли вообще еврейскому пролетариату «независимая политическая партия».[83]83
Ленин В.И. ПСС. 7: 117–122; 25: 144–145. ср. с ленинским отношением к сепаратизму чешских марксистов: Ленин В.И. ПСС. 23:123–124.
[Закрыть] С точки зрения Ленина, конечно, не нужна, поскольку пролетариат и рабочее движение – наднациональные, интернационалистские понятия, обрекающие буржуазное понятие национальности на забвение. Поэтому Владимир Медем – дурной еврей; да, разумеется, он принял православие и был русскоговорящим марксистом – но ведь он вернулся, что называется, к своему народу и даже возглавил отдельную еврейскую социал-демократическую партию – Бунд. С другой стороны, Лев Троцкий порой бывал хорошим евреем – как закоренелый марксист, поборник ассимиляции и подлинный социал-демократ. Чем меньше еврейского в человеке, тем лучший он еврей, полагал Ленин.
Ассимиляцию Ленин считал важнейшей миссией евреев. Не он ее изобрел. Он буквально заимствовал эту мысль у западноевропейских социалистов, поборников полного растворения евреев в европейских культурах. Когда Ленин говорил, что знаменитые европейские евреи не протестуют против ассимиляции, он имел в виду денационализированных социалистов: австрийских, как Отто Бауэр, и немецких, как Карл Каутский. В заметках к статье по национальному вопросу Ленин пишет: «Национальные курии в школьном деле. Вред. […] евреи – торговцы главным образом. В России кастовая обособленность евреев. Выход? (1) закрепление ее так или иначе (2) сближение с демократическим и социалистическим движением стран диаспоры», и затем как бы для того, чтобы подчеркнуть главную идею будущей статьи по национальному вопросу, Ленин пророчит, прибегая к цитате, а может быть, закавычивает собственную мысль: «Вышибать евреев из числа наций!»[84]84
Ленин В.И. ПСС. 24: 394.
[Закрыть]
Вот, собственно, что Ленин и предлагал сделать с евреями: ассимилировать их в такой степени, чтобы ничего в них национального не осталось. И тогда евреи присоединятся к левому движению и вольются в социал-демократию. Всего этого можно достичь уже сейчас: необходимо ассимилировать евреев в социалистическое движение и убедить их, что они никакая не нация и что называть евреев нацией – мелкобуржуазная чушь. И тогда как Маркс придавал особое значение всему тому, что мешало еврейской эмансипации, – например, еврейской социоэкономической деятельности, по слову Маркса, «практическому иудаизму», Ленин видел единственное препятствие на пути еврейской эмансипации – а именно, группу евреев-марксистов, бундовцев, сильно осложнявших его жизнь.