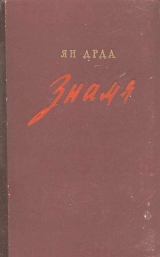
Текст книги "Знамя (Рассказы и повести)"
Автор книги: Ян Дрда
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
Униженный до глубины души, пан Броучек поднялся с тротуара и, не будучи в состоянии сообразить, где он, собственно, находится, наугад направился к перекрестку. Его сердце разрывалось от мучительного позора и безнадежности. Столько слухов снова обмануло в этом году, столько надежд снова разбилось, столько предсказаний не исполнилось! Осыпанный, с головы до ног золой, разочарованный ходом мировых событий, он потащился дальше под ярмом своей неисправимой глупости.
Знамя
Когда я уезжал из военного учебного лагеря, было уже темно. В холщовых палатках мигали красноватые огоньки, чуть слышно шуршали камешки на кремнистой тропинке, по которой прохаживался часовой. Где-то на другом конце лагеря молодые голоса пели «Фронтового шофера». Песенка взлетала в тихом ночном воздухе среди высоких сосен, как птица. Явственно можно было разобрать только две строчки;
…помирать нам рановато,
есть у нас еще дома дела…
К дверцам автомобиля подошел широкоплечий невысокий поручик. Я смутно различал в темноте черты его лица. Он сказал мне:
– Извините, товарищ, мне хотелось бы дать вам кое-что прочесть.
В руках у меня очутился небольшой сверток бумаги, перевязанный веревочкой. Поручик отдал честь и отошел.
Через час ночной курьерский поезд уносил меня в Прагу. В пустом купе я развязал сверток; в нем оказалась рукопись страничках на двадцати, исписанных твердым, энергичным почерком. Меня заинтересовала первая фраза, и я сразу же погрузился в чтение.
* * *
Высоко над темно-зеленым прибоем лесов вздымается гранитный утес. Острый пик, торчащий над поверхностью земли, смотрит на границу, у которой мы, солдаты, охраняем покой своего народа. В нескольких метрах от утеса, где подземная скала засыпана перегноем, стоит высокая ель. Ей будет, вероятно, свыше ста лет, а может быть, и двести, триста, – кто знает?
Я не сумею угадать, как долго тридцатиметровый шпиль этой ели сражался с бурями, как долго ее корни, вцепившиеся в скудную землю, воевали за влагу, растворяющую питательные вещества в почве, прежде чем сумела вырасти эта живая, уходящая в высь башня. В ней торжествует победу жизнь, существующая вопреки всем силам, которые грозили ей гибелью.
Может быть, странно, что я, бывший шахтер, а сейчас офицер чехословацкой армии, так не к лицу расфилософствовался. Но когда я стою, прислонясь к светло-серой гладкой коре этой ели, и взором и слухом преодолеваю звонкую, проникновенную шумавскую тишину, у меня возникает потребность обдумать многие и многие вещи.
Одни люди представляют себе нашу работу как цепь романтических приключений, другие видят в ней лишь бесконечное беспокойство и мучительные лишения. И то и другое неверно: мы работаем, как забойщики на переднем участке, спаянные строгой, до последнего пункта соблюдаемой дисциплиной, подкрепляемые верой в глубокий смысл своей работы. Мы нередко наглядно убеждаемся, извлекая из дорожного мешка иностранного агента, сброшенного на парашюте, взрывчатку, капсюли и обоймы с патронами для гангстерских пистолетов, и слыша на допросе, с какими страшными заданиями попал он в нашу страну, – что мы действительно охраняем мир.
Первого мая на вершине нашей пограничной ели мы вывесили красное знамя. Оно развевалось между низко несущимися облаками, как настоящий язык огня, далеко видный по ту сторону границы тем неизвестным товарищам, которые в труднейших условиях борются против собственных фашистов и иностранных оккупантов. Может быть, это знамя увидел Пауль, или Аугуст, или Херберт, которые спасли мне жизнь в Бухенвальде. Укрепляя на вершине ели древко знамени, я думал о них, об их борьбе против новых претендентов на мировое господство, которая продолжает борьбу против Гитлера. После двенадцати лет, проведенных в концлагере, после всех мучений в подземельях, после голодовок и истязаний, о которых не имеют понятия те, кто их не пережил, они продолжают оставаться на передовой линии, откуда их может отозвать одна лишь смерть.
Только глупец или вредитель может еще и сегодня утверждать, что немец и есть немец. Я, бывший политический заключенный, солдат, стоящий на западной границе, говорю без колебаний: именно сознание, что в Западной Германии, истерзанной и порабощенной, живут мои товарищи Херберт, Пауль, Аугуст и еще тысячи таких Хербертов и Аугустов, которые никогда не примирятся с фашизмом, подкрепляет мою уверенность здесь, когда я стою на страже у границы.
Та Германия, за которую они борются сегодня, – будущая Германия, станет по-братски близкой нашей Чехословакии, и эта граница, которую мы сегодня охраняем с автоматом в руках, станет границей дружеского понимания и сотрудничества. Через горные перевалы пойдут с гармониками и веселыми флажками немецкие и наши пионеры, и, быть может, как раз под моей елью братски обменяются своими галстуками.
И у меня есть сын, которому сейчас всего лишь пять месяцев.
Приезжая домой и тихонько подсаживаясь к жене, я смотрю, как к его ротику поднимается грудь, полная молока. Мальчик беззубыми деснами сжимает этот животворный источник и придерживает его кулачками. Светло-голубые глазенки улыбаются: «Как прекрасна ты, жизнь, и я весь дрожу от нетерпеливой тоски по тебе!»
Правда, ему придется еще долго ждать пионерского галстука. Но именно здесь, среди пограничного леса, я представляю себе своего мальчугана высоким, голенастым, смелым парнишкой, который улыбается всем своим загорелым лицом; растрепанные волосы у него выгорели на солнце, красный галстук резко выделяется на белой рубашке.
– Хорошо, скажете вы, – обычные отцовские мечты.
Но, может быть, вы и поймете меня. И точно так же, как я, задумаетесь над будущим своих детей. Через десять, двенадцать лет я приведу сына сюда, к своей сторожевой ели, и с той стороны драницы вместо враждебной тишины или выстрелов к нам донесется веселое детское пение и ауканье. И я расскажу своему сыну о том, что привело меня сюда, на границу, от шахтерского кайла.
* * *
В тот проклятый день пятнадцатого марта, когда гитлеровцы с помощью предательства оккупировали Чехословакию, мне было немногим больше восемнадцати лет, и я работал откатчиком на шахте «Анна-Мария». Мы спускались в шахту перед началом дневной смены, когда во дворе шахты загрохотали моторы нацистов. Серо-зеленые чудовища в непромокаемых плащах с капюшонами, натянутыми на каски, сидели, как истуканы, у своих пулеметов, нацеленных на копер.
– Это конец, – сказал один из старых шахтеров, когда наша клеть падала в темноте к сорок третьему горизонту. Он отвернул в сторону свое темное лицо, изрезанное морщинами, как кора дуба, чтобы никто не заметил, что он плачет. Но слезы, крупные и горячие, как у ребенка, блестели на его щеках и на бороде, капали на руки товарищей, прижатых к нему.
Когда мы направлялись с рудного двора к месту работы, люди шли медленно, точно придавленные. На всех словно навалилась тяжесть тысячеметровой толщи земли, лежащей над нашими головами. И тут забойщик, шедший впереди всех, внезапно остановился, поднял свою лампочку почти до потолочных балок и выругался:
– Проклятые бараны! Не вешайте башку, ребята!
Казалось, что он вот-вот в ярости шваркнет лампочку оземь.
Но он вдруг запел сильным и смелым голосом:
Слезами залит мир безбрежный
Вся наша жизнь – тяжелый труд…
Много раз на своем веку я слыхал эту старую рабочую песню – песню, которую певали еще мой отец и дед. Но никогда до сих пор у меня так не сжималось сердце от боли, как в тот раз. Толпа шахтеров остановилась, кое-кто побоязливее оглянулся в темноте в сторону рудного двора. Но прежде чем забойщик закончил первую строфу, к нему один за другим начали присоединяться голоса других шахтеров. Песня, звучавшая строго и неколебимо, полная гнева и ненависти, сама рвалась из груди, как долго сдерживаемое дыхание.
Это были далеко не одни лишь сознательные товарищи.
С нами был певец из церковного хора, носивший – в религиозных процессиях хоругвь, были и те, кто всю жизнь гнул спину в страхе перед господами, были и жадные деревенские труженики, мало склонные к какой бы то ни было солидарности и способные за грош ударить товарища молотком. Но в ту минуту мы все горестно глядели на красноватый огонек лампочки забойщика и жадно подхватывали слова песни. И многие пели без слов, но от всего сердца.
И старый шахтер, которого в юности били в шахте плетками, чтобы на всю жизнь внушить ему страх и послушание, открывал черный беззубый рот и пел:
Над миром наше знамя реет,
вкладывая в слова всю горечь своей жизни.
– Перестаньте вы, помешанные! – прибежал совершенно бледный штейгер и начал оттаскивать певцов, стоящих с краю. Но шахтеры стояли, словно заколдованные, не замечая ни его испуга, ни его ярости, ни его присутствия вообще. Он попытался разогнать шахтеров кулаками, колотил по бокам и спинам, голос у него сорвался и перешел в какой-то истошный визг. И тут один из шахтеров поднес к его носу свой черный кулак:
– Чего орешь? Пшел с дороги, не шути с нами!
Штейгер посинел и забился в нишу, выбитую в породе.
– Да я ничего… Лишь бы сюда кто-нибудь не заглянул…
Шахтеры, блестя глазами, стиснув кулаки, пели так громко, что эхо гулко разносилось по штольне.
Лампочка забойщика красной черточкой осталась стоять у меня в глазах, когда все уже разошлись по своим забоям. Я толкал вагонетки, как во сне, красное знамя, такое, какое я не один раз видел в день Первого мая, продолжало развеваться перед глазами.
И когда мы вечером, в половине одиннадцатого, поднялись из шахты в туманную тьму, наполненную похожей на лай командой на чужом языке и бряцаньем оружия оккупантов, знамя полыхало передо мной всю дорогу до самого дома, и мне казалось, что я сам держу древко и несу его среди врагов. Оно грезилось мне в беспокойных, полных смятения снах: как в сказке, каким-то чудом я становился сильным и неуязвимым, в самый полдень проходил с красным знаменем по площади нашего городка наперекор гитлеровцам, которые тщетно стреляли в меня со всех сторон. И на заре, когда сонный, дрожа от холода, я шел работать в утреннюю смену, я продолжал так же по-детски фантазировать. Может, это нелепо, что я, взрослый человек, бывший солдат, рассказываю сегодня об этом. Но что сделаешь – бессилье заставляет мечтать по-ребячьи.
Несмотря на свои восемнадцать лет я был слабым, хилым парнем. На шахту мне удалось попасть только с помощью печального случая: моего отца засыпало породой. От всего сердца жаждал я свершить что-нибудь великое. Жалобно смотрел я на шахтеров в шахте, тайком подслушивал их тихие разговоры во время работы, напряженно ожидая, когда вспомнят и обо мне, когда и меня позовут помогать подпольщикам. Во мне видели лишь мальчишку-откатчика – безмозглого щенка.
– Куш, парень, не лезь к взрослым! – раздраженно кричали на меня шахтеры, если я пытался подползти к отдыхающей бригаде или присесть на корточки где-нибудь неподалеку от нее в уголке.
И так я оставался в одиночестве со своей жаждой подвига.
Скоро я перестал мечтать о ребячьих чудесах – о неуязвимости, о способности делаться невидимкой. Более сильная, неотступная мысль одолевала меня по ночам, когда я без сна метался на постели, и утром – по дороге на шахту. Передо мной на западной части горизонта рисовалась высокая труба шахты «Анна-Мария», и я каждое утро видел на ее верхушке красное, подмигивающее пятнышко, ту огненную черточку, которая все время пылала перед моими глазами. Я останавливался в ясеневой аллее перед шахтой, прищуривая глаза; как помешанный, следил за верхушкой трубы. Красное знамя над шахтами! В своем воображении я видел его там столько раз, что мысль о нем совершенно овладела мною.
И действительно, первого мая на трубе шахты «Анна-Мария» развевалось знамя пролетариата. Оно горело ярким пламенем в косых лучах утреннего солнца, хлопало огненным языком под порывами ветра. Я шел в толпе шахтеров, невзрачный, худой мальчишка-откатчик, и сердце билось у меня в груди, как колокол, гораздо сильнее, чем в ту минуту, когда я в темноте висел на скобах у самого края трубы, раскачивающейся, точно ствол настоящего дерева, и далеко внизу под собой слышал шаги ночного дозора.
Я почувствовал, что по толпе шахтеров точно пробежала какая-то искра. Лица вдруг стали суровее, а глаза, поднятые кверху, у всех просияли. Разом пропала утренняя брюзгливость, от которой товарищ накидывается на товарища из-за пустяка, как собака. Некоторые заулыбались, кое-кто утирал слезы. А у иных глаза вспыхнули гневом. Мы спустились в шахту, но не стали работать: на рудном дворе, в квершлагах, в штольнях, в каждом забое толпились молчаливые группы шахтеров, готовых по первому сигналу броситься в бой. Штейгеры бегали по шахте, потеряв головы:
– Жмите! Жмите, а не то нас всех посадят!
– Сами жмите, если вам охота! – кричали разъяренные шахтеры.
За всю смену на-гора не выдали ни одной вагонетки.
В половине двенадцатого штейгер послал меня наверх, в канцелярию.
Гестапо выяснило, кто купил в москательной лавочке пакетик красной краски, нашло у нас в сарае и старый горшок, в котором я окрасил взятую у матери простыню. Меня избили до полусмерти, и даже когда я признался, что вывесил знамя, мне не поверили.
– Кто тебя научил? Кто послал тебя за краской? Кому ты отдал выкрашенное знамя? Кто влез с ним на трубу?
Гестаповцы были уверены, что обнаружили следы подпольной организации, и хотели вырвать у меня имена ее членов. Я заплакал, как маленький, и потерял сознание под кулаками нацистов. На меня выплеснули ведро воды, а когда я пришел в себя, начали бить снова. Я уже думал, что у меня слезло мясо с костей и что мне отбили все внутренности, но так ничего и не сказал. Да я и не мог ничего сказать.
В июле, когда с моего лица почти сошли синяки и кровоподтеки, меня приговорили в Панкраце к двум годам принудительных работ. Мать присутствовала на суде: ее вызвали, рассчитывая, что она сумеет меня переломить, что я не выдержу при виде ее измученного, почти прозрачного лица. Она сидела на первой скамейке, сжавшись в комочек от горя, а когда я тайком поднял на нее глаза, она беззвучно пошевелила губами, словно хотела утешить меня в моих страданиях.
Я постарался улыбнуться ей, не открывая рта, чтобы она не заметила, что у меня не хватает трех передних зубов. Когда меня уводили после оглашения приговора, она подошла к самой решетке. Только на секунду мы успели взглянуть друг другу в глаза: она приласкала меня напоследок взглядом своих слабых, потускневших от слез добрых глаз. Они были полны ужаса и боли. И несмотря ни на что, они говорили: «Молодец, сынок!» – Я не мог ошибиться в этом.
Через два года меня не освободили. Гестапо не выпустило меня из своих когтей. Осенью сорок первого года меня послали в Бухенвальд. Мне было уже больше двадцати лет, но с виду я напоминал хилого, заморенного подростка. Мускулы у меня пропали, за эти два года я не вырос и на сантиметр. Зеленый, без передних зубов, с провалившимися глазами, я еле ползал в тяжелых деревянных башмаках.
– За что ты здесь, сволочь?! – заорал на меня один из эсэсовцев, как только я очутился в их руках. Я и сейчас вижу его водянистые глаза, которые полезли у него на лоб от удивления, когда он услыхал мои слова:
– Первого мая в тридцать девятом году я повесил на шахте красное знамя.
Передо мной стояли трое с плетками, которые они никогда не выпускали из рук. Я был готов к тому, что меня на месте забьют до смерти. Но они принялись хохотать, и самый страшный из них ударил меня кулаком в грудь:
– Bannerträger! Bannerträger![33]33
Знаменосец! (нем.)
[Закрыть]. Ну погоди, мы тебя научим, как нужно носить эту проклятую красную тряпку!
Меня отправили в команду, работавшую в каменоломне под началом того самого эсэсовца, у которого были водянистые глаза. Он убил бы меня в первый же день, как с утра до вечера убивал моих товарищей. Но ему захотелось сначала поиграть со мной. У меня на глазах он разбил череп черноволосому французу небольшого роста. Кровь журчала, стекая по камням, и собиралась в темный густой комок.
– Bannerträger! Vorwarts![34]34
Знаменосец! Вперед! (нем.)
[Закрыть] – рявкнул на меня убийца и приказал мне вытереть курткой свертывающуюся кровь. Куртка сразу потяжелела, как камень, в моих руках, стала темно-красной. Эсэсовец велел привязать ее к рукоятке лопаты и плеткой погнал меня по узким тропкам каменоломни.
– Paradesschritt![35]35
Церемониальный шаг! (нем.)
[Закрыть] – ревел этот сумасшедший и стегал меня по ногам, потому что ему хотелось унизить нас всех таким наиподлейшим образом. Я должен был держать лопату, как древко знамени, и топать своими деревянными башмаками, высоко задирая ноги, словно при церемониальном марше.
– Mütze ab![36]36
Шапки долой! (нем.)
[Закрыть] – командовал он заключенным, когда мы проходили мимо них, и концом плетки сбивал шапки. – Долой шапки перед своим знаменем!
Мы все были на волосок от смерти: достаточно было неосторожного взгляда, движения, чтобы он раскроил тебе череп твоей же лопатой, чтобы тут же на месте своими сапожищами раздробил тебе ребра. Он хохотал, как помешанный, когда заключенные сдергивали шапки с остриженных голов. Но он не уловил того, что было в наших глазах. Все выпрямлялись при виде окровавленной куртки, провожая ее суровым, молчаливым взором, не моргнув глазом, не дрогнув ни одним мускулом лица. У меня забегали мурашки по спине, потому что я понял эти взгляды: они приветствовали подлинное пролетарское знамя – знамя, пропитанное рабочей кровью, приветствовали мертвого французского товарища и свою неугасимую надежду. Я понял это и собрал все свои силы, чтобы пронести знамя гордо и достойно.
– Schluss[37]37
Отставить! (нем.)
[Закрыть], – сердито закричал на меня эсэсовец. Он не понял ничего. Иначе он убил бы меня на месте. Он только почувствовал, что из его шутки не получилось того, чего ему хотелось. Он вырвал у меня лопату, швырнул окровавленную куртку к телу француза и пнул меня, чтобы я шел работать. В этот день он убил еще двух заключенных.
В команде мне дали имя: «Bannerträger» – «Знаменосец».
– Я ждал, что он тебя убьет, – Шепнул мне ночью мой сосед по нарам. – Берегись его, завтра… послезавтра он одумается…
Я привыкал к мысли о смерти. Стояли осенние, пронизывающие холодом туманы, обессиливающие, навевающие отчаяние. Точно весь мир холодел перед смертью. С открытыми глазами я мечтал о наших лесах, о матери, о белом цвете бузины под нашими окнами, о речке, богатой рыбой, которую я мальчиком выбирал в корнях под берегом, о наших лугах, усыпанных ромашками и незабудками и обрызганных росой, о пестрых щеглах, которых мы с дедом ловили в чертополохе. Я уже ничего этого не увижу, повторял я себе снова и снова, без ужаса, лишь со все возрастающим сожалением. Жаль, очень жаль… И в мыслях я снова возвращался к смерти: не сбросит ли он меня со скалы? Не застрелит ли? Долго ли… долго ли все это еще может тянуться?
Я видел смерть, быструю, внезапную, как удар молнии, и смерть длинную, мучительную, когда жизнь судорожно блуждает по всему телу, точно отыскивая в организме человека единственное неуязвимое местечко, где она могла бы забаррикадироваться для защиты.
У меня было глупое детское желание: «Пусть это будет сразу! Пусть будет сразу!» У меня не хватало сил сказать себе: «Нет, я буду сопротивляться до последней минуты!»
Я привыкал… зрел для смерти. И через месяц, даже без особых истязаний, я стал фаталистом, как мусульманин.
Однажды вечером меня бросили в «больницу». Это был последний этап перед крематорием. Я лежал с закрытыми глазами, сложив руки на провалившемся животе, без желаний, без воли к жизни. Я знал здешнюю программу: завтра или послезавтра ко мне придут со шприцем, сердце захлебнется ядом, разорвется. Я принимал это как неизбежность. Лишь о матери я думал в иные минуты, но равнодушно, без боли, как о милой, далекой, невозвратимой тени…
Была уже поздняя ночь, когда кто-то взял меня за руку, я приоткрыл глаза, безразличный ко всему. Я не знал этого человека.
– Du bist… der Bannertrager?[38]38
Ты знаменосец? (нем.)
[Закрыть] – спросил он меня шопотом.
– Да, я, – неслышно шевельнул я губами.
Он приподнял мою голову и прижал к губам скляночку.
– Пей! Это глюкоза.
Так он ухаживал за мной три дня и три ночи. Я не понимал этого сильного пожилого немца с красным треугольником политического заключенного. Когда он присаживался на край моей постели и короткими пальцами щупал у меня пульс, я дрожал от необычайного страха: почему он хочет помешать мне на моем пути… туда?
Потом он спросил меня:
– Почему эта свинья в каменоломне обозвала тебя… знаменосцем?
Я рассказал ему свою историю, уже такую далекую от меня, только для того, чтобы он оставил меня в покое со своими вопросами… Rote Fahne… rote Fahne… – слова, которые так запомнились мне после допросов auf dem Schornstein…[39]39
Красное знамя… красное знамя… на дымовой трубе… (нем.)
[Закрыть]
– Wo war es[40]40
Где это было? (нем.)
[Закрыть]? – спросил он меня еще как-то, не расслышав названия нашего городка. И молча пожал мне руку. На следующую ночь меня разбудило прикосновение его руки к моему лбу:
– Я говорил с товарищами чехами. Они хорошо знают твою историю. Передают привет…
Это была секунда, когда мне снова захотелось жить. Сердце, эта чужая, мертвая вещь, о которой я уже перестал думать, вдруг забилось со страшной силой, на лбу у меня выступил холодный пот.
Немецкий товарищ склонился к моему уху, положил голову на подушку около меня и стал шептать мне слово за словом:
– Фашисты разбиты под Москвой. Они бегут! Советская Армия перешла в наступление. Сталин говорил на Красной площади.
Его глаза были так близко от моих, что я даже в полумраке видел их суровый блеск. Разобьют гитлеровцев, погонят из Советской страны, освободят европейские народы от фашизма. Это сказал Сталин!
Я не помню даже, когда он ушел от меня в ту ночь.
Меня трясла лихорадка. В бреду я метался в грязном холодном море, которое захлестывало меня. Я шел в темноте ко дну, но снова и снова боролся с водой и помогал себе отчаянными взмахами рук, чтобы всплыть на поверхность, и хватал воздух. Я в бешенстве кричал на себя, что должен доплыть, хотя все члены мои коченели от холода и усталости. И тут вдруг над горизонтом вынырнул корабль. Огромный корабль, с трубой шахты «Анна-Мария» вместо мачты и с красным флагом на ней, который я укрепил там своими руками.
Нет, я уже не жалел ни об одном ударе, ни об одной секунде, проведенной после того страшного часа в тюрьме. Корабль сиял красотой, а внизу под знаменем стояли рядами в военном строю моряки. Нет, не моряки… шахтеры! Шахтеры с собственными пулеметами, которые они несли на плечах, как кирки, и стреляли в небо торжественными залпами.
– Шахтеры! Шахтеры! – начал я кричать изо всех сил и принялся прокладывать к ним путь среди бурных волн.
Когда я пришел в себя после продолжительного, подкрепляющего сна, товарищ Херберт был опять около меня. Он держал перед моими глазами блестящую трубочку термометра.
– Слушай! Товарищи хотят, чтобы ты непременно выжил. Выкинь из головы прошлое, не вспоминай, не тоскуй! Думай только о будущем, о завтрашнем, о послезавтрашнем дне. Думай о той минуте, когда над вашей Прагой, над шахтами, у вас дома взовьется красное знамя. Ты должен дожить до этой минуты. Ты еще будешь нужен!
– Я доживу, доживу! – кричал я по-чешски и стискивал холодными пальцами его руку, крепкую и сильную, этот якорь спасения, который подала мне партия.
Товарищ Херберт, проживший почти десять лет за колючей проволокой, погладил меня по остриженной голове и поцеловал, как отец сына:
– Ты будешь жить! Само собой разумеется! Я расскажу об этом товарищам.
Аугуст и Пауль вырвали меня из каменоломни. Они устроили так, что я попал в блок к своим. Полгода я наблюдал, как партия боролась с фашистами на этом ужаснейшем поле боя, безоружная и все же непобедимая.
В тот день, когда ворота концлагеря распахнулись и все заключенные двадцати национальностей сошлись на первое свободное собрание, я услыхал, как перед нашей группой крикнул сильный мужской голос:
– Bannerträger!
Я вышел из рядов. Передо мной стоял Херберт с одним французским товарищем. Я узнал его – он работал со мной в каменоломне. Они протянули мне прямоугольный лоскут от арестантской куртки. Материя затвердела от пропитавшей ее когда-то крови.
– Возьми это с собой… в знак братства.
* * *
В нынешнем году четвертого мая армия стояла на Страговском стадионе в Праге. Она получала перед лицом народа новые боевые знамена. Я был выбран знаменосцем своего полка.
Я преклонил колено и поцеловал край знамени. Солнце зажгло огненный шелк, весенний ветерок тихонько развевал его. Наш чешский лев в центре пролетарской звезды шевелился, как живой. Тринадцать лет моей жизни, с той минуты, когда я в штольне, среди шахтеров пел «Красное знамя» и у меня судорожно сжималось горло, пролетели перед моими глазами.
У меня затряслись руки, когда я коснулся древка знамени. Я увидел лицо матери, свет лампочки забойщика, кровь французского товарища, брызнувшую на камни. Я увидел синие верные глаза Херберта. И каждое из этих мгновенных воспоминаний говорило мне одно и то же:
– Будь сильным!
Я схватил обеими руками древко и сжал его так крепко, что почувствовал, как немеют пальцы.








