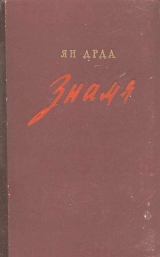
Текст книги "Знамя (Рассказы и повести)"
Автор книги: Ян Дрда
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
– Товарищи… – едва выговорил он, как будто слова застревали у него в горле, – товарищи, надо оставить… эту баррикаду.
– Ерунда! – яростно закричали ему в ответ. Может быть, он переодетый враг? Или трус? Капитулянт? На него посыпалась дикая ругань, чем дальше, тем отчаяннее и злее.
Он устало махнул рукой. Враги переправляются на лодках через реку. Там внизу, на берегу, в темноте между окладами, пустыми вагонами и перевернутыми лодками, идет бой.
За этой баррикадой есть ведь еще одна – на самом конце моста, она защищена с флангов, ее мы и будем держать.
Но вдоль всего берега пусто, куда ни глянь – пусто. Если мы потеряем берег, если только дадим им высадиться – все погибло. Он говорит так, словно исходит кровью.
Внизу у воды затрещали выстрелы. Быть может, немцы еще на середине реки. А может, им остался один прыжок до берега. И тогда…
– Приказываю именем революции!
Нехотя встают они один за другим. Оставить свою баррикаду! И без единого выстрела. От стыда мутится в голове. А все же поручик прав. Прав с военной точки зрения. На берегу нужны винтовки, нужны стрелки. Если будет занят берег, гитлеровцы возьмут эту баррикаду с тыла. Все поднялись. Только трое не сдвинулись с места.
Один – товарищ Недерланд. Потому, что мыслями он, наверно, там у себя, над каналом, в тени ветряных мельниц, у грядки тюльпанов. В стране, уничтоженной морем.
С ним Франта Кроупа. Потому, что он-то защищает две реки – Влтаву и Мансанарес. Он помнит гордый железный лозунг, брошенный когда-то в лицо нападавшим маврам.
И третий – Бручек. Потому, что он старый солдат, чорт возьми, и хочет, наконец, хоть раз выстрелить.
Уходящие кричат Недерланду, показывая ему рукой – назад. Он оборачивается и делает отрицательный жест. При этом он усмехается, как напроказивший школьник.
Кричат Франте.
– Поручик, я останусь здесь. Считаю, что так нужно.
– Только пропадешь зря.
– Пускай.
Поручик отправляет ребят вперед. Уходят все с сожалением. Но там внизу, в долине, за рекой, в подвальных убежищах спят под полосатыми перинами их матери.
Там лежат тепло укутанные их дети. Там, куда с берега только один шаг. Поручик подходит к Франте и подает ему руку.
– Я понимаю, что здесь должен кто-то остаться. Но…
– Никаких «но»… Смотрите, удержите берег… Честь[6]6
«Честь праце» (слава труду) – чешское коммунистическое приветствие. – Прим, перев.
[Закрыть]…
«Честь знамени», – думает поручик уходя. Он солдат.
Бручек притворяется спящим. Ему не хочется вступать в разговоры с этим молокососом. Только когда они остаются втроем, он обстоятельно сморкается, потягивается и, удовлетворив таким образом все свои физические потребности, лукаво подмигивает Франте.
Если их слушать, так человеку и выстрелить бы не пришлось.
* * *
Ночь. На башне бьет три часа.
Товарищи, ушедшие на берег, уже дерутся. Вверх и вниз по течению прорезают реку четки пулеметных очередей.
На баррикаде тихо.
Немая баррикада. Мертвая баррикада…
Только три пульса и три дыхания, три пары глаз Даже рукой не шевельнут. Лежат как убитые, а сталь автоматов разогрета горячими ладонями. На мушке пустынный мрак моста. Придут ли? Придут?
В таком оцепенении проходит ночь и занимается день, клочья утреннего тумана клубятся над рекой, временами между ними, точно чудовищные рыбы, выплывают вражеские лодки – неясная ускользающая цель.
Но вот рука Франты поднимается. Легко и осторожно, как будто он собирается поймать бабочку.
– «Нет, нет», – говорит он жестом товарищу Недерланду, поворачивающему дуло автомата к реке. Это не наше дело. И указательный палец Франты тычет в воздух перед баррикадой. Наше дело – враг, который придет оттуда.
Недерланд останавливает движение автомата, улыбается и кивает в знак согласия. Бручек зевает во весь рот. Его одолела утренняя дремота.
И только когда день до конца сорвал темный покров ночи, под утренний плач дождя дождались они своего. Тишина обманула гитлеровцев. У сожженной баррикады на конце моста, словно фантастические водяные чудовища, появляются парашютисты в широких зелено-коричневых плащах. Один за другим ползут они по асфальту, держа автоматы наготове. Жмутся с обеих сторон к перилам моста. Их пять. Десять. А потом вдруг посыпались, словно горох из мешка. Их уже сорок, пятьдесят. Они приближаются к мертвой баррикаде. Один из них на риск перебегает дорогу. Тишина завлекает их все дальше, они рассматривают неприятельский берег в пролеты между перил.
Нога Франты потихоньку придвигается к Бручеку. Она слегка дотрагивается до бедра соседа. Едва Бручек поднимает голову, как Франта предостерегающе прикладывает к губам палец. Недерланд скалит зубы. Бручек понял. Он глядит в щель, руки у него дрожат от волнения. Но рука Франты снова предупреждает: нет, нет, нет! Наше время еще не пришло.
Франта Кроупа готов петь от радости. Он лезет в карман за своим портновским мелом. При этом он думает об окопе, о далеком, давно покинутом окопе, о дружбе безвозвратно ушедших товарищей, о стране на другом краю Европы. Еще раз, последний раз, прежде чем…
И мертвецы, погибшие давно, встают кругом. Головы у них не прострелены, руки не оторваны, они радостны и полны жизни, как тогда.
Рука Франты протянулась к черной крыше перевернутого трамвая. К серпу и молоту. Твердыми, спокойными движениями чертит он букву за буквой: No р… Товарищ Недерланд растягивает губы в самой светлой улыбке из всех, какими он дарил окружающих за эти два дня. Но прежде чем Франта начинает выводить четвертую букву, рука иностранца тоже тянется к стене, нащупывает пальцы Франты и вынимает из них мел. И за Голландию тоже – …assaran, – доканчивает он четкими, крупными буквами.
Глаза Бручека глядят из-под шлема с полным пониманием. Франта читает в них: ну да, это часто писали по ночам! Много раз писали на стенах и на заборах. И сколько за это роздано тумаков!
Чудовища уже в тридцати шагах. Они перестали бояться немой баррикады, им ясно, что чехи отсюда отступили. Один от другого заражаются беспечной наглостью. Настороженность сошла с их лиц. Франта считает их улыбки. Они идут прямо на баррикаду. Gott mit uns! – на пряжках поясов, гранаты за голенищами. Шаг за шагом.
Глаза Бручека горят нетерпением. Глаза Недерланда стали тверды, как лезвие ножа. А глаза Франты одним движением век отдают приказ.
– За Прагу! За Голландию! За Испанию! Товарищи, огонь!
Рата-та-та-та-та, ра-та-та-та-та-та, ра-та-та-та-та-та.
И все сметает смерть.
Через несколько лет
Рассказы

Знаменосец Хоура
– У нас в Подлесье, – начал свой рассказ пятидесятилетний шахтер Йозеф Хоура, один из лучших забойщиков на козьегорских шахтах, – у нас в Подлесье этих Хоуров, что собак. И большинство, конечно, – шахтеры. По этому поводу люди давно уже шутя (а кое-кто и серьезно!) поговаривают, что нужно переименовать поселок: пусть он, дескать, так и называется – Хоуров. Но нам, видите ли, нравится наше Подлесье. Подлесье! Самое это слово напоминает о смолистой хвое… И лес у нас действительно рядом, он начинается сразу же за домами. Да какой лес! Пожалуй, и на краю света не сыщешь такого. Тут тебе и густой-прегустой ельник, и дубовая роща, и буковая… Одним словом – рай земной да и только, как говорит наш папаша. Я сам, товарищ, хоть и провожу полжизни под землей (весь род наш, как известно, шахтерский), а больше всего люблю этот лес. Поднимешься, бывало, из шахты – и скорее в лес. Солнце уже низко, время идет к вечеру, а ты растянешься где-нибудь в зарослях, у ручья, и лежишь. Воздух пахнет травами, смолой, прошлогодними листьями… Так и кажется, чорт возьми, что весь мир принадлежит тебе. А тут еще дрозды покрикивают: «Ойдана, ойдана!» И вокруг вьется вся эта лесная мелюзга – славки, щеглы, малиновки. Но куда там!.. Разве у меня хватит слов, чтобы описать вам все по-настоящему? И что это я разболтался о лесе? Я же хотел рассказать о Хоурах.
Так вот, для того чтобы их можно было отличить друг от друга, у каждого из Хоуров имеется свое прозвище. В крайней хате, например, живет у нас Хоура-стрелок… Стрелком-то, правду говоря, был его дедушка – тот любил поохотиться в горах, нынешний же Хоура – почтальон, но порядка ради и его продолжают называть стрелком. Есть Хоура жадный, Хоура верхний и нижний.
Есть Хоура-пастух, хотя он работает на шахтах кузнецом. И Хоура-кузнец, который как раз не кузнец, а сапожник…
Впрочем, для того чтобы перечислить всех, мне пришлось бы, пожалуй, говорить до утра. Я уж лучше сразу расскажу о своем папаше, о том самом, кого вот уже многие годы называют в поселке Хоура-знаменосец. В нынешнем году ему стукнуло семьдесят семь, нашему старику. Неплохой возраст для шахтера, не правда ли? Не подумайте, однако, что это какой-нибудь дряхлый, беспомощный старец. Какое там! С тех пор как у нас в Подлесье организовано охотничье общество, он, например, стал работать в лесничестве. Каждый день бродит по лесу со своей двустволкой. Когда-то он много дел натворил с этим ружьем! Как же, ведь наш папаша был самым отчаянным браконьером в области – это, значит, еще при графах, в старину. Всякий раз, как из лесу доносилась особенно жаркая пальба, люди в поселке говорили: «Черт возьми, ну и палят сегодня! Это уж, наверно, Хоура…»
Но никогда ни одному лесничему не удавалось его поймать: папаша знает лес лучше, чем сто лесничих. И вот, посмотрели бы вы на него сейчас! Главный начальник лесничества частенько говорит ему: «Хоура! На вашем участке настоящий порядок. Просто хоть на выставку…» Недаром говорят, что именно из браконьеров получаются лучшие лесничие. Но что касается нашего старика, то тут дело в другом. Он ведь и браконьером-то был, в сущности, только потому, что не соглашался признать господ настоящими хозяевами леса.
«Леса принадлежат всем, а господа только украли их у нас», – так толковал он покойной мамаше, когда та еще в молодости умоляла его покончить с браконьерством. И вот, смотрите-ка, леса теперь действительно принадлежат всем, и папаша по праву хозяйничает в них. Ох, как он не терпит браконьеров! Ну для них он сущая гроза… Если ты честный трудящийся, зачем тебе браконьерство! Запишись в наше общество и участвуй в охоте как полагается. Но не обкрадывай республику, потому что теперь страна принадлежит мне, тебе, трудовому народу, и никакому негодяю мы не позволим ее обворовывать… Вот как он рассуждает, наш старик. Ну, а если среди нарушителей попадется ему какой-нибудь молодчик из сельских богачей, еще не утерявший своей спеси, то уж берегись. Тут уж, голубчик, со стрельбой будет навсегда покончено.
Но как он ухаживает за животными на своем участке, наш папаша, просто посмотреть приятно… Каждый день, в любую погоду, хоть бы снег был по пояс, но непременно пойдет проверить, приготовлена ли еда, все ли как надо сделали помощники. И как он строго следит за тем, чтобы для охоты из стада серн выбирали лишь самых слабых!.. Это не то, что прежде, когда охотники били всех подряд. Когда же фазаньи самки сидят на яйцах, честное слово, папаша сам ходит вокруг, как наседка, – все тревожится, чтобы не подобралась какая-нибудь бродячая кошка или куница… Но я все отвлекаюсь и отвлекаюсь от главного… Почему же все-таки нашего папашу называют Хоура-знаменосец?
Дело в том, что долгие годы папаша был знаменосцем. Сначала в рабочем кружке, а позже в организации социал-демократов, когда такая появилась у нас. Все это было еще до первой мировой войны. И каждый, кто видывал тогда нашего папашу, рассказывает, что не встречал более представительного знаменосца: флаг в руках – это ведь не палка, с которой идут в лес за орехами, и не церковная хоругвь, что свободно колышется над головами. «Наш красный флаг, – частенько говаривал папаша, – это вещь дорогая, священная. Его красный цвет – это пролитая рабочая кровь. С красным флагом, голубчик, ты должен держаться так, словно идешь в бой, чтобы зажечь сердца тех, кто шагает вслед за тобой. Ты должен быть, как живое изваяние: голова поднята, взгляд устремлен вперед, шаг твердый и четкий, хотя бы жандармы стояли перед тобой. И руки твои должны чувствовать, что они держат именно флаг. Нельзя допустить, чтобы он висел безжизненно и нескладно, словно пиджак на вешалке. Не-е-т! Он должен свободно развеваться по ветру, так, чтобы сами собой образовались красивые складки, так, чтобы красный шелк казался живым, как огонь, как кровь…
Так вот, в продолжение двадцати лет папаша на демонстрациях, на праздновании Первого мая шел впереди с красным рабочим флагом в руках. Сколько раз гонялись за ним жандармы, сколько раз упрятывали его в тюрьму!.. Но никому не удавалось выхватить из его рук красный флаг. И сейчас еще, например, вспоминают ребята, как в восемнадцатом году, когда шахтеры провозгласили в нашем городке республику, папаша прошел с флагом сквозь целый кордон солдат (одни чужаки, говорят, были эти солдаты) и увлек за собой всех, кто струсил было при виде винтовок. А в двадцать первом году, после того как мы, Хоуры, пошли за Третьим Интернационалом и порвали с социал-демократами, у папаши пытались отнять флаг…
Двадцать лет этот флаг находился в нашем доме. Папаша ни за что не соглашался оставлять его в помещении союза – в трактире.
«Не место рабочему флагу в трактире, где гуляют да пьют. Под крышей дома рабочего – вот где он должен храниться», – так говорил папаша. И товарищи согласились с ним. Дома папаша специально оборудовал небольшую каморку для флага. И как оборудовал! Она была чисто убрана, побелена, на стенах висели портреты Маркса и Энгельса и еще одна картина – не помню уж чья! – изображавшая, как Свобода ведет народ на баррикады. Не знаю, поверите ли вы, но в эту каморку папаша никогда не входил в шапке. На полочках у него лежали старые газеты – «Заря», «Право», «Сентябрь», рабочие календари, брошюры, песенники. Но если, сохрани бог, мать пробовала припрятать в каморке что-нибудь из домашних вещей, тут начиналась гроза… Настоящая гроза, должен вам сказать, хотя вообще-то наш папаша – большой добряк.
И вот, представьте себе, появляются однажды двое – некий Филка и молодой Бургр, который стал чиновником в больничной кассе потому, что умел хорошо выслуживаться перед хозяевами. «Товарищ Хоура, ты порвал с социал-демократами. Наша организация послала нас за флагом…» Папаша покраснел, сжал зубы, а потом как крикнет матери: «Марьянка! Открой двери!..»
Мать, конечно, послушалась. Папаша шагнул к своим гостям, схватил каждого за воротник, пронес их через комнату, через коридор до порога – и сбросил с крыльца. Я как раз собирался идти в шахту в послеобеденную смену. Я сказал папаше: «Смотри, это может плохо кончиться. Тебе следует посоветоваться с товарищами на тот случай, если эти снова вздумают прийти к нам…» Но куда там! Папаша накричал на меня. Он, дескать, сам сумеет справиться, и пусть я держу свои разумные советы при себе.
Не следовало мне идти в тот вечер в шахту, но что поделаешь, так уж случилось…
Домой я вернулся поздно – примерял в половине одиннадцатого. И едва доработал до конца смены, все валилось из рук. Товарищи опрашивали, чем это я так расстроен, а я чуть было не рассказал им все да вовремя удержался. Подумал, что папаша сильно рассердится, если пойдут об этом разговоры, и что после полученного урока, быть может, к нему не сунутся больше за флагом. Но, подходя к дому, я понял, что стряслось что-то нехорошее. Обычно у нас укладывались спать вместе с курами, потому что вставали до рассвета (отец ту неделю работал в утренней смене), а тут вдруг в окнах свет. Я бросился бегом к крыльцу, ворвался в комнату и вижу: у стола сидит заплаканная мать, Всхлипывают сестры Аида и Марука, словно на похоронах. А папаши нет…
– Где папаша?!
Из-за слез мать так и не смогла мне ничего ответить. Лишь спустя несколько минут удалось выпросить у девушек, что случилось… Представьте себе, что эти подлецы прислали за флагом – за красным рабочим флагом… жандарма! И как раз этого рыжего Зунта, австрияка, который во время войны отнимал у наших женщин все до последнего зернышка и которого люди после переворота хотели повесить… Его; вынуждены были тогда перебросить на два года в другое место. А потом, после двадцатого года, когда кое-кто решил, что у рабочего класса уже выбиты зубы, этот милейший Зунт как ни в чем не бывало опять объявился у нас.
Да, так вот этот самый Зунт пришел к нам и – именем закона! – начал орать на папашу. Нужно сказать, что папаша вовсе не великан, но силы у него в ту пору было достаточно. Зунт понадеялся на винтовку да на закон, но не успел он взяться за ремень и прицелиться, как папаша вскочил и прыгнул… От стола к двери… Хороших три метра… Оба они упали затем на землю. Кто кого! У винтовки оторвался ремень, от плаща Зунта отлетели пуговицы, шапка его покатилась в сторону. Папаша одержал верх. Он схватил Зунта, как мешок ячменя. На этот раз он не требовал, чтобы мать открыла дверь, сам распахнул ее одним ударом ноги. И швырнул жандарма с крыльца прямо в навозную кучу. Зунт убежал без шапки. Как видно, кинулся прямо за помощью. Папаша вернулся в комнату молчаливый и только тяжело дышал. Мать принялась плакать: «Что теперь с нами будет!» Но папаша прикрикнул: «Что будет, что будет!.. Посадят меня – и больше ничего! Не в первый раз и не в последний…»
Вдруг, славно вспомнив что-то, он бросился из комнаты в каморку с флагом. Мать сквозь закрытые двери услышала, как там что-то затрещало, будто разрывали крепкую материю. Потом тяжелые шахтерские ботинки папаши протопали по лестнице, ведущей на чердак. Мать задрожала: она подумала, что папаша принял все случившееся слишком близко к сердцу и хочет теперь повеситься. Она бросилась к двери – та оказалась запертой. В отчаянии билась мать воем телом о неподатливое дерево. Но тут шахтерские ботинки опять протопали по лестнице: папаша спускался вниз. Он отпер ключом дверь: «Что ты дуришь, Марьянка!.. Думала, руки на себя наложу? Разве ты не знаешь, как сильно я люблю жизнь и как хочу дождаться вместе с вами лучших времен!..»
Только мать немного успокоилась – опять жандармы явились. На этот раз трое. Папаша, разумеется, уже не стал сопротивляться. Они наставили на него винтовки и потребовали «Именем закона выдайте флаг законным владельцам». Папаша пошел в каморку, и один из жандармов последовал за ним. Через минуту отец вынес голое древко от флага. Только около гвоздиков остались красные ниточки. «Вот вам палка, – сказал папаша жандармам. – Для ваших «законных» владельцев красный флаг не подходит. Пусть прибьют себе желтый, когда пойдут на парад».
Жандармы надели папаше наручники. Один караулил его с винтовкой в комнате, двое других перевернули вверх дном весь дом до самой крыши. Надеялись отыскать флаг. Чего только не обнаружилось в старом хламе во время этих поисков! И капканы, и проволочные ловушки для зайцев… А флага нет как нет!
На следующий день отвезли папашу в областной суд. В районе побоялись оставить: как бы шахтеры не вздумали освободить его. Еще до суда на допросах приставали к нему: «Скажите, где флаг. Это смягчит вину». Но папаша был нем, как дуб, молчал. Три раза обыскивали наш дом, но как найти иголку в копне сена? Не нашли… В конце концов папашу обвинили в краже флага и присудили к двум годам.
Дома было очень плохо. Мать не переставала плакать, меня выгнали с шахты, несмотря на протесты шахтеров. Одно время дело чуть не дошло до забастовки, но затем «пожарники» из профессиональной организации ловко все потушили. Они, разумеется, тоже признавали, что со мной поступили скверно, но доказывали, что нельзя, мол, из-за одного человека рисковать всем. И обещали: «Как только утихнет шум по поводу отца, устроим, чтобы тебя взяли обратно». Шахтеры в конце концов устали от всей этой возни и замолчали. Только несколько человек в знак протеста вышли из партии социал-демократов. На этом все и кончилось. Коммунистическая партия у нас тогда только-только разворачивала работу, да и понимания в голове у нашего брата не хватало… Грустное это было время. Я наконец устроился на поденную работу и трудился от зари до зари. Сколько часов – столько крон…
Через два года папаша вернулся домой – желтый, худой, состарившийся. Я сильно боялся за него. Он первые дни почти не разговаривал: отвык, видимо, там, в тюрьме. И только в лесу, куда начал ходить со мной, становился таким, каким мы его знали раньше. Однажды мы возвращаемся вечером с работы, и вдруг папаша говорит: «Йозеф, ты, наверно, считаешь, что я глупостей натворил тогда с этим флагом?» «Что вы, папаша, – отвечаю ему. – Да я и сам поступил бы так же…» «Нет, подожди, не спеши… Я об этом много думал в тюрьме… И мне вот что кажется: настоящую глупость мы сделали раньше… Тогда, в восемнадцатом году, мы должны были идти до конца, как Россия. Все сложилось бы по-иному. История с флагом – результат нашей тогдашней глупости».
На этом разговор и закончился. Но как-то в воскресенье, кажется в июне, женщины наши ушли в лес, а мы с папашей вдвоем остались дома. Солнце склонялось к западу, красное, как кровь. Полнеба полыхало пожаром, честное слово! Как будто бы там, за горами, стоял великан-знаменосец и поднимал над страной красный рабочий флаг. Я смотрел на небо и думал: «Сколько крови еще прольется, прежде чем завоюет наш рабочий класс новую жизнь на земле…» Возможно, что и у папаши были такие же мысли. Он вдруг встал, на несколько минут вышел из комнаты и вернулся… с красным флагом. С тем самым, который носил двадцать лет и за который отсидел два года в тюрьме. Кто его знает, где он его спрятал, – этого он не сказал мне и по сей день. Он разостлал старый шелк на столе и указал на золотую надпись: «Через просвещение – к свободе!»
«Как ты думаешь, Йозеф, это ведь уже не наш флаг!»– спросил он, как будто ища у меня объяснений. Я засмеялся, но в горле у меня почему-то остановился комок. А папаша продолжал: «Через просвещение, через просвещение… И через тысячу лет мы не придем к свободе этим путем! Ты сам видишь, Йозеф, как обстоят сейчас дела. Погляди-ка, кто ходит у нас в министрах. А свобода… свобода осталась там же, где и была, – у господ. Нет, для нашего флага годится только один лозунг – «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
И вот, когда я задумываюсь сейчас над прошлым, над тем, как мы с папашей стали настоящими коммунистами, я всякий раз вспоминаю этот июньский вечер. Да, потом мы нашли верный путь… Но тут уж начинается совсем другая история, а ведь я хотел рассказать вам только о флате.
В годы войны мы были разлучены с папашей: он находился в концлагере в Бухенвальде, а я в Саксенгаузене. Что ж, мы выдержали и это… Выдержали благодаря нашим крепким хоуровским корням. А потом, в 1946 году, мы впервые в жизни свободно славили победный Май… И к папаше пришли товарищи: «Товарищ Хоура! Наш районный комитет партии решил, что именно ты, старый боец рабочего класса, должен нести знамя на первомайской демонстрации».
Не впервые оказывали такую честь папаше. Не раз на торжественных собраниях занимал он место в президиуме, приветствовал от имени шахтеров товарищей из Центрального комитета, выступал на митингах. И все таки никогда еще не был он так счастлив, как в это первомайское утро! И как ему было не радоваться!.. На всех копрах козьегорских шахт горели алые звезды, на всех трубах развевались наши победные флаги.
Папаша не спал всю ночь. Он ходил по комнате, бормотал что-то себе в усы. То повторял несколько тактов старых рабочих песен, которые пелись сорок лет тому назад, то задумывался. Поздно ночью Барча, моя жена, сказала ему: «Вам нужно отдохнуть, папаша. Вспомните, что вам уже семьдесят два года, а завтра предстоит не легкий день…» – «Какие там семьдесят два года! – Папаша обиделся так, словно ему прибавили, по крайней мере, лет двадцать. Но потом засмеялся и махнул рукой. – Ну тебя! Все вы, женщины, одинаковы. Вот и моя Марьянка такая же…»
Ведь вы знаете, что я не слабонервный. Но когда утром наш старик выступил во главе демонстрации с новым большим флагом в руках, ярко-красным, как живая кровь, на высоком бамбуковом древке, и майский ветерок заиграл алым шелком, глаза у меня стали мокрыми. Я так ясно представил себе, какими они были эти пятьдесят отцовских лет в рядах рабочего класса… Пожалуй, мы не всегда отдаем себе полностью отчет в том, какое великое дело совершили для нас советские товарищи в сорок пятом году. И сколько дорогой крови – их крови и нашей – пролилось, прежде чем мы дождались нынешнего дня…
И вот что я еще скажу вам: когда весной я иду на свою шахту в первую смену, часов в пять утра, я подолгу смотрю на алую зарю на востоке. И мне кажется: далеко-далеко за реками стоит великан-знаменосец, высоко поднимая древко нашего священного рабочего знамени. Все ярче и ярче разгорается красный свет, и вот уже он горит, пламенеет над половиной мира. Придет время – он будет гореть над всем миром! Я думаю об этом, и такая радость охватывает меня, что отбойный молоток так и поет в моих руках.








