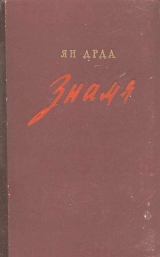
Текст книги "Знамя (Рассказы и повести)"
Автор книги: Ян Дрда
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
И смотрите, ведь у них ничего не вышло. Товарищи одолжили мне коров, Гонза Каван приехал даже с плугом, и в сорок седьмом году, несмотря на засуху, мы обработали мое поле так, что оно было чистое, как ладонь. Кулаки, конечно, пытались еще кое-что мне подстроить: какой-то негодяй набросал мне проволоки в скошенный клевер, чтобы погубить мою последнюю коровенку, я получал письма, в которых мне грозили пустить «красного петуха» под крышу, а однажды ночью, когда я разбирался в служебных документах, кто-то швырнул камень в окно. Но наши прочно стояли рядом со мной, и это меня поддерживало.
Зато над Грубым из-за его прославленной пшеницы разразилась в конце концов ужасная гроза.
В январе сорок восьмого года пришел ко мне один печник из Закравья. Он хотя и не был коммунистом, но оказался честным человеком. Он и говорит:
– Председатель, я знаю, что Грубый не сдал даже и центнера в счет поставок… Вчера я был у них в доме, промазывал трубу. Не знаю, почему они позвали меня, когда у вас в Вишневой есть свои печники. Должно быть, он думал, что человек из другой деревни ничего не заметит. Но мне на его чердаке кое-что не понравилось: передняя стена там метра на два ближе к трубе, чем это кажется снаружи…
Мы организовали комиссию, выломали киркой несколько кирпичей и попали прямо в нору хомяка. Грубый спрятал больше ста мешков пшеницы – добрых пятьдесят центнеров. Он лишал чешских детей хлеба только ради того, чтобы был корм для его свиней.
У этих живоглотов всегда так бывало: человек для них – «ближний», но собственные свиньи еще ближе.
Когда мы увозили найденное зерно, он бесновался от злости, кричал нам вслед на всю деревню:
– Погодите, все равно скоро передохнете! Скоро вам конец придет!
Зять у него был каким-то главарем у зенкловцев, и Грубый был уверен, что тот непременно выручит его из беды.
Но прежде чем кулаки успели придумать какую-нибудь грязную увертку, над ними разразилась февральская гроза.
3
Что было после этого, вы знаете. Впрочем, мы переживаем это все вместе; иной раз голова чуть не разламывается от навалившихся забот. Но наши внуки все-таки когда-нибудь позавидуют нам, что мы жили в эти великие времена. Я с таким удовольствием читаю в «Истории» Палацкого о Яне Жижке, о гуситах, перед цепом которых трепетала вся Европа, а также о короле Иржике, о том, как он правил Чехией. И я представляю себе, что будет время, когда какой-нибудь новый Палацкий напишет о нашем Клементе Готвальде, как он сумел по-гуситски поставить господ на место, а также, как он сумел быть в своей стране хозяином лучше, чем все короли вместе взятые.
Ничего я так не желал бы, как встать через сто лет на недельку из могилы, посмотреть на нашу прекрасную Чехию и прочесть странички «Истории», которую напишут о нашем времени на радость и в назидание потомкам.
Я, однако, должен досказать о «Красной Тортизе». Дело было летом сорок девятого года, когда я передал председательство в местном национальном комитете Тонику Копичке, а на себя взял заботы о нашем едином сельскохозяйственном кооперативе. Вдруг за мной приезжают товарищи из округа.
– Послушай, Ветровец, что ты скажешь, если мы пошлем тебя в Советский Союз? Не надолго, на три-четыре недели, чтобы ты немного присмотрелся к советской жизни и привез нам побольше нового. Наш округ может послать одного делегата.
У меня в ту минуту в горле пересохло, и я не мог сперва вымолвить ни одного словечка. Неужели из стольких сотен тысяч наших людей, которые отдали бы часть жизни только за то, чтобы постоять на советской земле, выбрали именно меня?
Но это была правда. Я стал членом крестьянской делегации, увидел собственными глазами новый мир, где человек давно перестал быть человеку волком, увидел Москву, был в Кремле, стоял перед гробом Ленина, смотрел на его лицо. Я был даже там, где на счастье всего мира родился товарищ Сталин.
Грузия… Не могу даже рассказать, какая это чудесная страна! Когда мы летели туда, – это был солнечный октябрьский день, небо, как синька, – я сидел у левого окошечка, совсем впереди, так что через крыло мне было видно все, как на ладони. Вдруг я заметил внизу огромное белое кружево, а за ним бледно-голубое поле, как будто усеянное незабудками.
– Море, море! – говорю я товарищам, и все бросаются ко мне.
А Кадлец из Остржи, который сидел как раз напротив меня, только справа, вдруг вскочили кричит:
– Горы, горы! – А сам чуть стекло лбом не выдавил.
Перед нами громоздятся страшные обрывистые скалы Кавказа, высокие, до самого неба горы, такие огромные, что и не знаю, с чем их сравнить. На их вершинах блестящий под солнцем вечный снег. Он горит, пылает белым пламенем, точно какой-то сказочный клад. А под нами тишина и спокойствие, только на поверхности Каспийского моря видны крохотные пароходики и за ними тянутся белые клочки ваты. Даже не верится, что это дым… Глубоко внизу под нами над побережьем кружатся небольшие птички.
– Смотрите-ка, там внизу ласточки! – кричит кто-то.
– Ласточки? Нет, это орлы! – говорит сопровождающий нас переводчик, и глаза его полны радости. Ему нравится, что нас так удивляет красота Кавказа.
Но сильнее всего у меня забилось сердце, когда мы стояли на пороге комнатки, где родился товарищ Сталин. Гори… это совсем маленький городок в горах, весь в зелени яблонь и виноградников, а над ним, как сумрачная известковая гора, высится древняя многобашенная крепость, которой, говорят, сейчас около полуторы тысяч лет. И недалеко от крепости – тихий квартал, в котором стоит старый домик из необожженных кирпичей; в нем всего две комнаты, коридорчик, а под домом – небольшой подвал.
В комнате побольше жил хозяин дома, а маленькую занимал молодой сапожник Виссарион Джугашвили со своей умной и красивой женой Екатериной, дочерью крепостного крестьянина из села Гамбареули. Я все это записал, до последнего словечка, как об этом нам рассказали.
Виссарион был, говорят, искусным мастером: он шил высокие сапоги из мягкого сафьяна, обувь девушкам и мужчинам. Екатерина, или Кеке, – говорят, так ее звали дома, – умела прекрасно прясть и ткать, так хорошо пекла хлебы, что все соседки хвалили ее, умела шить платье и белье и вообще, говорят, была редкой хозяйкой.
Когда Кеке было двадцать три года, у нее родился сын Иосиф, которого она ласково называла Сосо. Тогда, говорят, по городу ходила заразная болезнь, которая внезапно сваливала даже сильных взрослых людей. Маленький Сосо тоже тяжело заболел. А доктора, разумеется, не было и в помине.
Но на счастье матерям и детям всего мира, мальчик выжил, вырос и стал товарищем Сталиным – самым близким другом всех бедняков и униженных, великим учителем всех народов, нашей любовью и надеждой…
Я низко поклонился этому скромному месту, откуда для нас взошло солнце.
Побывали мы также на берегу реки Куры, в которой, говорят, маленький Сосо ловил рыбу. Он был, как рассказывают, самым способным из всех мальчиков в школе, но и в мальчишеских играх тоже был первым. Бегал быстрее всех, лучше всех умел попасть в цель камнем к копьем, всегда был вожаком мальчиков. При разделении в играх на партии та, в которой был Сосо, всегда выигрывала не только ловкостью и отвагой, но и смекалкой своего вожака. Играли, говорят, часто в «ястреба и цыплят», впрочем, и мы в детстве так играли! Когда Сосо изображал наседку, – ястребу, даже если и был он на голову выше Сосо, никогда не удавалось утащить ни одного цыпленка.
Там, где река Лиахви сливается с рекой Курой, мальчики видали плоские камешки и считали, сколько раз отскочит камешек рикошетом от воды. И тут Сосо был искусником из искусников.
А если ему надоедали игры, он бежал далеко вверх по течению реки Куры, бурной, полной водоворотов и коварных подводных камней. С криком и смехом прыгал он в поток и по нескольку раз переплывал реку, пока его сверстники барахтались на отмелях. Я поднял на берегу три белых, обточенных речными волнами камешка и завязал в носовой платок на память.
Видели мы и школьные свидетельства маленького Сосо: отличные отметки по грузинскому и русскому языкам и по другим предметам.
Юный Сталин был страстным и пытливым читателем. На одной из горийских уличек, в подвале, был небольшой книжный магазин. Разумеется, его не посещали богачи, но зато здесь тайно собирались простые люди и читали книжки о страданиях бедных крестьян. По этим книжкам Сосо учился любить свою родину и ненавидеть угнетателей.
Так мы ходили по этим местам, с уважением смотрели на каждого старика: этот, может быть, был товарищем его детских игр; тот, может быть, ходил с ним в школу. И старики улыбались нам большими черными глазами, когда мы снимали перед ними шляпы. Нам казалось, что товарищ Сталин ходит где-то рядом, мы можем в любую минуту встретить его среди клумб с розами или на лужайке, в тени косматых темных орехов, где маленькие глазастые пионерки с черными косичками пели грузинскую песенку «Сулико»…
Глаза наших женщин излучали яркий свет, то и дело какая-нибудь из них тайком срывала цветочек на память для своих детей; они не щебетали, а только шептались между собой, вздыхая: «Если бы тут был наш отец… если бы все это могли видеть дети…»
4
Когда мы возвращались в Тбилиси, на сердце у нас был праздник. Женщины на радостях пели одну за другой песни – чешские, моравские, словацкие. Мужчины разговорились. Каждый считал, что именно он увидел в Гори решительно все.
Но мог ли я думать, что в этот день мне предстоит еще и неожиданная встреча?
Едем мы этак с час, и тут нас стал обгонять грузовой автомобиль, по-русски грузовик. Известно, какой народ шоферы: как только грузовик обогнал нас, водитель нашего автобуса выругался, стиснул зубы, прибавил газу, и метр за метром стал догонять невежу, который позволил себе пылить нам в глаза. И не успели мы оглянуться, как шофер грузовика, в свою очередь, начал отвоевывать право быть впереди нас.
Я сидел у окошечка позади шофера, и мне вздумалось посмотреть на упрямца, вообразившего, что мы должны ехать сзади.
И вдруг я увидел за стеклом черноволосую голову юноши – того, с кем четыре года назад мне так грустно было расставаться.
Я испугался: не привиделось ли мне это? Не померещилось ли от жары?..
Но нет! Это был Гога! Живой, настоящий Гога!
Я вскочил с сиденья как ужаленный, но грузовик опять был впереди нас, и я напрасно махал и стучал рукой в стекло. Сердце у меня забилось, дыханье сперло. Я бросился к водителю и на ломаном русском языке стал умолять ехать скорей, чтобы догнать грузовик, потому что в нем находится мой старый друг!
Упустить Гогу, чтобы, вероятно, никогда в жизни уже не встретиться! Я упрекал бы себя до самой смерти, что упустил такой случай.
– Что? Друг? Какой друг? – недоверчиво посмотрел на меня шофер.
– Советская Армия! – кричу я ему в ухо, боясь, что он не поймет. – Он Прагу освободил, понимаешь?!
– Знаю, знаю, – улыбнулся мне шофер, пригнулся к баранке, как хищник, готовый к прыжку, дал полный газ и на коротком прямом отрезке дороги между двумя поворотами мы стрелой пролетели мимо грузовика. Тут я наполовину высунулся из окна:
– Гога! Гога!
И вот мы держим друг друга в объятиях!
Целуемся, как братья, заглядываем друг другу в глаза, не можем насмотреться. Я растроган, и глаза мои слегка затуманились, а Гога смеется озорными черными глазищами:
– Ну, ничего, Иосиф! Я же сказал тебе, что мы увидимся в «Красной Тортизе»!
Наши только глаза таращат. Гога одним махом хватает меня, как ястреб хватает цыпленка из стаи, и увлекает к своему грузовику. В эту минуту я, как мальчишка, совсем одурел от радости. Забыв о нашем маршруте, обо всем вокруг, я думал лишь о «Красной Тортизе». Но нашего переводчика не так-то легко было сбить с толку. И надо сказать, что я в жизни, пожалуй, не слышал такого сочного и бурного спора, какой завязался, когда Гога убеждал нашего товарища-переводчика, что «Красная Тортиза»: – это самое замечательное место на Кавказе и чехословаки должны там побывать во что бы то ни стало!
После того как Гога настоял на своем и было решено, что мы заглянем на часок-другой в «Красную Тортизу», он все еще хмурился и не верил: он был готов привязать автобус проволочным тросом к своему грузовику, чтобы нам не вздумалось отстать где-нибудь но дороге…
Мы сворачиваем с шоссе и едем по широкому мелкому броду через речку, где маленькие рыбки в зеленоватой воде поблескивают, как серебряные сабельки; потом попадаем на травянистую дорогу, которая ведет через виноградники прямо вверх, к снежным шапкам юр, и вдруг в зеленом руне деревьев видим белеющую деревню. Стадо щетинистых свиней с длинными рылами визжит и хрюкает в знак приветствия, гогочут гуси точно так же, как у нас дома, когда мы возвращаемся с поля… Моя «Тортиза», моя мечта – перед нами!
Колени у меня слегка тряслись, когда я ступил на зеленую деревенскую площадь. Эго от радости, а отчасти и от боязни, что нас плохо примут, если мы неожиданно нагрянем к колхозникам во время работы. Найдут ли они для нас свободную минуту?..
Но не успел я обо всем этом подумать, как на громкий крик Гоги из дома правления колхоза выбежал высокий человек с черными усами, в широченных подвернутых штанах и в белой вышитой рубашке. Он бросился ко мне и крепко поцеловал два раза, уколов усами. Это был отец Гоги. Его зовут Ираклий Чачвадзе, он председатель колхоза «Красная Тортиза». Ираклий – это, говорят, то же самое, что по-нашему Геркулес, и председатель, видать, стоил своего имени. Обнимая меня, он чуть не поломал мне все ребра.
– О вас, Иосиф Иосифович, я уже давно знаю, – говорит он. – Гога мне все рассказал… Ну, спасибо вам, спасибо, что вы его, как сына, принимали…
Я хочу сказать в ответ, что мы бы должны его благодарить за то, что послал к нам такого сына-героя. Мы всем советским людям обязаны. Но слова вдруг прилипают у меня к языку, я могу выжать из себя только «хорошо» и «спасибо». И так, ни слова не говоря, что-то только бормоча про себя, мы обнимаемся, похлопываем друг друга… И мне вдруг начинает казаться, что мы старые-престарые друзья, которые долго не могли дождаться встречи.
– А как у вас? Переделываете жизнь или все еще по-старому?
– Переделываем, товарищ Чачвадзе. Именно потому и приехали к вам в СССР учиться!
– Ну, покажу, с удовольствием покажу наши скромные дела! – улыбается председатель.
На дворе сентябрь, пшеница уже давно убрана, золотые початки кукурузы висят вокруг белых домиков, но зато в виноградниках, расположенных поблизости, звенит смех, и среди густой зелени иногда, как серны, пробегают девушки… Мелькнет перед глазами светлое пятнышко платья, послышится обрывок песенки – почти птичья трель, – заметишь девичью руку…
Мы идем к виноградникам по тропинкам, заросшим травой. Ираклий Чачвадзе твердо, по-солдатски, шагает впереди. Женщинам смешно, что у него на голове вместо шапки накручено что-то шерстяное, черное, напоминающее женский платок, – «башлык», как здесь это называют. К вашему сведению, он оберегает шею от жгучего солнца.
И вот мы уже на винограднике. Председатель загорелой рукой приподнимает темно-фиолетовую огромную гроздь, и по пальцам у него стекает сок из лопающихся, перезрелых виноградин.
– Когда мы начинали в тридцатом году, во всей «Тортизе» не было ни одной виноградной лозы. Мы руками вытаскивали камни из земли, у нас не хватало даже самых простых орудий для этого. Мы сносили камни в одну кучу, высокую, как курган. «Носите, носите, – издевались над нами кулаки, – вот вам и колхозный хлеб будет». За одну ночь они выдергали у нас целый гектар саженцев. Нам пришлось с оружием в руках охранять колхозные посадки…
Не успел он досказать, как по тропинкам, вьющимся между зелеными рядами лоз, к нам подбежала стайка черноволосых красавиц. Женатому человеку ни к чему очень-то заглядываться на девушек, но я думаю, что всех может радовать красота, созданная природой. А в Грузии, поверьте мне, даже не очень красивые девушки – и те красавицы. Лоб широк и чист, как небо, брови черные и густые, как грозовая туча, а глаза под ними, как молнии, но они сверкают весельем, предвещая погожий день.
Уже каждому из нас сунули в руки по огромнейшей грозди. Виноградины – величиной с нашу сливу и слегка обрызганы росой. Двадцать лет назад матери сажали эти лозы, теперь дочери весело убирают урожай.
Начинается общий разговор с нашими женщинами: бог весть, как они друг друга так быстро поняли! Ловкими пальцами девушки показывают, как нужно срезать грозди, тут же суют нашим женщинам ножи, чтобы те попробовали сделать то же самое, прямо в рот кладут самые лучшие и самые спелые виноградины.
Но я смотрю не только на виноград.
Отсюда, с холма, отлично видна равнина вокруг «Тортизы»: обширные светло-коричневые колхозные пашни, каких у нас не бывало ни в одной, даже самой большой помещичьей усадьбе. На них была тортизская пшеница и кукуруза. Яркая зелень, которая тянется далеко-далеко, говорит о будущем урожае сахарной свеклы. Разве не жалки, как подумаешь, наши клочки земли, узкие, как ленточки, полоски, на которых негде повернуться с упряжкой, до того они малы?
– Сколько же у вас посеяно сахарной свеклы? – не удержался я от любопытства.
– Ну, сколько? – подергивает себя председатель за черный ус. – Сто шесть гектаров. Отлично чай себе подсластим, Иосиф Иосифович…
– А какова урожайность на гектар?
– В этом году ждем не меньше пятисот центнеров, – улыбается Ираклий Чачвадзе.
И подумал, что либо ослышался, либо же их центнер – что-то другое, не наш «метрак», но Ираклий мне доказывает, что это те же самые сто килограммов, никак не меньше. И когда я качаю головой, он хитро посмеивается:
– Мало, Иосиф Иосифович? Ну, так поговорим с нашим бригадиром Назико Махарадзе – у нее на полях урожай был еще лучше! Эй, Назико, только не стесняйся! Восьмисот центнеров с гектара стесняться нечего!..
Из толпы девушек вышла – или, вернее, ее почти вытолкнули вперед подружки – такая красавица, что сердце у меня прямо зашлось. Словно бригадиров выбирают за красоту: смоляные, иссиня-черные косы до колен, а на смуглом лице блестят светло-голубые, как незабудки, глаза. Стан величественный, стройный, походка, будто у королевы во время танца.
– Ну что же, – с улыбкой протянула мне руку Назико, – на восьмистах пятидесяти мы не остановимся, Иосиф Иосифович. Это недостаточно круглое число…
– Смотри какая! – рассмеялся председатель. – Она ни за что, в жизни не успокоится на малом. Кто знает, как высоко метит наша красавица!..
Назико нахмурилась, словно тучка на солнышко набежала:
– Будто ты не знаешь?.. Мы ведь обещали товарищу Сталину дать тысячу центнеров… И будет тысяча! Мы свое девичье слово не нарушим! Правда, девушки?
– Будет, будет! – зажужжали девушки, как пчелки в улье, и, внезапно подхватив наших женщин, закружились с ними в танце прямо здесь же, на винограднике.
Все было похоже на сказку. Только принцесса Назико говорила не о самоцветах на стеклянной горе, не о жемчугах на морском дне, а о двадцати тысячах центнеров сахарной свеклы, которые Назико со своей девичьей дружиной убирает с двадцати гектаров, отданных на ее попечение.
– А вообще, разве это возможно, Назико? – спрашиваю я.
– Возможно? Разве есть что-либо невозможное для советских людей? А разве мы сейчас так уж хорошо работаем? Лучше разве нельзя работать? Нет, мы работаем не так хорошо, Иосиф Иосифович, есть еще многое, что мы можем улучшить. Мы должны еще больше учиться, набраться еще больше выдержки, еще подробнее разузнать все тайны свеклы, начиная от прорастания и кончая уборкой. Свекла – это не ребенок, она не станет Кричать, если ей захочется пить или если ее пора подкормить. Все это нужно угадать самому, понять ее желания и воспитывать ее так, чтобы она повышала свои требования! Научившись принимать больше питательных веществ, она и человеку будет давать больше. Наша свекла растет не голодая… Как же, ведь у нас и растения получают полную тарелку пищи! А когда свекла получит всего досыта, она даст тысячу центнеров! Я это знаю: непременно даст!
Девушка разгорячилась во время своей речи, и, несмотря на ее смуглую кожу, было видно, как она вспыхнула от волнения. Эта Назико не дает, видно, спуску природе, она не рабыня, а ее воинственная владычица.
Наши женщины смотрели на девушку, как на чудо, обступив тесным кругом. Каждой хотелось хотя бы коснуться руки Назико. Я понимал: она, эта хрупкая девушка, подняла их женскую гордость, согрела их сердца своим мужеством.
И тут женский рой зажужжал еще громче, как пчелы в июле на цветущей липе. Наших женщин очень волновал вопрос о заработках девушек. Правда ли, что они копят деньги на приданое?.. Ну да вы знаете женщин!
Девушки рассказали и об этом. На один трудодень они получают, кроме десяти рублей деньгами, капусту, мясо, четверть кило сахару… Ну, слава богу, матери не придется бранить сынишку, если он вытащит из сахарницы лишний кусок!
– А как же учитывается труд? – не унимаются наши.
Я сам рассказал им, что такое трудодень. А девчата разъяснили, как в зависимости от сложности работы возрастает количество трудодней. За день, оказывается, можно выработать три-четыре трудодня. И тут же говорят, кто из них сколько выработал.
Вот эти три сестры Цицишвили – Тамара, София и Паша – все вместе заработали в прошлом году полторы тысячи трудодней.
– Чорт возьми, ведь вот сколько накопилось бы на приданое, Бартошова! – весело кричат наши мужчины бедной крестьянке из Вршетиц, которая говорила, что дома у нее осталось пять девочек-погодков.
Но Бартошовой не до шуток; она задумчиво слюнит карандаш, быстро пишет что-то в блокноте и спрашивает с серьезным видом:
– А сахару сколько?
– Сахару? – улыбается ей самая старшая сестра Цицишвили, Тамара. – Ну, за сахар нас отец тоже похвалил.
– Господи Исусе! – восклицает Бартошова. – Куда же вам столько сахару?
– А вот куда! – смеется Тамара, лезет в карман, вынимает завернутый в виноградные листья большой сладкий комок из орехов, винограда и инжира и дает попробовать Бартошовой. Не скупятся и остальные девушки – все вытаскивают из карманов лакомства… Ну, теперь наши жужжалки попали на свой мед.
И тут я подумал о наших девчатах в Вишневой, как за восемьдесят крон в день они от восхода до захода солнца гнут спину на кулака. А какое-нибудь лакомство перепадает им раз в год, во время храмового праздника.
И я думаю, что все женщины, которые были б нашей делегации, вздохнули, вспомнив о годах бесплодного, изнурительного труда. Сколько усилий должна была потратить в молодости каждая из них, чтобы раз в год купить себе фартук!..
* * *
Два часа, о которых Гога договорился с нашим переводчиком, давно уже прошли, когда мы вернулись с виноградника и с поля в «Красную Тортизу». Мне было только странно; что Гога куда-то запропал. Я нигде не видел его все это время. Как вдруг… смотрим, он шагает нам навстречу по площади – и какой нарядный! Мягкие высокие сапожки – хоть сейчас танцуй! Черный кафтан в талию – «бешмет», как говорят грузины; на груди поблескивают серебром патроны, а на курчавой голове – барашковая шапка с алым донышком. Лицо только что выбрито…
– Прости, Иосиф, – говорит Гога, – простите, дорогие гости, я должен был переодеться и побриться ради такого необыкновенного случая!
Но он, этакая шельма, и словом не обмолвился о том, что за это время успел зарезать и выпотрошить баранчика, чтобы показать нам гостеприимство советских людей! А сколько кур и индюков лишилось жизни за эти два часа, об этом мы узнали значительно позднее.
Гостеприимство… Ох, и трудное это для гостей дело! Нужно иметь здоровый деревенский желудок, чтобы осилить горы мяса, яиц, рыбы, сметаны, капусты, меду – всего, чем нас всюду потчевали. И отказаться не смеешь: нанесешь жестокое оскорбление.
Наш переводчик все же предпринял еще одну безнадежную попытку погрузить нас в автобус, чтобы выполнить программу дня. Но тут Ираклий Чачвадзе так на него взглянул, как будто хотел проглотить, и, не переводя духа, произнес по-грузински очень длинную и очень решительную фразу… Я полагаю, что это была самая страшная угроза, потому что после этого наш переводчик сразу размяк, как воск, и сам прикрыл дверцы пустого автобуса. Отвергать гостеприимство – значит сильно огорчить хозяина. А если хозяин – грузин, это еще сложнее. Гога давно рассказывал мне об этом, и потому я предупредил наших:
– Не смейте отказываться!
И меня послушались.
Я не слышал местного радио в «Тортизе», но известие о приезде гостей из Чехословакии разнеслось по селу с быстротой ветра. Толпы людей: старики в широких штанах-шароварах, с башлыками на головах, мужчины в рубашках и бешметах, женщины, молодежь – все приветствовали нас на площади, когда Ираклий, как настоящий хозяин, показывал нам коровники и свинарники, красивый белый дом правления колхоза, где занимаются делами председатель, агроном, зоотехник, колхозный ветеринар и счетовод. Потом мы увидели двухэтажную школу с солнечными просторными классами, родильный дом, где за белоснежными тюлевыми занавесками пищали малыши, колхозную больницу, клуб с читальней и библиотекой, а главное, самую большую гордость хозяев – двухэтажный Дом сельскохозяйственной культуры.
– О Трофиме Денисовиче ты уже слыхал, старик? – спросил меня Ираклий, едва я успел переступить порог.
Это был довольно-таки трудный вопрос, но я сразу догадался, что имеется в виду академик Лысенко, портрет которого рядом с портретом Мичурина висел в большой комнате напротив портретов Ленина и Сталина.
– Ясная, хорошая голова у нашего Трофима Денисовича! Взгляни на его работу! – Ираклий взял с рабочего стола и протянул мне пучок пшеницы. – Настоящее чудо света. Из одного стебля выходит не один колосок, а сразу вместе четыре-пять, как пальцы на ладони!.. Ну вот, – дружески улыбается Ираклий. – Пробуем и мы выращивать пшеничку, с Трофимом Денисовичем сотрудничаем. Такой уж он человек: не нянчится за печкой с цветочным горшком. Засейте, говорит, гектаров двадцать, товарищи, тогда это будет настоящий опыт! И придет время… – Ираклий притянул меня к себе за локоть и доверительно продолжал: – Придет время, когда мы засеем все колхозные поля этой самой ветвистой пшеницей! Вырастим столько хлеба, что все советские люди будут получать его бесплатно, как воздух! Ну, а что же такое это будет, Иосиф Иосифович?
– Чудо… – отвечаю я.
Но Ираклий смеется тому, что поймал меня.
– Коммунизм, Иосиф Иосифович. Коммунизм, вот что это будет!
* * *
Когда мы вышли из дома, где колхозники разгадывают под микроскопом тайны природы, где Назико неутомимо проводит опыт за опытом, изучая всхожесть семян сахарной свеклы, чтобы сдержать слово, данное товарищу Сталину, нам казалось, что мы выпили какого-то хмельного вина.
– У меня даже голова закружилась, – вздохнула мамаша Бартошова. – Чему только эти коммунисты не научили деревенского человека! Ведь и не мужики это вовсе, а, честное слово, профессора какие-то! Вот если бы когда-нибудь наши девушки… – Она не договорила, но все мы сразу поняли, как захотелось ей, чтобы и у нее дома росла такая вот счастливая Назико.
– Так и будет, мамаша, – взял я ее за руку. – Хотя бы эта ваша Марженка…
– Нет, у Марженки ветер в голове, – сказала Бартошова задумчиво. – А вот Ружа, наша Ружа, у этого ребенка прямо золотая голова!
И в эту минуту я увидел по лицам всех наших женщин, каким счастливым представляют они себе будущее своих детей, как «Красная Тортиза» открыла им не только глаза, но и сердца. А если женское сердце загорится чем-нибудь, не скоро оно остынет и угаснет!
Навстречу нам на площадь выбежала веселая толпа уже знакомых нам девушек, вернувшихся с виноградника в село. Они окружили нас плотным кольцом, каждая подхватила одну из наших женщин и тут же потащила к себе домой – показать свое хозяйство. Ираклию Чачвадзе пришлось капитулировать:
– Женщины и есть женщины! От них сам чорт не спасется…
И он дал нам всем полчаса, чтобы мы на свободе могли познакомиться с «Тортизой». Затем он пригласил всех нас, а вместе с нами, вероятно, и всю «Тортизу» к себе в гости.
Как вам уже известно, я люблю сад. И я сразу же решил пройтись по тортизским садам, где деревья гнулись до самой земли под тяжестью яблок, айвы, груш и других совершенно незнакомых мне плодов. Я сейчас же наткнулся на прекрасный сад, открыл калитку и направился посмотреть деревья. Но едва только я очутился в ограде, как появились хозяин и хозяйка. Хозяин нес два стула, а хозяйка – миску с вареной курицей и другую – с каким-то светлым густым соусом.
– Милости просим, – сразу же сказали хозяева, приглашая меня отведать курицы.
Я отломил куриную ножку, окунул ее поглубже в соус… и чуть язык не проглотил, попробовав. Конечно, я сейчас же спросил у хозяйки, как делают этот соус, и привез Андулке рецепт. Возьмите орехи, истолките ядра в ступке и затем добавьте туда, ну, только не пугайтесь, чесноку! Как кто любит: побольше или поменьше. Этот чеснок вместе с орехами приобретает совершенно новый, незнакомый, но вместе с тем превосходный вкус. А потом, сказала мне хозяйка, эту кашицу из орехов и чеснока надо развести густыми сливками, и грузинский соус сациви готов!
Но я рассказываю здесь о соусе, а между тем меня ожидало и что-то другое. Только я успел обгрызть куриную ножку, снова появился хозяин. Он держал в охапке пестрый козий мех – так называемый бурдюк – с горлышком наверху и медной затычкой. В каждой руке у него было по бычьему рогу, окованному серебром.
Я помнил наставление Гоги, что нельзя отказываться от угощения, и взял один рог. Такого вина я не только не пил, но и не видал никогда: темно-красное, почти фиолетовое, густое, как масло, и при этом ароматное, как наш тимьян. Вот оно льется, булькая, из бурдюка в рог, до самого верха, до самого серебряного края…
Себя хозяин тоже не забыл.
– За Сталина! – произносит он. – Гаумарджос![42]42
Да здравствует! (груз.)
[Закрыть]
Я собрался было рассказать ему, как у нас любят товарища Сталина, как мы ему благодарны за свою жизнь и свободу, но не нашел подходящих слов. И потому просто чокнулся от всего сердца и с благоговением выпил вино этого чудесного края.
Не бойтесь, я не посрамил чехов. Мы выпили с хозяином все, до дна, я и капельки не оставил, потому что мы оба знали, за какого дорогого человека пьем.
Но только я перевернул свой рог, чтобы показать, что он пуст, как хозяин снова поспешно открыл бурдюк.
– Нет, извините, – отказался я, – не привык, не могу!
Это была, братцы, ошибка! Как сердито посмотрел на меня хозяин, нахмурил брови, как будто я в чем-то провинился!
– Как, и за вашего Готвальда не выпьем?
Я даже покраснел от радости: колхозники в Грузии знают нашего товарища Готвальда и любят его! Ну мог ли я отказаться? Какой чех не пожелал бы товарищу Готвальду здоровья и счастья!..








