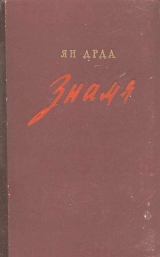
Текст книги "Знамя (Рассказы и повести)"
Автор книги: Ян Дрда
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц)
Ян Дрда
Знамя
Борис Всеволодов
Предисловие
Ян Дрда – видный писатель народно-демократической Чехословакии, общественный деятель и публицист. В своих новеллах, рассказах, пьесах он создал галерею образов простых людей, мужественно боровшихся с врагом в годы фашистской оккупации, отстоявших в феврале 1948 года завоеванную свободу, строящих ныне новую, социалистическую жизнь.
Уже первый роман Яна Дрды «Поселок на ладони», написанный в 1940 году, свидетельствовал о том, что жизнь простых людей, их заботы и чаяния представляют для начинающего писателя наибольший интерес, что они в конечном итоге составят основное содержание его творчества.
Острая наблюдательность, богатство изобразительных средств в обрисовке характеров и ситуаций, отличавшие этот роман, выдвинули Яна Дрду в первые ряды писателей Чехословакии.
В 1946 году Ян Дрда опубликовал цикл новелл «Немая баррикада». Шесть лет, отделявших издание этой книги от первого произведения писателя, были годами великих исторических испытаний для всех свободолюбивых народов, в том числе и для народов Чехословакии, боровшихся за свою свободу и национальную независимость.
Цикл новелл «Немая баррикада» – живое свидетельство о днях этой борьбы, о днях сопротивления, это яркие страницы, запечатлевшие братскую помощь советского народа порабощенным народам Европы.
Знакомясь с новеллами, читатель, разумеется, не найдет в них подробной летописи событий. Писателя больше интересует внутренний мир своих героев, их моральная стойкость и мужество, проявленные в борьбе с ненавистными захватчиками. Талантливый новеллист и тонкий психолог, Ян Дрда дает мастерский рисунок внешнего облика своих скромных героев, чтобы впоследствии раскрыть их душевное величие, огромную нравственную силу подвигов, совершенных ими во имя родины. Учитель Малек («Высший принцип»), шахтер Франтишек Милец и его жена Бетушка («Сторож динамитного склада»), бухгалтер Бинек («Ненависть») – борцы «немой» баррикады, готовые предпочесть смерть игу фашизма. И вместе с тем в них сильна тяга к жизни, они полны веры в торжество справедливости, ради которой нужно бороться, нужно жить. И тем из героев «немой» баррикады, кто прошел через горнило этой борьбы, кто дождался освобождения, кто вкусил радость обновленной жизни, – тем довелось полностью ощутить благотворное воздействие света, идущего с Востока.
История учителя Малека, с которым читатель снова встретится в рассказе «Через несколько лет», характерна и поучительна. В ней, как в капле воды, отразилась судьба многих простых людей Чехословакии, для которых вместе с освобождением, принесенным их родине героической Советской Армией, наступило подлинное моральное раскрепощение, открылась перспектива радостной и счастливой жизни, стала возможной переоценка ценностей. «Почти до шестидесяти лет, – взволнованно говорит учитель Малек, – я жил как слепой… как крот. Ученый крот. Только потом я прозрел. Правильный путь мне указали наши освободители… Советские люди…» Эту правду жизни, безыскусно выраженную одним из незаметных участников грандиозного строительства новой жизни, происходящего в народно-демократической Чехословакии, читатели найдут и в других произведениях Яна Дрды.
Каждое новое произведение Яна Дрды свидетельствует о том, что метод социалистического реализма, которому он учится на лучших образцах советской литературы, становится единственным для писателя. Все реже и реже в его произведениях встречаются рецидивы натурализма и манерности, присущие начальной поре творчества.
Характерным в этом отношении и явился рассказ «Политик» – собственно, отрывок из неоконченного романа «Налево».
Рассказ «Политик», запечатлевший февральские дни 1948 года, дни наивысшего подъема революционной воли народа, продолжает быть актуальным, его разоблачительная сила продолжает свое воздействие. Создав обобщенный образ врага народа, писатель вместе с тем беспощадно разоблачил одного из министров-предателей, которые по указке иностранных империалистов хотели произвести переворот и вернуть страну к Мюнхену, к капитализму.
От опубликования рассказа «Политик» до появления первых глав романа «Хозяева» прошло совсем немного времени – два-три года. И вместе с тем нельзя не отметить роста Яна Дрды как реалиста. Окрепшее мастерство писателя – непреложное доказательство того, как животворна связь художника с современностью, с народом, строящим социализм.
Победа народа в феврале 1948 года открыла перед страной путь к социализму. На призыв Коммунистической партии Чехословакии «Вперед, ни шагу назад!» откликнулся весь народ, все люди доброй воли. Первый пятилетний план, принятый вскоре после победы народа над силами внутренней реакции, вызвал к жизни невиданные народные силы. Народ почувствовал себя подлинным хозяином национальных богатств, хозяином своей судьбы.
Этому процессу посвятил свой новый роман «Хозяева» Ян Дрда. «Социалистическая Чехословакия, – говорил писатель на IX съезде коммунистической партии, – о которой мы мечтаем и которую мы строим, будет радостным и цветущим садом для трудящихся». Отрывок из романа «Хозяева», включенный в сборник, показывает борьбу народа, коммунистической партии за осуществление этой мечты, за превращение Чехословакии в цветущий сад для трудящихся.
Ян Дрда сумел показать на судьбе героев этого романа не только сегодняшний день народа, но, что самое главное, ту перспективу, ради которой живут и борются сегодня трудящиеся народно-демократической Чехословакии.
Тема «Хозяев» раскрывается и в поэтическом рассказе «Красная Тортиза», который по своей глубине и масштабам событий можно рассматривать как небольшую повесть. Показав борьбу за новое в жизни, которую ведет сегодня свободный народ Чехословакии, Ян Дрда вместе с тем увидел и показал новую красоту этой жизни – просторную и щедрую красоту «истинной свободы».
Путь к этой красоте открыли освобожденным народам советские люди. Еще в годы решающих битв с фашизмом один из героев рассказа – советский солдат и партизан Георгий – говорил своим чешским друзьям: «Не останавливайтесь, переделывайте жизнь, переделывайте людей, иначе все: кровь, страдания – окажется напрасным». И Йозеф Ветровец – бывший батрак и общинный пастух, а ныне председатель сельского кооператива, вместе с односельчанами из Вишневой, вместе со всей страной переделывает эту жизнь, с благодарностью используя драгоценный советский опыт.
«Красная Тортиза», как и ряд других «партизанских» рассказов, – произведение о верности и дружбе, связывающих советский и чехословацкий народы «на вечные времена». Весной 1953 года за этот рассказ Яну Дрде была присуждена Государственная премия первой степени.
Борьбе за мир, интернациональным узам, сплачивающим трудовой народ всех стран, посвятил Ян Дрда свой рассказ «Знамя». Этим рассказом Ян Дрда продолжает славные традиции Юлиуса Фучика, воплощенные в бессмертной книге «Репортаж с петлей на шее». Перекличка с «Репортажем» выразилась здесь не только сходством формы произведения, но и тем, что рассказ Яна Дрды, как и книга Фучика, волнует своей человечностью, страстным отношением к судьбе своего народа. Рассказ «Знамя» объединяет все произведения сборника, ибо в нем отражена преемственность той борьбы рабочего класса, которую он вел в прошлом, с его борьбой сегодня, с великими мирными планами на будущее.
Творчество писателей стран народной демократии, в том числе и писателей Чехословакии, служит делу мира между народами, их перо не раз разоблачало происки поджигателей новой войны. «На битву за мир, – писал в одной из своих статей Ян Дрда, – необходимо мобилизовать и молоток каменщика, и плотничий топор, и писательское перо». Но борьба за мир для чешских писателей неотделима от борьбы за социалистическое переустройство родины, неотделима от борьбы за расширение и укрепление дружбы с великим Советским Союзом.
Сборник произведений Яна Дрды с интересом прочтут советские читатели, в нем они найдут нового героя – активного борца за социализм, увидят и конкретнее представят, как в странах народной демократии, в частности в Чехословакии, новая жизнь побеждает силы старого мира.
Борис Всеволодов.
Немая баррикада
Из цикла новелл

Высший принцип
Неуклюжая фигура в неопрятном, плохо выглаженном костюме провинциального покроя, лицо в глубоких рябинах, неизменный портфель, туго набитый произведениями классиков, откуда учитель цитировал длинные периоды, упиваясь красотами текста и забывая о своем скрипучем голосе, – все это давало семиклассникам обильную пищу для насмешек. Хотя наружность его и напрашивалась на множество хлестких прозвищ, он и в этой школе носил ту же кличку, что и во всех других, где преподавал в течение двадцати лет.
«Высший принцип» – называли его ученики уже на третий день, прослушав несколько раз восторженные комментарии учителя на уроках латинского и греческого языков. И это прозвище вскоре совершенно заменило его настоящее имя.
– Высший принцип… гм… нравственности, который вам всем необходимо усвоить, просто не допустит такого смешного и подлого поступка, как списывание у соседа, – говорил он в этот день, склоняясь над сине-лиловыми тетрадями латинских сочинений.
Он так сосредоточенно продумывал в последние дни отдельные фразы перевода, которым намеревался закончить годовые занятия седьмого класса, что весь мир, полный страшных событий, проходил мимо его сознания. Как раз в ту минуту, когда он поднял костлявый, всегда измазанный чернилами указательный палец, возвещая со старомодной торжественностью, что начинает диктовать первую фразу: «Enuntiationem primam…», – раздался нервный стук в дверь. Дверь приотворилась, пропустив директора школы, и быстро захлопнулась снова. Превозмогая припадок удушья от страшного прилива крови, как перед апоплексическим ударом, он прислонился спиной к двери и слабым движением руки разрешил ученикам не вставать.
– Спартанцы, я спешу из Фермопил! – прошептал семиклассник Рышанек своему соседу Моучке, стараясь шуткой заглушить охватившую его в эту минуту внутреннюю тревогу. Но Моучка, бледный, взволнованный внезапным предчувствием, оставил без всякого внимания шутку товарища.
Он бесцельно обмакнул перо в чернильницу и так же бесцельно положил ручку на верхний край тетради. Ручка покатилась по чистой странице, оставляя за собой мокрый чернильный след…
– Гавелка… Моучка… Рышанек… идите за мной! – прозвучал ослабленный волнением голос директора.
«Высший принцип», собравшийся диктовать и застывший в нелепой позе с поднятым пальцем, теперь энергично запротестовал:
– Господин директор, мы как раз приступаем к латинскому переводу… а посему, согласно высшему принципу, отсутствие именно этих учеников…
Три семиклассника в растерянности поднялись, шурша листами тетрадей. Они оглянулись на товарищей, словно пытаясь прочесть на их лицах свою судьбу, и все трое одновременно вспомнили вчерашние споры на речном пляже.
Рышанек, самый неугомонный остряк в классе, бросил тихо:
– Так, значит, какая-то новая каверза!
Директору стало невыносимо дальнейшее пребывание в классе. Он быстро вышел в коридор. Но «Высший принцип» не мог стерпеть, что именно эти три лучших ученика, чьих латинских работ он ждал с каким-то детским нетерпеливым любопытством, не будут присутствовать на уроке, и он побежал за директором, взволнованно жестикулируя.
В эту минуту семиклассники Гавелка, Моучка и Рышанек поняли свою судьбу. В полуоткрытую дверь они увидели, что в коридоре у большого светлого окна стоят три человека: в кожаных серо-зеленых куртках. Моучка оглянулся на класс, пытливо окинул его взглядом, словно не выучил урока и теперь просил товарищей подсказать ему ответ на страшный вопрос. На лбу у него выступили капельки пота. Франта Гавелка, сидевший на первой скамейке, еще раз подбежал к своему месту, испуганно, почти машинально, закрыл крышкой чернильницу и присоединился к Рышанеку, который выходил из класса не оглядываясь, не прощаясь.
Когда дверь за ними захлопнулась, все оставшиеся семиклассники содрогнулись от ужаса. Ведь это был июнь 1942 года[1]1
После покушения на протектора Чехии Гейдриха 27 мая 1942 года в стране было введено осадное положение. – Прим. ред.
[Закрыть]…
«Высший принцип» вернулся в класс через пять минут. Ноги у него подкашивались, он едва доплелся до кафедры, опустился на стул, стиснул свой огромный выпуклый лоб костлявыми пальцами и каким-то не своим, по-детски жалобным голосом тихо простонал:
– Неслыханно… Неслыханно!
Потом собрался с силами, поднял глаза на свой класс и, леденея от страшного предчувствия, заикаясь, хрипло выговорил:
– Ваши… ваши… одноклассники… арестованы… Какая нелепость! Какое дикое недоразумение… Мои… ученики…
В семь часов вечера радио на улицах сообщило имена тех, кто в этот день был расстрелян за то, что одобрил покушение на Гейдриха: Франтишек Гавелка, Карел Моучка, Властимил Рышанек.
* * *
Молча, не в силах выговорить хоть слово, собирались учителя с семи часов утра в учительской. Лучи июньского солнца падали на стол, пылинки золотились в потоках света. Двадцать человек, ошеломленные ужасом, бродили в ярком свете, словно в непроглядной тьме. Приход каждого нового человека увеличивал чувство бессилия. Учитель чешского языка Кальтнер, черноволосый малый мрачной наружности, писавший патриотические вирши к празднествам двадцать восьмого октября[2]2
Годовщина со дня провозглашения независимости Чехословацкой республики. – Прим. ред.
[Закрыть], прохаживался между окнами, заслоняя солнечный свет. Неожиданно он остановился спиной к окну, стиснул руками спинку стула, словно ища опоры для мысли, созревшей под его низким лбом, и, невидимый в лучах утреннего солнца, обливавших его со всех сторон и слепивших глаза своим нестерпимым блеском, начал истерически кричать:
– Вот вам ваша масариковщина! Нас всех перестреляют! Как в Таборе!
Директор школы слабо застонал, превозмогая сердечный припадок. Остальные молчали. У них перехватило дыхание, словно все уже были обречены. Только учитель истории, толстогубый тихоня, нашел в себе решимость для выступления. Он вынул из портфеля вчетверо сложенный листок бумаги, положил его на стол и вкрадчивым голосом, заученную слащавость которого не мог изгнать даже страх, предложил:
– Господа коллеги, я считаю необходимым немедленно послать изъявление нашей искренней преданности господину государственному секретарю и господину министру Моравцу[3]3
Чешский министр просвещения в годы фашистской оккупации. – Прим. ред.
[Закрыть]. Я позволил себе набросать проект…
В жуткой тишине он прочитал двадцать строк, полных подлости и низкопоклонства. Потом отвинтил вечное перо и услужливо подсунул бумагу для подписи старейшему члену учительского коллектива. Учитель закона божия, семидесятилетний старец, всю свою жизнь прослуживший богу, взял трясущимися руками бумагу и прочел вслух текст с начала до конца, скандируя каждый слог. Окончив, он положил бумагу на стол.
– Я старый человек. На склоне лет мне не пристало лгать…
И было решено не собирать подписей под документом, а обратиться к ученикам седьмого класса, осудить безнравственный поступок их товарищей и запротоколировать это заявление в классном журнале.
– Но ради бога, кто же должен это сделать?
Учителя чешского языка и истории в один голос сказали:
– Конечно, классный наставник!
Все облегченно вздохнули, когда это бремя спало с их плеч. «Высший принцип» молча, сосредоточенно рассматривал суставы своих стиснутых пальцев. Он был классным наставником седьмого класса.
* * *
Казалось, за дверью с цифрой «VII» было пусто.
Где непрестанное жужжание пчелиного роя, еще вчера гудевшего здесь, как в улье? «Высший принцип» открывает двери своего класса. Но юноши, встающие со школьных парт навстречу ему, уже совсем не те, что были вчера. Он с трудом различает их только по силуэтам, по обычным местам на партах, прочно утвердившимся в его памяти. Каждый из них за эту ночь мысленно переплыл Ахерон, провожая тех троих, чьи места опустели.
Когда он сел за кафедру, они опустились на свои места, как автоматы. Это был уже не класс. Не коллектив. Каждый был сам по себе, замкнулся в скорлупе страха «ли ненависти.
– Друзья мои, – начал «Высший принцип», но голос его прервался на первых словах.
Он задохнулся. Встал, чтобы расправить грудную клетку. Обезображенный оспой, жалкий старый холостяк, в помятом костюме, с пузырящимися на коленях брюками, стоял на ступеньках кафедры.
– Друзья мои, – выдавил он из себя, чувствуя, что воротничок душит его. – Коллектив учителей поручил мне… гм… разъяснить вчерашнее… печальное происшествие… в правильном направлении с точки зрения… высшего нравственного принципа…
В это мгновенье на него устремилось двадцать пар глаз… Казалось, эта привычная, избитая фраза приобрела новый, страшный смысл, новое звучание. Казалось, она стала преградой между ним и классом. Или же… Он с величайшим усилием перевел дух. А потом вдруг с торопливостью утопающего, который боится, что захлебнется и не успеет договорить, крикнул своим ученикам:
– С точки зрения высшего нравственного принципа… могу вам сказать только одно: убийство тирана – не преступление!
И сразу же, одной этой фразой, он избавился от напряженности и смятения. В голове у него прояснилось. С небывалой четкостью и ясностью видел он каждого из этих двадцати юношей, которыми руководил с пятого класса и которые не спускали сейчас с него глаз. Здесь были простаки, упрямцы, ловкачи; добросовестные тихие мальчики рядом с сорванцами и лентяями; тупицы и пройдохи: медлительные зубрилы и неповоротливые увальни. Возможно, был среди них и тот, кто выдал Рышанека. Возможно, пустячная ссора, недоразумение или тайная ненависть принесут новые страшные плоды. И все же, кому из них он может солгать прямо в глаза? Его охватило страстное желание сказать именно тут, этим мальчикам слова, которые он таил в себе еще со вчерашнего дня и едва не произнес утром в учительской, – слова, которые он должен был сказать во всеуслышание, чего бы это ни стоило. Медленно, тихим, спокойным голосом сказал он их своему классу, всецело отдавая себя в его руки:
– И я тоже… одобряю покушение на Гейдриха!
Он почувствовал, что этим сказано все. Повернулся к кафедре, раскрыл школьный журнал, чтобы сделать в нем записи. Но не успел он коснуться пером страницы, как в классе послышался неясный шум. «Высший принцип» медленно поднял глаза. Двадцать семиклассников с горящими глазами стояли перед учителем, вытянувшись по-военному и подняв головы.
Сторож динамитного склада
К концу смены, когда уже было ясно, что надзиратели убрались восвояси, в самом дальнем углу двадцать пятой галереи сошлись сухопарый верзила Мартинек, Ярда Егне, которому разворотило челюсть и выбило зубы преждевременно взорвавшимся динамитным патроном, Карас из Лажце, Петр Гавранек из Доуби, Лишка, Карнет и Франтишек Милец.
– Товарищи, – начал созвавший их Карнет, – я хочу выложить вам все начистоту. Ведь убивают же у нас этих скотов сотнями, а в России – даже целыми миллионами. А мы торчали тут до сих пор… как кроты в норах. У нас все толкуют – мы безоружны. Нет, у нас в руках есть оружие. И позор падет на нашу голову, если мы не возьмемся за него.
Незачем было говорить дальше. День за днем ходили люди после смены мимо железной дороги. Вечером и на рассвете считали они, сколько военных транспортов отправляется на восток.
– Нас шестеро – значит, две хорошие тройки. А в работе своей все знаем толк. Ну, Милеца с собой не потащим, он на другое пригодится. Как пойдем в ту смену, дадим тебе на выпивку, закатишься в пивнушку, чтобы быть чистым. Сколько ты можешь дать нам этого добра. Франтику?
Франтишек Милец, сторож динамитного склада шахты, обтер лоб, лоснившийся от холодного пота. Он весь вдруг вспотел. И даже на спине, в желудке, во всех внутренностях ощутил прилив острого физического страха. Во рту пересохло так, что язык прилип к гортани.
– За неделю… килограммов десять… Пепику… – тихо выдохнул он. Когда он возвращался с этой смены домой, голова кружилась у него от страха перед будущим. Он не был героем – шестидесятилетний старик, щуплый, слабый, запуганный, с детства приученный к покорности перед господами.
– Нет, товарищи, не трогайте меня, – просил бы он, умоляюще сложив руки, если бы его стали уговаривать, принуждать. А они только сказали:
– Франтику, сколько можешь дать нам этого добра?
И на этот простой, ясный, доверчивый вопрос он не мог ответить «нет». Он должен был идти с ними и в эту смену, когда все несли за пазухой свою смерть. Воинские транспорты ночь за ночью нарушали своим гулким пыхтеньем тишину горняцких поселков. Франтишек Милец лежал с открытыми глазами, слушал их тяжелое дыхание и, стиснув руки, молился беззвучно и ревностно, чтобы все это оказалось сном, ночным кошмаром, за которым придет милосердное пробуждение. Потому что каждый день он выносил из шахты два-три килограмма динамита и ночью передавал его Карнету.
Через десять дней, около полуночи, взлетел на воздух эшелон эсэсовцев. Взрыв был подготовлен на повороте у Черных болот, на высокой насыпи между торфяными полями. Паровоз увлек за собой восемь вагонов, и в стремительном падении с крутой насыпи они рассыпались, как игрушечные коробочки.
Через три дня была повреждена линия в пятнадцати километрах к северу – товарный воинский эшелон сошел с рельсов и разбился под откосом. Гестапо перевернуло вверх дном всю местность. Пришли и на шахту «Анна-Мария», сосчитали у Франтишека Милеца каждый динамитный патрон. Склад был в образцовом порядке.
– Чепуха, – ухмыльнулся инженер Блашке, когда гестаповцы сообщили ему о том, что подозревают Милеца. – Безвредная, трусливая скотинка. Совершенно не интересуется политикой.
А через неделю полетел под откос состав с зенитными орудиями. Вся округа содрогалась от террора гестапо. Жены измученными глазами вглядывались в лица мужей, стараясь прочесть на них признание. Но лица мужей были хмуры и непроницаемы. Внезапный собачий вой среди ночи будил ужас во всех домах. За кем… за кем придут сейчас?
Четвертый поезд с вооружением взлетел на Царванках у сосновой рощи, не больше чем в часе ходьбы от деревни, где жил Милец. Фантастический фейерверк рвущихся снарядов до самого утра чертил небо красными полосами.
Франтишек Милец, как обычно, ушел в свою смену, а жена, как обычно, снабдила его котелком с кофе и поцеловала на прощанье. Он едва держался на ногах. Товарищи не оказали ему, что пойдут сегодня в ночную смену. А он как раз вчера принес три кило. С вечера он искал Карнета, но тот будто бы отправился к свекру в Оуголицы, чтобы привезти себе немножко гороху. И так, в виде исключения, Милецу пришлось спрятать динамит на одну ночь в комоде, под старым тряпьем и рабочим инструментом.
Три раза по пути к шахте он останавливался и раздумывал, не лучше ли вернуться и бросить все в навозную кучу, а потом в пруд. Но всякий раз как он оборачивался и смотрел на дом, мужество покидало его. Как может он теперь, среди бела дня, на глазах своей заботливой Бетушки, на глазах всей скованной страхом деревни осуществить такое дело? Старик старался поддержать в душе крупицу надежды, что и на этот раз все обойдется благополучно, в смятении бормотал «Отче наш», прося у бога помощи, силясь увидеть доброе предзнаменование в разных пустяках. До «Анны-Марии» он все же добрел. Карнет вместе с ним спускался в клети в шахту.
– Успокойся, Франтику. Теперь некоторое время придется переждать.
– А у меня его… три кило…
Милец говорил шопотом, и все-таки голос его срывался. Карнет взял его руку, долго и ободряюще держал ее в своей руке, словно хотел перелить в Милеца свое спокойствие.
– До вечера полежит. А вечером уберем его.
В половине десятого на «Анну-Марию» приехала полицейская машина с пятью гестаповцами. Комиссар Глазер, захлебываясь от бешенства, вбежал в заводскую канцелярию.
– Ви, идиот, – заревел он на инженера Блашке. – Знаком вам эта бумага?
Он держал в потной от волнения руке обрывок измятой обертки динамита с номером пакета. Обрывок, выпавший из кармана Караса, когда он впотьмах подкладывал динамит под рельсы. Блашке позеленел от ярости.
– Где этот тип из склада?
Не было сомнения, что взрывчатка похищена со склада шахты «Анна-Мария». Тяжелая клеть с четырьмя гестаповцами опускалась в галерею Милеца. У Блашке так тряслись руки, что он уронил фонарь. Внизу они наткнулись на надзирателя Балкара.
– Зофорт[4]4
Немедленно (нем.).
[Закрыть] приведите Милеца! – заорал Блашке.
Балкар повернул за угол галереи и, едва переводя дух, вбежал на склад. Франтишек Милец в каком-то странном оцепенении сидел на ящике, положив руки на колени. Балкару пришлось встряхнуть его, чтобы вернуть к жизни.
– Франтику, за тобой пришли! Ради Христа, удирай через вентиляцию, если жизнь тебе дорога!
И Балкар, сам цепенея от ужаса, медленно возвратился на площадку, под угрозой смерти выполнив товарищеский долг.
Бог знает, какая сила принудила Франтишека Милеца к бегству. Спотыкаясь, нырнул он в квершлаг, погрузился во мрак заброшенной галереи; бежал в беспросветной тьме шахты с упорством человека, который попал в смертельный тупик. Так, с неимоверным трудом, бежал он полтора километра, пока не увидел дневной свет, а в это время Балкар врал гестаповцам, что на складе простыл и след Милеца.
Только на меже по пути к дому Франтишек Милец немного собрался с мыслями. Если гестаповцев еще нет в избе, они нагрянут не позже чем через полчаса. Это было ясно. Он должен напрячь все силы, чтобы опередить их, воспользоваться этой последней возможностью спасти хоть Бетушку и уничтожить страшную улику на дне комода.
Он пробежал через деревню, разгоняя мирные стада гусей и, как вестник бедствий, приводя в ужас каждого, кто видел его дикий бег. Бетушка растапливала печку.
– Беда… – только и мог выговорить он и совершенно обессиленный повалился на кровать. Она бережно держала зажженную спичку под хворостом, не прерывая обычного порядка домашней работы, одно за другим вкладывала в печь белые сосновые поленья и, не оборачиваясь к мужу, не отводя взгляда от разгорающегося пламени, спросила:
– Попались? Динамит?..
Он молча кивнул. А его покорная подруга, от которой он все тридцать лет ничего не скрывал до этой последней тайны, сказала ему.
– Ведь я все равно это знала, Франтику.
Он боялся посмотреть ей в глаза, ждал, что она испугается, будет плакать, отчего еще углубится бездна отчаянья, в которую он скатывался. Но ее спокойный голос зазвучал вдруг, как надежда.
– Есть у тебя что-нибудь дома? – спросила она, закрывая дверцу топки.
– Три килограмма… внизу в комоде…
Он следил в каком-то отупении, как она брала из-под лавки большой бак для белья, слышал металлический звон отодвигаемой ею посуды, видел спокойные движения ее рук, когда она складывала динамит на дно бака. Потом она взяла старую юбку, положила ее сверху в бак, прикрыла его крышкой, подняла обеими руками и прислонила к животу.
– Разденься и ляг, будто ты болен. Я пойду выброшу это в пруд, меня никто не заметит.
Франтишек Милец послушно наклонился и трясущимися руками стал нащупывать концы шнурков на ботинках. При этом он слышал, как босые ноги Бетушки шлепают по полу по направлению к дверям. Один шаг, другой, третий. Потом неожиданная, резкая остановка, полная смятения, как бывает со слепыми, когда они наткнутся на стену.
В дверях стояли четыре гестаповца со взведенными револьверами. Они ринулись в комнату и, оттолкнув Бетушку, бросились прямо к Милецу. Глазер ударил его металлической рукояткой по зубам.
– Встань, негодяй! Теперь уж ты от нас не удерешь!
Франтишек Милец, онемевший от потрясения, прикоснулся рукой к окровавленному лицу и с трудом попытался встать. Но тут его сбили с ног новым страшным ударом по лицу.
– Признавайся, мерзавец! Ты крал динамит?
Он снова встал. И, словно перед лицом смерти, поднял остекленевшие глаза и ответил срывающимся голосом:
– Крал.
– Франтику!
Этот возглас Бетушки не был воплем отчаяния или слезливым женским упреком. В нем была дикая, суровая сила, вернувшая Франтишека Милеца к жизни. Он снова увидел Бетушку, осознал, что она стоит у печки с безмолвными слезами ненависти и по-прежнему держит в руках бак для белья. И вдруг она выросла в его глазах в грозное видение ангела справедливости. Не перед этими убийцами, а перед ней, перед Бетушкой, молчаливой и покорной подругой его жизни, должен он, Франтишек Милец, держать ответ.
– Молчи, падаль, и до тебя дойдет очередь! – заорал на Бетушку Глазер.
– До всех дойдет очередь, – ответила она спокойно. – Рука божьего правосудия не минет ни кого из нас!
Один из гестаповцев подскочил к ней, ударил ее кулаком между глаз. Она зашаталась, но не выпустила бака из рук. Едва опомнившись, едва переведя дух от боли, она и крикнула:
– Ты правильно делал. Франтику! Правильно делал!
Франтишеком Милецом вдруг овладело странное спокойствие. Он уже не чувствовал ни боли, ни страха. Глядел на жену сквозь стекающую на глаза кровь, но видел не только занесенные над нею вновь кулаки, – он видел уверенное, привычное, но такое значительное движение опытной хозяйки, поставившей вдруг бак для белья на середину раскаленной плиты.
Вот он, приговор!
Судили не они, эти мучители тел и душ, – судила собственная его жена, и ее справедливый приговор скоро, очень скоро будет приведен в исполнение. Его охватило желание человека, впервые в жизни почувствовавшего себя свободным и уверенным, оказать им всю правду, поиздеваться над их слепым бешенством. Когда его‘ швырнули на землю, он закричал им в лицо:
– Крал! Крал! Пятьдесят килограммов своими руками украл! И будут, будут взлетать на воздух поезда, все полетят! Все полетит к черту!
Озверевшие от такого непонятного и неожиданного отпора гестаповцы загнали обоих стариков в угол избы.
Пинали их там ногами, били по лицу и по голове резиновыми дубинками, швыряли на пол и снова топтали сапогами. Но не могли помешать этим двум мученикам взяться за руки, впиться друг в друга старческими пальцами, чтобы уйти из мира верными союзниками. А когда гестаповцы, утомившись своим зверством, на минуту прекратили истязание, над лежащим без чувств Милецем поднялась голова его жены и ее окровавленный рот выговорил последние слова:
– Бог не прогневается на нас за то, что мы убили таких зверей!
Это было за секунду перед тем, как все взметнулось вверх в страшной вспышке взрыва, осуществившего ее приговор.








