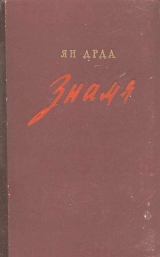
Текст книги "Знамя (Рассказы и повести)"
Автор книги: Ян Дрда
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
– Нельзя! – закричал Костя.
Но куриная голова уже повисла на тонкой кожице, и в кастрюльку с бульканьем полилась куриная кровь.
Костя наклонился к хозяйке, схватил ее своими сильными руками за плечи и плачущим голосом с упреком повторял только:
– Что же ты сделала? Что же ты сделала?
Вам следовало бы ближе познакомиться с богатырской душой советских людей, которые умеют в высоком душевном порыве раздать все до последнего кусочка, пожертвовать всем до последней капли крови, но сами принимают подарок очень смущенно; надо вам понять, что было в голосе Кости и что было написано в ту минуту на лицах остальных – Васи, Сережи, Василия Великого… Сколько раз мне хотелось быть художником, чтобы запечатлеть этот миг на полотне!..
Хотя вполне возможно, что сегодня эта картина показалась бы смешной: худая, оборванная горянка держит в руке ощипанную курицу с перерезанной шеей, а перед ней мужские обросшие, потные и грязные лица. Но в том свете, который горел и в их глазах и в глазах мамаши Кровозовой, было что-то такое, что превращало обыкновенную историю с курицей в героическую драму.
Ну, извините, я немного разволновался. Наконец мы, дети и хозяйка уничтожили похлебку из последней курицы. И возможно, что, не будь этой похлебки, на следующий день мы бы замерзли и погибли, потому что нам предстояло пройти еще километров тридцать по горам во время снежного бурана. Когда мы прощались с Кровозовой, Костя, наш начальник, долго жал ее костлявую руку, а потом вдруг сказал очень-очень тихо, почти про себя:
– Мамаша… знаешь что… твои щи… мы никогда, не забудем!..
И поцеловал ее в обе щеки.
Через несколько лет
Нас было четверо в купе поезда, вышедшего на склоне январского дня из Праги в Южную Чехию. Пожилая крестьянка в светлом платке то и дело открывала свою объемистую полотняную сумку и перебирала натруженными руками кипу книг, шопотом читая по слогам их заглавия. Плечистый юноша в коричневой шерстяной куртке погрузился в чтение свежего номера журнала «Творба», в котором он иногда что-то подчеркивал карандашом. Худощавый белокурый гимназист с увлечением дочитывал роман «Молодая гвардия». Толстая истрепанная книга рассыпалась, страницы часто падали на пол. А он читал торопливо и страстно, словно стремясь опередить сумерки, медленно опускавшиеся на землю.
Одному мне нечего было читать. Я с удовольствием наблюдал за своими соседями, такими не схожими и все же объединенными одним и тем же бескорыстным влечением к книге.
Книга в новой Чехословакии стала для народа такой же насущной потребностью, как хлеб.
Мне очень хотелось завязать разговор с соседями, но я боялся их обеспокоить. И только когда совсем стемнело, я решился заговорить. Гимназист успел дочитать роман. Он поднял покрасневшие влажные глаза и стал всматриваться в сгущающуюся темноту. На его полудетском лице еще сохранялось выражение торжественной строгости, словно он в этот момент приносил присягу Олегу Кошевому.
Поезд подходил к большой станции, замедляя ход, и буфера вагонов резко звякали, ударяясь друг о друга. Молодой человек в коричневой куртке пробормотал что-то неодобрительное о неумелой езде машиниста. Гимназист, очнувшись от очарования, навеянного книгой, промолвил грустно:
– Мы еще только в Здицах.
– А вы далеко едете? – спросил я.
И тут он назвал хорошо знакомый мне город в Южной Чехии. Хоть давно я там не был, но сердце мое принадлежало этому городу: в нем я провел свою юность.
– Вы гимназист? – спросил я.
– Семиклассник, – ответил он скромно и вместе с тем гордо.
И мне сразу вспомнилась маленькая черная дощечка над коричневыми дверьми, на которой серовато-белой краской была начертана римская семерка. Я даже отчетливо почувствовал запах, царивший у нас в классе: запах мокрого мела, яблочной кожуры и смолистых дров, которыми мы щедро набивали старинную железную печку. И я представил себе на пороге класса старого учителя в неуклюжем, измятом костюме провинциального покроя, мне даже послышался его смешной скрипучий голос и слова: «С точки зрения высшего принципа нравственности…», – которыми он обычно начинал свои наставления.
– Как поживает старик «Высший принцип»? Жив, здоров? – спросил я семиклассника.
Он с недоумением посмотрел на меня.
– Я говорю об учителе Малеке, преподавателе латыни и греческого. Может быть, его по старости уволили?
Гимназист зарделся и возразил:
– Но ведь он… вовсе не старик.
Я смутился: вероятно, речь идет о его однофамильце. Ведь «Высшему принципу» – как мы называли его в гимназии – сейчас, по моим подсчетам, никак не меньше шестидесяти, и его сгорбленная спина, наверно, еще больше согнулась.
Но тут вмешалась крестьянка, очевидно, уроженка тех же мест. То, что она сказала, было еще удивительнее.
– Вы имеете в виду господина учителя… то есть товарища Малека? Так он еще совсем молодчина. Он помог нам организовать в деревне сельскохозяйственный кооператив. Когда кто-то из богатеев «забыл» выпустить из тракторов воду, рассчитывая, видно, чтобы она замерзла и разорвала радиаторы, он так осрамил их перед всей деревней, что они головы поднять не могли.
Юноша в коричневой куртке, на которой я разглядел значок компартии, вначале молчал, но потом, усмехаясь, с явным интересом прислушивался к нашему разговору. Вдруг он не выдержал и тоже заговорил.
– Разрешите, – иронически сказал он, откровенно радуясь моему удивлению, – разрешите сообщить вам еще одну неожиданную для вас подробность: коллега «Высший принцип» является членом районного комитета нашей партии.
– Но это действительно он, «Высший принцип»? – воскликнул я с недоверием, ибо все это показалось мне невероятным.
Тогда плечистый юноша проскандировал с безупречным произношением то место из «Метаморфоз» Овидия, которое преподаватель латыни «Высший принцип», как мне было памятно, очень любил и заставлял всех своих учеников заучивать наизусть:
Первым был век золотой, когда люди, насилья не зная,
Были себе и законом, и честью, и правом…
Сразу стало ясно, что юноша – бывший ученик «Высшего принципа». Я не выдержал и перебил его:
Пищу земля им давала тоже свободно и щедро.
Плуга чужда и кирки избегая касаний…
Юноша, смеясь, сказал мне:
– Теперь коллега «Высший принцип» относится несколько иначе к золотому веку!
– Вы, конечно, его бывший ученик?
– Да… Я учился в том самом седьмом классе, из состава которого фашисты в 1942 году расстреляли троих учеников за то, что они с одобрением отнеслись к покушению на Гейдриха… Моя фамилия Горак, по алфавиту я был следующим за казненным Гавелкой.
Так мы все вспоминали о мужественном поступке нищего старого школьного учителя. Во время жестокого разгула фашистского террора, когда нацисты расстреляли троих учеников «Высшего принципа», он во всеуслышание заявил перед лицом всего седьмого класса, что он тоже одобряет покушение на Гейдриха, ибо убить тирана – это не преступление.
– А что было дальше с «Высшим принципом»? – нетерпеливо спросил я, так как после 1942 года у меня не было никаких сведений об учителе Малеке.
– Кое-что могу вам рассказать. Седьмой класс после расстрела наших троих товарищей был разогнан, нас таскали по концентрационным лагерям, а потом послали на принудительные работы в Германию. Во время бомбардировки завода мне и еще двум товарищам удалось бежать. Днем мы прятались, а по ночам пробирались в Чехию и в конце концов дошли до родины. Мы были вконец измучены, но нас поддерживал огонь ненависти к нацистам. Мы стали искать связи с партизанами, действовавшими против фашистов в окрестностях нашего города. Голод и усталость валили нас с ног. Но мы никак не могли найти партизан. Только впоследствии мы узнали об их осторожности. Они знали о нас уже две недели, наблюдали за каждым нашим шагом, но не доверяли нам, так как нацисты подсылали в лес провокаторов.
Однажды, когда мы отдыхали в кустах, нас врасплох захватил лесничий. Сначала он пригрозил нам ружьем, а потом велел прийти вечером в лесную сторожку. Там уже ждал комиссар партизанского отряда, старший лейтенант Водолазов. Подробно допросив, он отвел нас в лагерь партизанской группы, и ее командир, капитан Олексинский, принял нас в отряд «Серп и молот». Там были советские парашютисты и много чехов. Мы жгли заводы, подрывали железнодорожные пути, уничтожали транспорты. В общем работали неплохо, но это уже другая статья.
Вот тогда-то, в партизанах, я вновь встретился с «Высшим принципом». Послали меня однажды на передовой пост, примерно километрах в шести от города. Было это в октябре сорок четвертого, листья уже пожелтели и едва держались на деревьях. Солнце напоследок перед зимой напрасно пыталось согреть землю. Я взобрался на холм, поросший буком. На горизонте туманно вырисовывались трубы нашего города. Меня охватила тоска. Мне страшно захотелось встретить кого-нибудь из земляков: девушку, прибежавшую на свидание с парнем, старуху, пришедшую в лес по дрова. Хотелось посмотреть на них из буковой чащи и хоть взглядом послать привет дому.
И вдруг вдалеке, на дороге под холмом, я вижу человека. Его походка показалась мне знакомой. Смотрю в бинокль и узнаю… «Высший принцип»! Трудно передать, с какой быстротой я скатился с холма, забыв обо всякой осторожности. Автомат бил меня по груди, ветки царапали лицо, раз я даже упал в яму, где росла ежевика, но старого учителя все же догнал.
Когда я подошел к нему на повороте лесной дорогая, он немного испугался при взгляде на мой автомат и защитный плащ, снятый с немецкого парашютиста, и только моя штатская шляпа успокоила его.
– Что вы тут делаете, Горак, и что это у вас здесь? – Он указал тонким костлявым пальцем на мой автомат, словно застиг меня в классе за чем-то недозволенным.
– Это, господин учитель, извиняюсь, автомат русского образца, – сказал я со смирением школьника, пойманного на месте преступления.
– Отсюда следует, что вы…
– Да, господин учитель, уже несколько месяцев…
Старик стиснул мне руку и оказал растроганно:
– Спасибо, Горак… Я знал, что в моем классе есть благородные ребята…
Сказал и вдруг смутился, словно сам в чем-то провинился. Он подарил мне свой перочинный нож, яблоко, которое у него оказалось в кармане, и усиленно навязывал мне свое вечное перо, на всякий, мол, случай, – вдруг придется записывать какие-нибудь «данные». Поверьте, я был растроган до слез его заботливостью. Мы провели вместе – это, конечно, была с моей стороны непростительная неосторожность – больше часа в густом кустарнике подле дороги и договорились, что через три дня снова встретимся. Старик меня уверял, что это его «любимая привычка» – совершать продолжительные прогулки по лесу, – настойчиво допытывался, в чем мы нуждаемся, предлагая принести все необходимое из города. Я назвал ему несколько вещей: подробные карты нашего и соседнего районов, кремни для зажигалок и, если можно, горсточку чая – наш комиссар давно мечтал о нем. Старик все старательно записал в блокнот. На прощанье он спросил:
– А для освежения хотите что-нибудь из классической литературы – Овидия или Горация? Вы всегда были отличным латинистом…
Когда я рассказал об этой встрече нашему комиссару Михаилу Константиновичу, он меня основательно выругал и запретил встречаться с учителем.
– Старик не удержит язык за зубами, раструбит на весь город.
Тогда я рассказал комиссару, как «Высший принцип» публично одобрил покушение на Гейдриха. Михаил Константинович с интересом выслушал меня, нахлобучил шапку и сказал;
– Это другое дело…
Через три дня Михаил Константинович пошел на свидание вместе со мной.
Трудно передать, как они подружились – наш комиссар и учитель Малек. Поначалу они, надо сказать, не поладили. До войны Михаил Константинович был аспирантом исторического факультета. Через пять минут после встречи он уже поспорил с «Высшим принципом о характере античной эллинской демократии. «Высший принцип» всю жизнь считал ее идеальной. Миша на ломаном чешском языке заявил, что к истории нужно подходить с марксистских позиций.
– Но марксизм, – легкомысленно воскликнул учитель, – это ведь теория опровергнутая!..
Миша побагровел, но сдержал себя:
– А вы читали Маркса? А Ленина? А Сталина?
– Нет… – признался смущенно «Высший принцип», – но как все утверждают…
– Дураки утверждают, дядя! Ты почитай сначала, а потом суди.
Старый учитель был ошеломлен. Он опустил глаза и побледнел. Мне стало жаль этого славного, но наивного добряка. До тех пор голова его была забита платоновскими идеями. Он искренне и убежденно верил, что после Сенеки никто не сказал ничего существенного о нашем мире. Поразмыслив, «Высший принцип» поднял глаза, в упор посмотрел на комиссара и проговорил:
– Прошу прощения. Я действительно сказал глупость. Учение, которое вам дает силу воевать и за нас, – это по-настоящему хорошее учение.
Михаил Константинович был человек глубоко образованный. Перед отъездом в Чехию (его спустили к нам на парашюте) он захватил из дому «Краткий курс истории ВКП(б)». Он пользовался им как руководством, проводя в минуты отдыха беседы с нами, чьи головы были засорены схоластической школьной премудростью. Вечером в лагере, после встречи с «Высшим принципом», Михаил Константинович отвел меня в сторону и сказал;
– Слушай, Володя, надо что-то сделать для старика. Сердце у него молодое…
За четыре месяца жизни в партизанах я заучил две-три сотни русских слов. Михаил Константинович знал примерно столько же чешских. С этим багажом в тот же вечер мы начали переводить второй раздел четвертой главы «Краткого курса» – «О диалектическом и историческом материализме».
– Драгоценные сталинские слова! – говорил Михаил Константинович.
Слово за словом в течение восьми дней мы переписали карандашом в школьную тетрадь этот важнейший документ марксистско-ленинского учения. При ближайшем свидании Михаил Константинович вручил его старику.
– Сталин мудрее Платона, – сказал он с улыбкой и поцеловал учителя, как родного отца.
Я видел, как дрожали сухие руки «Высшего принципа», принимая тетрадь в синей обложке.
Два дня спустя, еще до начала дождливой осенней погоды, наш отряд покинул лагерь. Совершив два ночных перехода вдоль горного лесистого хребта, мы продвинулись на юго-запад и напали на гитлеровцев там, где они меньше всего нас ожидали. Последнюю военную зиму мы провели в непрестанных, почти ежедневных боях. Мы выгнали немцев из лесу и прилегающих деревень. Только к пасхе мы возвратились в наш старый лагерь. Об учителе Малеке всю зиму мы не имели никаких сведений. Михаил Константинович часто вспоминал о нем.
– Ну, как там старик? – спрашивал он меня вечерам у костра. – Думаешь, учится?
– Учится, Михаил Константинович, – отвечал я уверенно.
– Ну, посмотрим… Придет время, возьмем город штурмом, а потом проэкзаменуем старика.
Пятого мая на рассвете наш отряд, увеличившийся за последние недели до четырехсот человек, действительно взял город штурмом. Немецкий гарнизон был разбит. Большинство солдат сдалось буквально в нижнем белье. Только эсэсовцы, застигнутые на вокзале при посадке в вагоны, ожесточенно сопротивлялись, отстреливаясь из тяжелых пулеметов. Мы передали город под охрану революционной гвардии, которая была наскоро сформирована из рабочих и мелких ремесленников под руководством коммунистов. Затем мы мобилизовали все грузовики и помчались на юг вслед за отступающими эсэсовцами, которые поджигали деревни и убивали женщин и детей километрах в пятнадцати от города. Четыре дня, вплоть до девятого мая, мы вели жестокие бои с беснующимся нацистским зверьем.
Благодаря военному опыту капитана Олексинского и геройской отваге Михаила Константиновича, появлявшегося в самых опасных местах и личным примером воодушевлявшего изнуренных бойцов, мы совершили чудо: разбили эсэсовцев, силы которых вдвое превосходили наши. Мы выгнали их из деревни, положили конец их злодеяниям. Учтите, что добрая половина наших людей не обладала никакой военной подготовкой, что многие из нас вначале считали эсэсовцев какими-то неуязвимыми существами, что эти профессиональные убийцы обладали значительно большим количеством вооружения… Но с Михаилом Константиновичем мы не знали ни страха, ни усталости. Его пламенная энергия, его ненависть к врагу вливали героические силы в сердца наших неопытных, но мужественных ребят. Девятого мая в три часа дня мы уничтожили последнюю эсэсовскую шайку.
Стрельба в лесу прекратилась. Изредка только раздавались единичные выстрелы.
Штаб капитана Олексинского расположился на опушке леса, на холме, покрытом низким кустарником. Этот холм называли «Виселичным». Как рассказывали старожилы, полтораста лет назад императорские мушкетеры повесили здесь сто зачинщиков крестьянского бунта.
Километрах в четырех от нас по открытой местности пролегало большое шоссе. Даже простым глазом было видно, как в беспорядке бегут по нему расстроенные автомобильные и танковые колонны фашистов. Они устремились на юго-запад, к американцам. Капитан Олексинский, не отрывая бинокля от глаз, изучал положение. Нам было ясно, что наша задача еще не выполнена и что мы должны ударить по бегущему врагу…
Внезапно Олексинский, отличавшийся невозмутимым спокойствием даже во время тяжелых боев, взволнованно вскрикнул. Мы рвали друг у друга из рук трофейные бинокли.
– Наши! Наши! – кричал Олексинский.
Мы, затаив дыхание и еле держась на ногах, смотрели на шоссе. На дорогу вырвалась мощная колонна серо-зеленых могучих танков с красными флагами на башнях, налетела на задние немецкие машины и с ходу, словно железным кулаком, буквально сметала их с дороги. Фашисты в ужасе сами съезжали в канавы, пытались бежать в поля и луга. Но советские танки, не замедляя хода, расстреливали в упор панически разбегавшихся нацистов.
– Ура! Ура! – кричали мы, чуть не плача от радости, махали шапками и приветствовали русских залпами в воздух.
Никто из нас не заметил, что Михаила Константиновича не было среди нас. Только когда два автоматчика молча поставили у ног Олексинского самодельные березовые носилки, мы разом глянули на них, и сердца наши пронзила острая боль.
Наш комиссар в своей вылинявшей гимнастерке лежал на березовых светло-зеленых ветках с простреленным животом и безжизненно повисшими руками… Какой-то нацистский дьявол пустил в него из укрытия длинную очередь. Глаза Михаила Константиновича были широко открыты, на губах застыла его обычная приветливая и вместе с тем гордая улыбка.
– Смотри, дорогой… – капитан Олексинский приподнял комиссара и приложил к его глазам бинокль.
Видно было, как умирающий собрал все свои силы, чтобы еще раз посмотреть.
– Красное… – прошептал он; казалось, ему стало легче.
Он выскользнул из рук капитана, голова его упала на березовые листья. Последнее, что он увидел в своей жизни, было победоносное знамя его родины.
Крестьяне из освобожденных деревень хоронили павших товарищей на своих маленьких кладбищах. Но комиссара мы хотели похоронить в нашем городе. Капитан разрешил нам. Мы обили деревенскую телегу новыми липовыми досками, покрыли павшего чехословацким флагом, который дал нам деревенский учитель, и, окружив этот катафалк двумя рядами автоматчиков, направились по полевым дорогам в город.
Несмотря на то что этот день, 9 мая 1945 года, был самым торжественным и радостным днем в истории нашей родины, днем окончательного освобождения и начала новой жизни, мы возвращались домой с влажными глазами и жгучей болью в сердце.
В тот же вечер под кустами цветущей сирени в городском парке мы хоронили Михаила Константиновича Водолазова, старшего лейтенанта Советской Армии и комиссара партизанского отряда «Серп и молот». Он лежал в открытом гробу из неструганных досок, сверкавших белизной, и, казалось, улыбался даже после смерти. Сотни женщин и девушек из рабочих кварталов приносили к гробу букеты цветов, преклоняли колени, целовали покойника в ясное чело, как целуют дорогого сына и брата.
В молчаливой, тихо плачущей толпе вдруг увидел я старого учителя. Он пробрался сквозь ряды женщин и шахтеров, приблизился к гробу и склонил голову. Казалось, он никого не видел вокруг себя. В глубокой задумчивости смотрел он на ясное, улыбающееся лицо Михаила. И только когда начался погребальный обряд, он отошел в сторону. Капитан Олексинский произнес короткое надгробное слово. Ему, чьи громовые команды перекрывали шум битвы, сейчас не хватало голоса и дыхания. Я подошел к «Высшему принципу» и прошептал:
– Господин учитель, скажите, пожалуйста, несколько слов от имени населения…
«Высший принцип» посмотрел на меня, словно не узнавая, потом кивнул головой. Он шагнул к гробу и голосом, изменившимся, глухим, но все же проникновенным, доходящим до самого сердца, сказал:
– Клянемся… Клянемся в этот священный час освобождения… перед лицом храбрейшего из храбрых, героя-освободителя… – Его патетически напряженный голос перешел в рыдание.
По команде капитана Олексинского мы дали тройной прощальный залп. В то время как грохотали выстрелы и, медленно кружась, падали каштановые листья, пробитые пулями, сотни женщин и мужчин подняли правую руку. Ладони и вытянутые пальцы светились в наступающих сумерках. И мне показалось в ту минуту, что у всей этой громады рабочих людей одно огромное сердце, какое билось в груди нашего комиссара. И не было в этой массе народа никого, кто не понял бы недосказанных учителем слов присяги: клянемся, что будем достойны великого освободительного дела, что свободу и независимость, за которые была пролита братская кровь советских людей, мы всегда будем защищать; мы клянемся в вечной верности братскому союзу с нашим освободителем – славным советским народом.
Минуты торжественной присяги разрядили скорбную атмосферу. Глаза у всех горели воодушевлением, нежностью и решимостью, все были точно наэлектризованы. Позже я понял, что на этих партизанских похоронах, во время этой недосказанной клятвы, родились новые кадры нашей вышедшей из подполья, окровавленной, но бессмертной коммунистической партии.
Через три дня я уже работал в партийном комитете и принимал заявления о вступлении в партию. Когда я спрашивал людей, в большинстве случаев, рабочих-шахтеров и изнуренных работой женщин, почему они решили вступить в партию, многие отвечали мне так: «Я уже давно собирался… а во время похорон комиссара…» Встречаясь теперь с этими товарищами, честными, самоотверженными, простыми работниками партии, я всегда припоминаю светлый облик Михаила Константиновича.
Крестьянка, до сих пор молча слушавшая, раскрыла свою поношенную сумку и, показав красную книжку с золотой звездой, застенчиво сказала.
– Я тоже… с мая месяца… состою членом нашей партии!
Тихой гордостью засветились ее голубые глаза.
– Ну, а наш «Высший принцип», – продолжал Горак своим спокойным голосом, – тоже подал заявление о приеме в партию.
Смущаясь, он спросил у меня, можем ли мы его принять – ведь он так много заблуждался в жизни. Я сказал с какой-то школьнической горячностью:
– Что вы, господин учитель, для нас это будет честью…
– Ни в коем случае, – поправил он меня, строго, по-учительски подняв палец, словно я сделал грубую ошибку, – для меня это будет честью, если партия меня примет…
Поезд уже отходил от станции, последней перед городом, где живет учитель Малек. Горак стал надевать пальто. Оставалось пять минут пути. У меня вдруг возникло желание узнать дальше удивительную историю человека, который на склоне лет так жадно устремился к правде.
– Рассказывать можно было бы еще долго, – с улыбкой ответил Горак. – Товарищ Малек – один из наших лучших агитаторов. Его теперь никто не называет «Высшим принципом».
…Раздался протяжный гудок паровоза. Поезд подъезжал к станции. Только сейчас, прощаясь с нами, крестьянка рассказала, что она возвращается с зимнего отдыха, который провела в Праге. Горак пожал мне руку и вышел из купе. Но вдруг, уже сходя на перрон, крикнул.
– Если хотите видеть Малека собственными глазами, пойдемте со мной. Через час я вместе с ним выезжаю на собрание в село Вельмержицы.
Я махнул рукой на все свои планы и мысленно попросил прощения у друзей, которые тщетно будут ждать меня. Через четверть часа я входил в районный комитет партии.
– Товарищ Малек просил передать, что он пошел в Вельмержицы, а ты должен приехать за ним, – сообщил дежурный.
И вот мы едем в темноте по ухабистым проселочным дорогам на старой тарахтящей машине шкода. Где-то впереди на берегу реки находится село, в котором местный поп-реакционер давно уже подрывал нашу созидательную работу коварными нашептываниями и застращиванием прихожан.
На седьмом километре лопнула задняя рессора. Мы застряли в лесу.
Больше половины пути сделано. Не возвращаться же! Дойдем пешком!
Полтора часа шли мы в темноте. Горак не говорил ни слова. Он шел впереди быстрым и ровным шагом и, видимо, размышлял о работе в селе, к которому мы приближались. Его, вероятно, немного сердило то, что он опаздывает на собрание, а, может быть, он жалел, что так необдуманно связался со мной.
В девять часов вечера мы прибыли в Вельмержицы. Маленький зал трактира был так переполнен, что, казалось, яблоку негде упасть. Здесь сидели один к одному безземельные крестьяне, каменщики, дровосеки, сплавщики плотов, люди, изнуренные тяжелой работой на малоплодородных, каменистых полях, суровые, недоверчивые и молчаливые. Им случалось запрягать в плуг собственных жен. На собственных спинах они таскали тяжелые корзины с навозом на крутые склоны, куда никогда не ступало конское копыто. Они сидели на широких липовых лавках и хмуро и подозрительно поглядывали на председательский стол.
Женщины робко жались к окнам. Они до сих пор не привыкли к новым порядкам и не осмеливались сидеть рядом с мужчинами.
Справа у прилавка стоял дубовый стол, покрытый голубой вышитой скатертью. За столом сидели десять кулаков, издавна державших в руках всю эту глухую деревеньку. Им принадлежали все плодородные земли в долине реки, все лошади, молотилки, все машины в деревне и, наконец, люди, к беспрекословной покорности которых они привыкли с давних пор. Здесь же восседал их союзник – поп, сорокалетний, плешивый, откормленный служитель премонстрантского ордена. До февраля 1948 года он сам был кулаком, владея тридцатью гектарами плодородной церковной земли.
Только через несколько минут я пришел в себя, убедившись, что оратор – это коллега «Высший принцип». Внешность его не изменилась. Быть может, только прибавилось седины. Костюм был такой же мятый и неуклюжий, как пятнадцать лет назад. И все же это был совершенно другой человек. В нем ничего не осталось от прежнего смешного чудака, дряхлого, раздавленного жизнью человека.
Я понял, почему гимназист в поезде не считал его стариком. Голос, лицо, все повадки Малека дышали гордым достоинством, победной силой убеждения.
Сначала я слушал, не вдумываясь в смысл его речи, так удивительно он преобразился. Я наблюдал. Никогда в жизни я не видел его таким. Слушатели, показавшиеся мне поначалу хмурыми и замкнутыми, внимали ему с жадной сосредоточенностью, подобно тому, как потрескавшаяся от жары земля впитывает в себя живительную влагу.
– Отчего разбогатели те, кто теперь препятствует вам стать членами кооператива? Не от своей, земли, хотя они и захватили самую плодородную, самую лучшую! Они разбогатели потому, что вы на них работали от зари до зари, из года в год! Они вам ссужали на два-три дня работника и пару лошадей, но за это вы должны были трудиться на их полях круглый год. И не только вы, но и ваши жены и дети! Что бы уродилось без вас на их плодородной земле? Лебеда, дикая редька, пырей да чертополох… Или вы думаете, что они могли бы разжиреть, питаясь одной землей?
В зале кто-то робко засмеялся. Поп-премонстрант строго оглядел аудиторию и сделал протестующий жест. Кое-кто из женщин опустил глаза. Товарищ Малек, не прерывая речи, заметил эту немую сцену. А когда поп повторил свой жест. Малек обратился прямо к нему:
– Вы протестуете, господин Медуна? Против чего? Против богачей, как вас учит священное писание? Против нехристианского обращения с людьми?
– Я протестую против вашей демагогии! Мы жили здесь и без вас в довольстве!.. – воскликнул поп. От волнения он даже взвизгнул.
– Вы лицемерный человек, Медуна. Сожалею, что вы были моим учеником, – сказал с презрением учитель Малек. – Вы злоупотребляете своим положением. Вместо проповедей вы ведете в костеле пропаганду против республики, против трудящихся, против собственного народа, сыном которого вы являетесь!
– Вы оскорбляете…
– Я вас не оскорбляю, Медуна. Я только разоблачаю темноту и злобу, которыми наполнены ваша душа, ум, сердце. Труд этих людей кормит и одевает вас. А вы хотите, чтобы они и впредь прозябали в нищете и крепостной зависимости. Тут есть люди которые живут в полном довольстве, не правда ли? Особенно те, кто сидит рядом с вами за одним столом. Мы у них на роли советника. А мы будем давать советы всем остальным, и, будьте покойны, это будут правильные советы. Вы были довольны, но нас это не устраивает! И мы не успокоимся, пока совершенно не освободим трудящегося человека, пока не избавим его от угнетения, эксплуатации, пока не избавим его от нужды и болезней!
Когда Малек закончил речь, в зале на несколько секунд воцарилась глубокая тишина. Затем эти люди – сплавщики, каменщики и безземельные бедняки, не привыкшие проявлять свое одобрение аплодисментами, суровые, неразговорчивые – молча поднялись со своих скамеек, окружили стол президиума.
– Я подпишу, – сказал первый из них, – видно, что это наш человек. – Своими грубыми руками, до крови стертыми на изнурительной работе, они друг за другом подписывали договор об учреждении сельскохозяйственного кооператива.
Поп направился к выходу. Поравнявшись с женщинами и считая, что он находится в безопасном отдалении от коммунистов, Медуна перекрестился и лицемерно вздохнул:
– Готовится деяние адское…
И вдруг одна из женщин, преждевременно поседевшая крестьянка, сказала:
– Да я лучше с ним в ад пойду, чем с тобой, с гадюкой, в рай!
Собрание кончилось. Вместе с товарищем Малеком мы вышли на улицу. Он крепко пожал мне руки.
– Плохо я вас учил, плохо… Я обращал ваши глаза к прошлому вместо будущего. Ты помнишь, как я заставлял вас учить наизусть «Первым был век золотой…» Эх, как все это было глупо! Мне надо было побольше присматриваться к тому, как живет народ. Люди собирали лесные ягоды, грибы, чтобы заработать грош на пропитание, жарили желуди и варили из них горькую бурду, собирали колосья и дробили зерна вручную в ступках, чтобы испечь детям лепешку… А мы прославляли и поддерживали эту нужду и тьму беспросветную, мы помогали хищникам, эксплуататорам.








