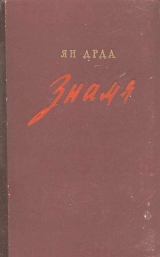
Текст книги "Знамя (Рассказы и повести)"
Автор книги: Ян Дрда
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
От этой мысли сердце его как-то странно защемило. «Нет, нет, Анежка меня не подведет, – уверял он сам себя, – и кроме того… Лойзик! Он не позволит матери запоздать».
За каменными столбами, еще невидимая для тех, кто был во дворе, протяжно и тоскливо замычала корова. Первая пара входила в широкие ворота кооператива.
У Франтишка весело блеснули глаза. Он схватил за локоть товарища Бурку, притянул к себе и радостно, как ребенок, воскликнул:
– Погляди, погляди!
В праздничном красном платье, налегке, без пальто, с непокрытой головой, так что ветер развевал черные густые волосы, в ворота входила Власта Лойинова. Справа от нее шла светло-желтая, как пшеничная мука. Белка, слева плавно шагала стройная Серна с небольшой белой звездочкой на лбу. Власта вела их не обычно, как водят бедные крестьяне, – на веревке, а никогда невиданным в Непршейове способом – на короткой цепи, намотанной вокруг рогов, с привязанными к ним широкими красными бантами из гофрированной бумаги. Власта шла между коровами, слегка приподняв руки, высокая, стройная; по сильной, красивой, статной фигуре ей никак нельзя было дать тридцати шести лет; казалось, на ней нисколько не отразилась тяжелая изнурительная работа в хате Лойиновых и в господской каменоломне.
– Это вдова того расстрелянного… – услыхал Франтишек шопот двух крестьян из соседней деревни, – она ярая коммунистка!
– Но во всем остальном это почтенная женщина! – тихо добавил третий голос.
– А дети у нее есть?
– Пятеро! Самый старший уже на шахте работает!
– С чего это ей вздумалось… – вздохнула какая-то женщина и высморкалась разжалобившись.
Серна и Белка остановились прямо посреди ворот. Они приподняли морды, недоверчиво посмотрели на толпу и прижались к Власте, так что она как бы попала к ним в плен.
Это привело Власту в некоторое замешательство, но она никогда надолго не теряла присутствия духа. Она уже привыкла к тому, что люди смотрят на нее с необычным вниманием: мужчины оглядывают ее с любопытством, женщины бросают на нее завистливые, удивленные, а иногда и враждебные взгляды. Ее фигура сразу же бросалась в глаза даже в самой большой толпе, отличаясь от всех остальных и привлекая взгляд; на нее было приятно посмотреть, хотя она и не была красавицей.
Сильными руками она оттолкнула от себя коров, улыбнулась, движением головы отбросила со лба прядь волос и крикнула звонким голосом, который разнесся на весь двор:
– Ну, что ж вы, музыканты? Чего замолчали? Давайте-ка что-нибудь повеселее! Мы идем к лучшему будущему, так пусть играет музыка!
Гонза Грунт подмигнул своему оркестру, Когоут положил свою трубу и взял оставленный Петрусом геликон, который был ему велик, как отцовский пиджак на мальчишке, и по двору понеслись звуки шахтерской польки. Коровы вздрогнули, казалось, того и гляди задурят, но через несколько тактов они успокоились, и Власта уверенным шагом довела животных до самой середины двора. И тут точно прорвало плотину, и к скотному двору потянулась непрерывная вереница коров: Малина, Звездочка, Лесана с Рыжухой, Младшинка и Дымка – особенной черно-белой породы. Пеструха с Гладкой, капризная, пугливая Чертовка с Каштанкой – светло-коричневой, как незрелый плод конского каштана. Горянка, купленная где-то на Шумаве, и Хорошавка – белая, дойная корова с огромным выменем, стройная легконогая телка Диана и ее мать Добрячка – спокойная старая рабочая корова с прогнутой спиной. Чернуха с Киткой, Большеглазая с Красавой, Буренка и Лыска.
Франтишек Брана шопотом называл каждую по имени, все вдруг стали близки ему, даже милы, честное слово!
А сейчас, смотрите-ка, уже бегут Вашек Петрус и его семнадцатилетняя дочь – белокурая Еленка. Вашек тащит на цепи норовистую телку Форельку, которая вечно бодается, но обещает стать хорошей дойной коровой, он прилагает всю свою богатырскую силу, чтобы корова не кинулась на музыкантов. Рядом с Еленкой спокойно, как бы под музыку, покорно шагает старая Попелка, которая известна всей деревне под прозвищем «Партизанка».
У нее, действительно, необыкновенная судьба.
В феврале сорок пятого года, когда партизанский отряд «Серп и молот», действовавший в то время в лесистых Гржебенах, страдал из-за отсутствия продовольствия, связной Вацлав Петрус отдал партизанам одну из своих двух коров. Он привел Попелку в еловую поросль под Волчьей скалой, привязал корову к дереву в условленном месте и доставил домой из леса воз хвороста с помощью одной только Калины.
Но в тот же день разведка захватила отставший немецкий военный грузовик, в котором оказалось десять ящиков мясных консервов. Это спасло жизнь Попелке. Партизаны подружились с ней, отрыли для нее в горе под Волчьей скалой землянку, хорошо замаскированную пустым еловым лапником, сделали подстилку из мха. Партизаны кормили корову сеном и соломой, взятой с собственных нар, а сами спали на голых досках и поили больных теплым, припахивающим дымом костра молоком вместо лекарства. Так Попелка прожила под Волчьей скалой три месяца, пока отряд вел наиболее напряженные бои с оккупантами, а десятого мая партизаны вернули корову хозяину.
– Партизанка вернулась! – радостно закричала одиннадцатилетняя Еленка.
Отец тут же строго остановил ее и сказал, что не годится называть корову таким почетным именем. Но вмешался разведчик партизанского отряда Толя, теперь в форме старшего лейтенанта:
– А почему бы не назвать ее так, Вячеслав? Была она у партизан? Была! Помогала отряду? Помогала! Может, (Она не одного человека спасла от смерти.
Между тем стадо коров заполнило уже всю середину двора.
Франтишек с трудом пересчитывал их озабоченным взглядом, потому что коровы переходили с места на место, порядок ежесекундно нарушался. Только одно было ясно Бране: его коров здесь все еще не было. Куда пропала Анежка? Ведь по местной радиосети в три часа было объявлено, что начинают приводить коров. Франтишек нарочно послал к микрофону, установленному в местном национальном комитете, надежного партийца, шахтера Костинка, и сам слышал его голос из репродуктора.
Что же случилось дома? Почему Анежка запаздывает? Правда, ей нужно идти через всю деревню, но жена председателя не имеет права опаздывать. Он встревожился: как я могу начать свою речь, когда еще нет моих коров? Это все видят. Я слышу, как уже шушукаются наши недоброжелатели: речь-то принес, конечно, с собой в кармане, а собственных коров позабыл дома! Может быть, случилось что по пути сюда… На Ягоду иногда находит – она начинает бодаться, брыкается ни с того ни с сего. Побежать навстречу?
Нет! Председатель должен оставаться на месте. Как может он заставить членов кооператива ждать? Как может он убежать от секретаря окружного комитета? А что скажет Станда? Ведь должен же он видеть… Франтишек заглянул в глаза своему верному другу и понял, что тот встревожен не меньше.
Начну, как только кончится музыка, решил Франтишек. И он нервно сунул руку в карман пиджака, чтобы убедиться, что конспект речи на месте. Он должен говорить… если даже будет трудно.
Но корнет-а-пистон Гонзы еще тянул на высокой ноте последние такты, когда в ворота рысью вбежали Ягода и Луцина. На шеях испуганных коров были надеты венки с красными бантами, неумело сплетенные из темно-зеленых еловых ветвей. Коров на короткой веревке вел мальчик, крепко вцепившись в нее.
Смуглый черноволосый Лойзик Брана в белоснежной рубашке, с красным пионерским галстуком на шее сразу бросился всем в глаза, так же как и Власта Лойинова. Казалось даже, что все это сделано нарочно, чтобы конец был таким же красивым, как и начало.
– Славный у тебя парнишка, Францик! Мальчуган держится молодцом! – обрадованно шепнул Станда Марек.
Радость охватила Брану. Не подвел Лойзик, так я и знал! И как он красиво убрал коров мальчишескими неловкими руками. Бели бы только было можно, Франтишек обнял бы его в эту минуту, так что у сына захрустели бы косточки, поцеловал бы его в ясный лоб: «Лойзик, озорник, как я тебя люблю!»
Но на это нет времени. Музыканты, красные от натуги, в третий раз повторяют польку, вот-вот должны кончить.
«Теперь у тебя все в порядке, Франтишек!»
Он еще раз окинул взглядом собравшихся и увидал, что на него все смотрят. Старый Маковец глядит на него строго, испытующе, как будто снова и снова спрашивает, в какие же руки он вручил свою судьбу, Подроужек мрачно щурится, жена Грунта смотрит жалобно и недоверчиво, плотник Ирка Шоуна, хороший партиец и товарищ, вместе с которым Франтишек получал щелчки в школе, ободряюще подмигивает: не ударь лицом в грязь, Франции! В темных глазах Власты горит уверенность.
Взгляды крестьян жадно устремляются ему в лицо: все жаждут услышать живое, правдивое, пламенное слово, которое сожжет, испепелит неуверенность и разопреет кровь верой в успех. Франтишек Брана смотрит на своего четырнадцатилетнего сына. Как пылает его лицо! Каким по-детски чистым огнем светятся его глаза! Ради вас, дети, ради вашей прекрасной жизни, ради вашего счастья стоит бороться до конца, до последнего вздоха, до победы!
И тут растерянность, которая обычно гнетет Франтишка перед каждым его выступлением, внезапно исчезает. Он машинально засовывает руку в карман, нащупывает свои записочки, без которых чувствует себя неуверенно перед слушателями, и мысли его внезапно приобретают стройность: все, что он утром придумал, сидя за столом и грызя, как школьник, карандаш, ничего не стоит перед словами, которые просятся сейчас на язык, рвутся из самого сердца…
Подохла щука, да зубы целы
Заходящее солнце, чистое и необыкновенно большое, низко висело над лесистым горизонтом. Липы отбрасывали длинные мягкие тени на правильный квадрат деревенской площади. На самой высокой липе свистел взъерошенный черный дрозд, хорошо видный среди обнаженных ветвей. Сизый дымок поднимался из печных труб в безветренном воздухе прямо вверх удивительно тонкой струйкой, золотясь в солнечных лучах. Робко, дребезжащим голосом, точно музыкант, впервые после нескольких лет перерыва прикасающийся к инструменту, попробовала квакать в пруду посреди площади первая весенняя лягушка. Но едва она во второй раз повторила свое «ква-ква-ква», как кто-то из парней, сидящих под липами, поднял камень, швырнул его в воду, высоко всплеснувшуюся и забрызгавшую каменную дамбу.
– Не мешай дрозду, эй ты, бесстыдница! Свирель у него получше, чем у тебя!
На длинной дубовой скамье на другом берегу пруда сидели непршейовские девчата, обившись в «учу вместе с подружками из соседней деревни. Они дрожали от холода, но разговору не было видно конца. Они жались все ближе друг к другу, словно гусята в корзинке, болтая вполголоса о танцевальном вечере, который устраивает сегодня сельскохозяйственный кооператив. Не рано ли будет, если они придут туда в половине восьмого, как сказано в объявлении? – беспокоились девушки из соседней деревни.
– Мы можем! Сегодня нам уже не надо ни доить, ни убирать в хлеву! С одной-то коровой, которая осталась дома, и мамаша управится! – хвалилась глазастая, вечно смеющаяся, болтливая, как сорока, Вера Микшова.
– А парни-то будут вовремя? Не придется нам стенки подпирать? Нарочно ждать бы не заставили!
– Не бойтесь! Непршейовские ребята всюду поспеют – и на работу, и на танцы!
От своего дома к компании парней торопливо шел Пепик Лойин. В руках он держал новую гармонику с блестящими перламутровыми клапанами. Из-под распахнутого черного шахтерского кителя с бархатными петлицами виднелась синяя рубашка члена Союза молодежи, на темные, жесткие, как проволока, вьющиеся волосы была надета пилотка со значком. Лицо у Пепика было еще почти детское, с неопределившимися чертами, с весело вздернутым носом и широкими ноздрями, а тело мускулистое, как у взрослого. Он был ударником-забойщиком на шахте «Железная» и приносил в дом ежемесячно не меньше семи тысяч крон.
– Я привык давать по сто тридцать процентов, это моя твердая норма, чорт возьми! – смеялся он с юношеским задором и еще часика два-три после смены с упоением играл в футбол.
– Ну, ребята, к кому мы пойдем? – закричал он на всю площадь.
– Иди сюда, Пепик! К нам! – весело позвали его девушки и мигом освободили местечко на скамье. Увидав, что Пепик в самом деле направился к ним, туда же, с противоположного берега пруда, потянулись и парни. Клубок девчат заволновался, расступился, парни шутливо оттаскивали подружек друг от друга и садились между ними, а те, кому не нашлось места на скамейке, обступили их полукругом и подхватили друг друга под руки:
– Какую-нибудь веселую, Пепик! «Кубанскую»! «Трактористку»! Нет, раньше «Партизана»!
Молодой, сильный голос, не ожидая, когда заиграет гармоника, запел:
Голодный, оборванный, сумрачным днем
В горах, и в лесах, и в степной стороне
С винтовкой в руке и в сердце с огнем
Летит партизан на коне.
Хор подхватил мелодию после первых же тактов, высокие девичьи голоса взвились над мужскими баритонами и басами, и песня полилась по всей площади.
– Тише, девушки, поберегите голоса до вечера! – восклицал Пепик, стараясь перекричать гармонику и нисколько не заботясь о своем собственном голосе.
Из ворот усадьбы непршейовского единого сельскохозяйственного кооператива вышли три человека и, занятые разговором, медленно двинулись вдоль высокого забора. В середине шагал, подталкивая свою явичку, секретарь окружного комитета Бурка, справа шел Станда, слева – Франтишек Брана. Нет, ему, Бурке, очень досадно, что на вечеринку он не останется, хотя с удовольствием бы и сделал круг под музыку непршейовского оркестра.
– Зато после уборки, товарищи, потанцую от всей души! Я предполагаю, что ваш кооператив выйдет на первое место в округе, и тогда мы приедем к вам на дожинки всем окружным комитетом!
– Значит, по рукам! – мигом протянул Франтишек правую руку.
– За то, что вы будете первыми?
– Само собой! И дожинки отпразднуем! Закачу тебе такое соло, что из тебя и дух вон от пляски! Наши девушки это сумеют сделать, дай им только дорваться; недаром говорят, что непршейовские девчата черта переплясали!
У грубо оштукатуренной ограды усадьбы стоит высокая прямоугольная плита из полированного непршейовского гранита, испещренная черными и белыми крапинками. Все трое невольно остановились, дойдя до этого места. Под золотой пятиконечной звездой, искусно врезанной в поверхность камня, по-чешски и по-русски написано:
Старшина Красной Армии
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ МОСКВИН
и чехословацкий партизан
ПЕТР ЛОЙИН из НЕПРШЕЙОВА
пожертвовали своей жизнью
в бою с врагами
Под грубо обработанной гранитной плитой братская могила. На ее шершавую поверхность положен пучок темно-зеленых еловых веток с длинными желтовато-коричневыми шишками. Из-под игл выступили мелкие прозрачные капельки смолы: кажется, лес оплакивает героев.
– Это временно, – показал Франтишек Брана Бурке на деревянную ограду, выкрашенную красной краской, – к следующей годовщине мы обнесем могилу оградой из нашего непршейовского гранита. Товарищи из каменоломни пообещали сделать это в неурочное время.
– Не получится тяжеловесно?
– Ты не знал Петра Лойина! Он любил наш гранит, как хлеб! А как он его понимал! Такие блоки, как он, не сумеет теперь выломать никто!
Когда бы ни шел Станда Марек мимо этого памятника, поставленного в то время, когда он еще лежал в больнице, им всегда овладевало внезапное беспокойство.
– Что ни говори, товарищ Бурка, а мне эта надпись не по душе! «Пожертвовали своей жизнью…» Это совсем не подходит! Неправильно сказано! Если бы надпись вырезывал Петр Лойин, он, наверно, перечеркнул бы эти слова. Что еще за жертва, сказал бы он. Мы до конца выполнили свой долг. Но фашисты дорого поплатились, прежде чем добрались до нас. Он написал бы: «Да здравствует вечная дружба с Советским Союзом!»… или что-нибудь, в этом роде. А здесь видишь: «… в бою с врагами…» ни рыба ни мясо. Тут должно было стоять: «Против фашизма, за новую жизнь!» Чтобы люди сразу видели, что это не обыкновенная могила. Не плакать мы будем здесь, а укреплять свой дух, сердце! – голос Станды окреп от возмущения.
Карел Бурка, наморщив лоб, внимательно посмотрел на зеркальную поверхность гранита и несколько раз перечитал надпись:
– Ты прав, Станда, – это не обыкновенная могила!
Он обнял Франтишка Брану за плечи и дружески притянул к себе:
– Обдумайте это хорошенько, товарищ Брана. Когда станете делать гранитную ограду, вам нужно будет добавить сюда такую фразу, которая бы все объяснила. Жаль, что вы не додумались до этого раньше, когда утверждали надпись для памятника!
Франтишек Брана отозвался с некоторой горечью:
– Утверждали… Ты ведь знаешь, как это тогда выглядело… Шмерда написал на клочке бумажки, принес в партийную организацию и сказал: «Я, как председатель ячейки и член окружного комитета, полагаю, что так будет хорошо. Кто против?» И мы, остальные члены партийного комитета, в ответ просто кивнули.
Светло-голубые глаза Карела Бурка понимающе блеснули: ну, эти старые непршейовские болезни остались позади. Под руководством Марека дела в партийной организации ведутся иначе! Но тут же он прищурился:
– Знаешь, ты мне напомнил: почему, собственно говоря, товарищ Шмерда, председатель местного национального комитета, не присутствовал на празднике? Вы его позвали?
– То-то и оно, что звали! Я даже письменное приглашение послал, хоть и пишу не больно хорошо. И после обеда к нему еще раз зашел узнать, не захочет ли он тоже выступить. Он лежал в постели, кряхтел от боли. Дескать, его ревматизм всего ломает. Говорит, что заполучил его в таборском гестапо, когда голый пролежал на бетонном полу несколько часов – откровенно рассказывал Франтишек Брана.
Но Станда вдруг резко перебил:
– Ревматизм! Знаю я его ревматизм! Он схватывает Шмерду, когда ему это нужно! Просто не захотелось прийти! Пустой человек, любит дуться!
При этом внезапном нападении Карел Бурка насторожился. Конечно, нелегко иметь дело с товарищам Шмердой, который до последних перевыборов был председателем местной организации КПЧ. Как раз в то время, когда Бурка стал секретарем в Добржине, ему пришлось разрешать конфликт в Непршейове. Шмерда организовал здесь ячейку коммунистической партии и, самое главное, вначале положил немало сил на это дело. Он неутомимо ходил на собрания, хорошо выступал, агитировал, одно время был членом и окружного комитета, проявил себя прекрасным организатором. Его уважали: он сидел при первой республике за политику, сражался в партизанском отряде «Серп и молот», умел резко, по-боевому выступить против реакционеров и предателей, которые начали потихоньку выползать из щелей. Казалось, что этому опытному пятидесятилетнему человеку, прослужившему не один год в армии, не так-то легко вскружить голову. И тем не менее дело кончилось именно так.
Чем дальше, тем чаще можно было слышать, как вместо «Мы, непршейовские коммунисты…» он даже на собраниях окружного комитета партии говорит: «Я в Непршейове…»
– Разве ты – организация? – в шутку спрашивали его по началу.
Но он отвечал совершенно серьезно:
– Так уж как-то получается… с теми людьми, которые там у меня: Брана – олух и тяжел на подъем, Марек – болтун, Тонда Когоут – путаник, Гавран – пьет, Власта Лойинова – сами знаете, баба, во все нос сует, и всегда без толку! Не будь меня, не знаю, что они там и натворили бы…
– А ты воспитываешь людей? Готовишь новые кадры? Учишь их работать?
– Разве их воспитаешь? Какое поручение ни дай, непременно все не так сделают!
В сорок восьмом году, отчитываясь впервые в своей работе, Шмерда признал критику товарищей правильной. Он обещал изменить курс, углубить свою работу с кадрами. Он исключил из партии пять или шесть человек за пассивность, главным образом из безземельных крестьян, потому что они не посещали собраний и неисправно платили членские взносы. Но все осталось по-прежнему. При втором отчете, в пятидесятом году, он, в сущности, критики не принял. Формально он ее признал, но сказал со вздохом:
– Я считаю правильным все, что вы, товарищи, говорите по моему адресу. Я и сам иной раз порчу себе дело излишней принципиальностью. Но другим уж, вероятно, я не стану…
В январе этого года в непршейовской организации внезапно произошел конфликт. Шмерда, согласившись исключить из партии Драгоуна, владельца двадцати гектаров земли, перешедшего к коммунистам после февраля из партии лидовцев, одновременно рекомендовал единому сельскохозяйственному кооперативу взять его агрономом. Когда члены кооператива запротестовали, Шмерда заявил на партийном собрании:
– Партия учит нас тактике, товарищи. Идеология – это одно дело. Тактика – это другое дело! Мы правильно сделали, что исключили Драгоуна из партии. Он не подходит нам по своей идеологии. Но почему же не взять его в кооператив? Мы не имеем права нападать на зажиточных. Тактика есть тактика, товарищи! Привлекли такого, так используй его знания и способности, перевоспитай! На своих полях он всегда собирал самый лучший урожай в Непршейове. Почему бы он не мог делать то же самое и на полях кооператива?
Эти слова вызвали бурю, все зашумели, как рой пчел:
– Потому что он хуже собаки! знаешь, что ли, как он брал людей за глотку?
– Потому что он не наш! Это враг! Кровосос!
– Он погубит кооператив, и оглянуться не успеем.
Шмерда ласковым, вкрадчивым голосом попытался утихомирить собрание:
– Опять вы преувеличиваете! С плеча рубите, товарищи! В сущности, это хороший человек, любит народ, ему мешает только классовое происхождение. Собственно говоря, он не может отвечать за то, что родился в зажиточной семье. Там он тоже с малых лет надрывался, как лошадь!
Дед Матоушек, сидевший в углу у печки, резко сказал:
– Черного кобеля не отмоешь добела!
Тогда, после этого собрания, в половине двенадцатого ночи, через сугробы, несмотря на вьюгу, которая буквально сбрасывала с велосипеда, Брана прикатил прямо в добржинский окружной секретариат-партии. Там еще работали.
– Ты с ума сошел? Само собой понятно, что правы вы, а не Шмерда! Но разве нельзя было подождать до завтра? Схватишь еще воспаление легких!
– Нет, нельзя! Если бы не поехал я, так Станда Марек прискакал бы сюда на одной ноге. Товарищи ждут меня в трактире, не хотят расходиться, пока я не вернусь и не сообщу им ваше мнение. Отложить до завтра, – может, и кооператива не увидеть больше!
У Карела Бурки позади был трудный день – три собрания, два инструктажа, а утром он должен был поехать в Прагу в краевой комитет. Глаза у него слипались от усталости, мозг порой отказывался работать, как перегруженный мотор.
– Ну, если дело обстоит так, как ты говоришь, – поедем!
Он надел шубу, велосипед Браны оставили в поселке, и в первом часу ночи они подъехали к непршейовскому трактиру. В окнах за занавесками мигал огонек. Ждут… За столами оказалось втрое больше народу, чем при отъезде Франтишка. Все непршейовские коммунисты – шахтеры, каменотесы и крестьяне – сидели здесь, ожидая, что же будет?
– Вы правы, товарищи! Вы хорошо защищаете линию партии, а товарищ Шмерда на этот раз крепко ошибся!
Это была решительная минута в жизни непршейовского кооператива и непршейовской партийной организации. Люди, радостно улыбаясь друг другу, расправили плечи. Сознание, что они были правы и сумели доказать свою правоту, спаяло их в еще более прочный коллектив. Карел Бурка вдруг забыл о своей усталости, радость, электрическим током пробегая через все сердца, коснулась и его. Как хорошо у нас растут верные кадры! Наша партия крепнет!
– Партия наша мудрая! – пожимали люди друг другу руки, выходя с собрания на ночной холод, усталые, но радостно взволнованные.
На следующий день на постройку общественного скотного двора явились восемь новых работников – шахтеры и каменотесы.
– Поможем кооперативу! Ведь это тоже наше дело!
Когда Карел Бурка выходил из трактира, Шмерда схватил его за рукав у выхода и отвел в сторону, к забору соседней хаты.
– Сразу видно, что у тебя еще мало опыта в партийной работе, – с горечью сказал Шмерда.
Он был на две головы выше Бурки, вдвое шире в плечах и стоял над Буркой, как учитель, делающий выговор ученику.
– А если я, от души желая помочь кооперативу стать на ноги, совершил политическую ошибку, ты должен был сказать мне об этом по-хорошему, тактично, с глазу на глаз. Разве между руководящими работниками партии так делается? Недопустимо, чтобы один подрывал доверие к другому. Как я стану теперь председательствовать в Непршейове! Ты подумал об этом?
– Самое лучшее, товарищ Шмерда, если ты сложишь свои обязанности председателя. Продолжай руководить национальным комитетом, все равно ты был перегружен работой в двух местах. – Карел Бурка сказал это тихо, но решительно: нужно во что бы то ни стало добиться этого в окружном комитете.
Шмерда от слов Бурки прямо зашатался, словно его ударили поленом по голове.
– Я?! Сложить свои обязанности?! Этим ты погубишь партию!
– Нет, товарищ Шмерда! В Непршейове у партии достаточно сил. В этом ты мог убедиться сегодня. Она крепче и здоровее, чем ты считаешь.
Шмерда отвернулся и, даже не подав Бурке руки, ушел, понурившись, как больной. Ячейка выбрала председателем Станду Марека. Шмерда остался на посту председателя местного национального комитета. Казалось, он образумился, подтянулся в работе: служебные дела были у него в безупречном порядке.
«Сейчас Шмерда нуждается в помощи!», – говорит себе Карел Бурка при неожиданных словах Станды. У Станды все-таки горячая голова. Лично он, наверно, на Шмерду и не сердится, но и товарищеской помощи, вероятно, тоже не оказывает. Я не имею права допустить, чтобы Шмерда затаил в душе горькую обиду, эту ужасную язву, которая точит человека изнутри.
– Послушай, товарищ Марек, – дружески заглянул он в лицо Станде своим правдивым, пристальным взглядом, – а вы сами не толкаете Шмерду на путь изоляции? Он сейчас, как воз, из которого выпрягли коней и бросили бесцельно стоять посреди деревенской площади. Говорите ли вы с ним когда-нибудь по-дружески, есть ли у него партийные поручения, получает ли он от вас советы по работе, помогаете ли вы ему? Даете ли вы понять, что партия с ним считается, хотя он и допускал раньше много ошибок?
Станда Марек смутился. Он крепко стиснул челюсти, так что на скулах у него выступили желваки. Он молча постоял несколько секунд, весь напрягся, но все-таки пересилил приступ внезапного раздражения. Он схватил Бурку за руку, стиснул ее и задержал в своей широкой руке каменщика, потом, глядя в светло-голубые глаза Бурки, тихо сказал:
– Даю тебе слово, товарищ Бурка, что все сделаю. Я ошибался, пренебрегал им. Ты прав, я иной раз предпочитал обойтись без Шмерды. Я знаю, что он способный человек, и для нашей работы было бы вредно, если бы он совсем отвернулся от нас… Но должен признаться тебе по чистой совести в одном: я не могу побороть в себе то, что засело у меня в голове…
Он остановился на середине фразы, точно у него захватило дух, с трудом проглотил слюну и только молча беспомощно махнул рукой.
– Ты не очень его любишь, так? – хотел помочь ему Бурка.
Но Станда молча, с решительным видом, покачал головой:
– Нет, дело не в этом. Люблю – не люблю… Ведь мне его никто не сватает, он мне не невеста…
– Так что же тебе мешает? Скажи напрямик, как партиец партийцу!
– Напрямик, так напрямик… – вздохнул Станда. – Я сказал тебе, что у меня это внутри сидит… Не верю я Шмерде.
Он еще раз крепко, до боли, встряхнул руку Бурке, пожал ее, сказал поспешно: «Честь труду!» – и быстро, словно у него не было протеза, перебежал через площадь к своей хате.
Карел Бурка удивленно посмотрел на Франтишка:
– Какая муха укусила Станду, скажи на милость? Вышло у них что-нибудь со Шмердой?
Франтишек Брана пожал плечами. Выходка Станды его рассердила, хотя он и сам, по совести говоря, совсем не жаловал Шмерду. Тут весь Станда: он, вероятно, хотел сказать, что не понимает Шмерду, а вместо того выпалил такую глупость. Видя, что Бурке стало не по себе, Франтишек обнял его за плечи и сказал со свойственной ему успокаивающей рассудительностью:
– Только ничего не опасайся, товарищ Бурка. Станда – парень хороший и надежный член партии. Как гранит. Через полчаса он сам будет недоволен тем, что сказал тебе. Он обдумает твои слова и будет ими руководствоваться. И я сам ему помогу, чтобы он научился больше доверять людям. У меня все-таки побольше опыта и терпения…
Карел Бурка сел на мотоцикл, завел мотор, протянул Франтишку руку на прощание:
– Спасибо тебе, товарищ Брана. За скотный двор и за… остальное. Я знаю, что работы тебе хватает, но должен дать еще одно задание: помогите товарищу Шмерде пересилить свою обиду, чтобы он не чувствовал себя отщепенцем, привлекайте его больше к партийной работе… окажите ему доверие – и вы сами увидите, какие хорошие результаты это даст!
– Положись на нас! – искренне пожал ему руку Брана. – Я знаю, что люди – наше главное богатство. Мы не потратим зря… ни единого зернышка! Мы должны быть настоящими хозяевами! Да, хозяевами!
* * *
За калиткой Станда замедлил шаг. На лбу выступил холодный пот, так что пришлось прислониться к ограде, чтобы не поддаться охватившей его слабости. Он почувствовал острую, колющую боль не только там, где была зажившая рана, но и ниже, в несуществующих икре и ступне, как будто живые нервы пронизывали весь протез. Сердце готово было выскочить, воздуха не хватало, Станда не мог даже перевести дух. Словно в тумане он услыхал удаляющийся треск мотоцикла Бурки и тихие, приглушенные звуки гармоники на площади. Земля уходила из-под ног; нет, я не имею права упасть, не смею падать в обморок: мать, пожалуй, перепугается до смерти.
В конце концов ему удалось одолеть приступ слабости. Он начал глубоко дышать, чтобы восстановить силы, вытер носовым платком взмокший лоб и только после этого медленно заковылял по крыльцу к дверям дома. У окна он выпрямился и, пересиливая боль, прошел эти три шага прямо, как солдат.
– Станик! На кого ты похож? Ты же совсем зеленый! – выскочила из-за стола вдова Марекова и слабыми старческими руками в беспокойстве обняла сына.
– Это ничего, мамаша… я просто устал от длинной дороги. Полежу часика два и опять буду как ни в чем не бывало. Мы еще потанцуем с тобой вечером!
Сколько сил ему потребовалось на одну эту нехитрую шутку.
Но мать он все-таки успокоил. Она отвернулась к плите, помешала горящие угли и застучала тарелками в буфете.
– Есть хочешь? Я приготовила твои любимые картофельные кнедлики с капустой.
– Нет, спасибо, лучше после…
Он повалился на постель в своей комнатушке, снова пересиливая слабость. Положив руку на левую сторону груди, Станда почувствовал бешеные удары сердца прямо под рукой, как будто оно во что бы то ни стало хотело выпрыгнуть из тела. И опять ему показалось, что он падает навзничь в глубокую пустоту.








