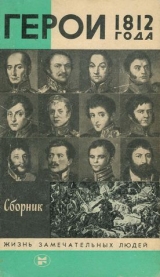
Текст книги "Герои 1812 года"
Автор книги: Вольдемар Балязин
Соавторы: Владимир Левченко,Валерий Дуров,Владимир Тикыч,Вячеслав Корда,Лидия Ивченко,Борис Костин,Борис Чубар,Александр Валькович,Виктор Кречетов,Марина Кретова
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 43 страниц)
В лагере французов
«…Не более как через полчаса довели меня до места, где находился неаполитанский король Мюрат, как известно, командовавший авангардом и кавалериею неприятельской армии. Мюрат тотчас приказал своему доктору осмотреть и перевязать раны мои.
Потом спросил меня, „как силен был отряд наших войск, бывших в деле со мною“, и когда я ему ответил, что нас было в сем деле не более 15 000, то он с усмешкою сказал мне: „Говорите другим, другим! Вы были гораздо сильнее этого“, на что я ему не отвечал ни слова. Но когда он мне стал откланиваться, то я вспомнил, что покуда меня вели до него, то храбрый мой Этиен, услыша от меня несколько слов по-французски, начал меня убедительно просить, чтобы, когда я буду представлен неаполитанскому королю, замолвил бы о нем хотя одно слово, которое, конечно, сделает его счастливым. Я не хотел ему платить злом, откланиваясь королю, сказал, что имею к нему просьбу.
– Какую? – спросил король. – Я охотно сделаю угодное вам.
– Не забыть о награждениях офицера сего, который меня к вам представил.
Король усмехнулся, и, поклонясь, сказал мне:
– Я сделаю все, что только можно будет, – и на другой день г. Этиен был украшен орденом Почетного Легиона.
Король приказал отправить меня, в сопровождении адъютанта своего, в главную квартиру императора Наполеона, находившуюся в г. Смоленске. С большим трудом переправились мы через сожженный нами городской на Днепре мост, который кое-как французами был уже исправлен. В глубокую полночь привезли меня в Смоленск и ввели… в комнату довольно большого каменного дома, где оставили меня на диване».
Первые дни плена
«…На другой день поутру явился ко мне известный всем главный доктор французской армии Ларрей. Он осмотрел и перевязал раны мои, и так как лично я его не знал, то объявил мне между прочими своими рассказами, что он главный доктор армии, что он был с Наполеоном в Египте и что он также имеет генеральский чин. Расспрашивая меня или, лучше сказать, сам мне все рассказывая, он спросил меня, не знавал ли я когда в Москве доктора Митивье? Когда я ему отвечал, что я его очень хорошо знал и что даже лечился у него в Москве, то он предложил мне, не хочу ли я его видеть, ибо он находится в Смоленске при главной квартире армии, и потому он может тотчас прислать ко мне. И в самом деле через час явился ко мне г. Митивье, коему я весьма был рад, ибо он один был из всех тогда окружавших меня, коего я знавал когда-нибудь. <…>
На третий день поутру вошел ко мне французский генерал Дензель, комендант главной квартиры Наполеона, и, между прочим, сказал мне, что он имеет приказание узнать от меня, куда я хочу быть отослан, ибо по причине совершенного разорения Смоленска оставаться в оном мне никак невозможно. Я отвечал ему, что для меня все равно, где б мне ни приказано было жить, и что я в положении моем располагать собою не могу; но если сие сколько-нибудь зависеть будет от моего желания, то я хотел бы только того, чтоб мне не было назначено местопребывание в Польше; во всяком же другом месте для меня все будет равно, только чем ближе будет к России, тем лучше, а потому, если бы можно было, я хотел бы, чтоб меня отослали в Кенигсберг или Эльбинг, уверяя, что я в обоих сих городах могу жить очень покойно и приятно, что я и предоставил совершенно на волю его. <…> Под вечер того дня, когда я сидел в моей комнате один, размышляя о горестном положении моем, на дворе уже было довольно темно, дверь моя отворилась, и кто-то, вошед ко мне в военном офицерском мундире, спросил меня по-французски о здоровье моем. Я, не обращая большого внимания, полагая, что то был какой-нибудь французский офицер, отвечал ему на вопрос сей кое-как, обыкновенною учтивостью. Но вдруг услышал от него по-русски: „Вы меня не узнали, я Орлов, адъютант генерала Уварова, прислан парламентером от главнокомандующего с тем, чтоб узнать, живы ли вы и что с вами сделалось?“ Сердце во мне затрепетало от радости, услышав неожиданно звук родного языка;я бросился обнимать его, как родного брата. Орлов рассказал мне беспокойство на мой счет моих братьев и главнокомандующего, ибо никто в армии нашей не знал, жив ли я еще и что со мной случилось. Предавшись полной радости и считая, что никто не будет понимать нас, если будем говорить по-русски, я стал было ему рассказывать разные обстоятельства, касавшиеся до военных наших действий, но вдруг отворилась дверь, и из-за оной показалась голова. Это был польский офицер, проведший ко мне Орлова, который напомнил ему, что на сей раз более он оставаться у меня не может; и я должен был с ним расстаться. При прощании нашем Орлов обещал мне, получа депеши, прийти еще раз проститься со мною; но, как я после узнал, сделать ему сего не позволили, и я уже более не видал его.
На пятый или шестой день после несчастного со мной происшествия вошел ко мне молодой человек во французском полковничьем мундире и объявил мне, что он прислан ко мне от императора Наполеона узнать, позволит ли мне здоровье мое быть у него, и если я сделать сие уже в силах, что он назначит мне на то время…»
Встреча с Наполеоном
«Перед домом бывшим Смоленского военного губернатора, где жил Наполеон, толпилось множество военных…
…Лакей впустил меня одного в ту комнату, где был сам император Наполеон с начальником своего штаба.
У окна комнаты, на столе, лежала развернутая карта России. Я, взглянув на оную, увидел, что все движения наших войск означены были воткнутыми булавочками с зелеными головками, французских же – с синими и других цветов, как видно, означавшими движение разных корпусов французской армии. В углу близ окна стоял маршал Бертье, а посреди комнаты император Наполеон. Я, войдя, поклонился ему, на что и он отвечал мне также очень вежливым поклоном. Первое слово его было:
– Которого вы были корпуса?
– Второго, – отвечал я.
– А, это корпус генерала Багговута!
– Точно так!
– Родня ли вам генерал Тучков, командующий первым корпусом? [13]13
Третьим корпусом – ошибка автора (издателя).
[Закрыть]
– Родной брат мой.
– Я не стану спрашивать, – сказал он мне, – о числе вашей армии, а скажу вам, что она состоит из восьми корпусов, каждый корпус – из двух дивизий, каждая дивизия – из шести пехотных полков, каждый полк – из двух батальонов, если угодно, то могу сказать даже число людей в каждой роте.
Потом, помолчав несколько, как будто думая о чем-то, оборотясь ко мне, сказал:
– Со всем тем, что его (Александра I. – М. К.) очень люблю, понять, однако же, никак не могу, какое у него странное пристрастие к иностранцам, что за страсть окружать себя подобными людьми, каковы, например, Фуль, Армфельд и т. п., людьми без всякой нравственности, признанные во всей Европе за самых последних людей всех наций? Как, неужели бы он не мог из столь храброй, приверженной к государю своему нации, какова ваша, выбрать людей достойных, кои, окружив его, доставили бы честь и уважение престолу?
Мне весьма странно показалось сие рассуждение Наполеона, а потому, поклонясь, сказал я ему: „Ваше величество, я подданный моего государя и судить о поступках его, а еще менее осуждать поведение его никогда не осмеливаюсь, я солдат, и, кроме слепого повиновения власти, ничего другого не знаю“». <…>
На вопрос, может ли Тучков писать государю, Павел Алексеевич ответил отказом, но согласился написать брату. Наполеон просил его в письме оговорить то, что французский император желает только мира и предлагает вступить в переговоры. Письмо было написано и отправлено в главную квартиру. Ответа Наполеон не получил. «Продержав меня у себя около часу и откланиваясь, он советовал мне не огорчаться моим положением, ибо плен мой мне бесчестья делать не может. Таким образом, как я был взят, – сказал он, – берут только тех, которые бывают впереди, но не тех, которые остаются назади».
Из Смоленска Павел Алексеевич был отправлен во Францию. Известие о гибели двух братьев, Николая и Александра, которых в последний раз он видел перед сражением под Лубином, застало его в дороге. Тяжело пережил он эту весть. Сердце его рвалось в Россию, домой, хотелось утешить мать в этот страшный час, но колеса дорожной кареты уносили его все дальше из родных мест, и изменить свою судьбу он был не волен.
Во Франции некоторое время он прожил в Меце, затем переехал в Соассон, потом в Ренн. К сожалению, ничего не известно о том, как прожил он эти годы, но то, что он испытывал при этом, испытывал и испытывает до сих пор всякий русский, которого отрывают от родной земли.
В 1814 году русские войска вступили в Париж, и П. А. Тучков явился к императору. Александр всячески обласкал старого воина и немедленно предоставил ему отпуск.
Встреча с матерью была полна печали, и радость свидания с сыном не могла ее рассеять. Казалось, ничто не могло вывести Елену Яковлевну из состояния душевной опустошенности. Удар, обрушившийся на нее смертью двух сыновей, оказался слишком тяжелым. Она утратила способность видеть и радоваться всему земному.
В 1815-м Тучков вновь возвращается на военную службу и участвует в походе во Францию.
В 1819 году Павел Алексеевич Тучков просит императора об отставке, ссылаясь на состояние здоровья. Также причиной ухода его от военных дел служит его женитьба на дочери тайного советника Неклюдова. Теперь он намерен посвятить свою жизнь жене, будущим детям, дому и хочет уехать в свою подмосковную деревню.
В 1826 году Николай I по случаю своей коронации жалует Павла Алексеевича чином тайного советника и назначает почетным опекуном Московского опекунского совета.
В 1828 году он становится сенатором, и его гражданская служба продолжается. В 1838 году избирается членом Государственного совета и председателем Комиссии прошений. За службу на этой должности ему объявлена монаршая признательность. До последних дней своей долгой жизни Тучков находился на гражданской службе.
Умер Павел Алексеевич Тучков 24 января 1858 года, 83 лет.
Александр
«…Я отступил после всех»
Начать эту главу о самом младшем из братьев Тучковых хотелось бы с такого портрета-характеристики:
«С красивой наружностью, Александр Алексеевич соединял душу возвышенную, сердце благородное, чувствительное, ум, обогащенный плодами европейского просвещения. Часто задумывался он и мечтал, склонив свою голову на руку, но воспламенялся, когда заводили речь о судьбе России, находившейся тогда в беспрестанных войнах. В сражениях он был распорядителен, хладнокровен, и нередко видали его с ружьем в руке, подающего пример храбрейшим».
Родился Александр Тучков 3 [14]14
В жизнеописании, составленном А. И. Михайловским-Данилевским, – 7 марта 1777 года.
[Закрыть]марта 1778 тода в Киеве, куда отец его был назначен служить и где его старший брат Сергей уже сочинил свои первые стихи. Воспитывался Александр, как и все его братья, в родительском доме, так что были в его детстве и дьячок с букварем, и пастор с немецким и латынью, и арифметика, и гувернер-француз, и география, и обучение делать учтивые поклоны и правильно держать себя в обществе.
Как и старшие братья, Николай и Павел, Александр был зачислен в артиллерию, где прослужил до чина полковника. В 1802 году, из-за неудачного сватовства к Маргарите Нарышкиной он уехал за границу и в мае 1804 года в Париже присутствовал при провозглашении Наполеона французским императором. Сохранилось письмо Александра Тучкова к родным: «…Казалось, что трибун Карно возразительную речь свою произнес под сверкающими штыками Наполеона. Туманно и мрачно было его лицо, но голос его гремел небоязненно…»
За границей Александр посещал академии, университеты и «другие просвещенные учреждения».
Необходимо заметить, что Александр Алексеевич в полковники был произведен в 22 года. Это сулило ему головокружительную карьеру, но по словам современников, «не надмило его». Вообще все Тучковы были просты в обращении с людьми самых разных социальных слоев.
Наверное, все они, и особенно юный Александр, мечтали о славе. И каждый лелеял в своей душе подвиг, который в результате и совершил. Но честолюбие таких людей прекрасно, потому что оно деятельно и по сути своей всегда направлено на общее благо. Это не то желание признания и власти, которое идет от сознания собственного превосходства, и для которого все пути к славе хороши, и цель готова оправдать любые средства к ее достижению. Душа Тучковых чиста и бережлива, поэтому все, что исходило от них, было хорошо, и не могло быть дурно.
В 1804 году Александр вернулся домой и в следующем году был переведен в Муромский пехотный полк. Первый в своей жизни бой Тучков принял в русско-прусско-французской войне в 1806 году, где командовал Таврическим гренадерским полком и особенно отличился в сражении при Голымине. Беннигсен, при составлении донесения Александру не забыл упомянуть о доблести полковника, который вместе с князем Щербатовым «под градом пуль и картечи действовал как на учении».
За отличие в кампании Александр был награжден орденом Владимира 4-й степени и Георгия 4-й степени. А также назначен шефом Ревельского пехотного полка.
С этим полком Тучков участвовал и в русско-шведской войне 1808–1809 годов, с ним в 1810 году и вошел командиром 1-й бригады в 3-ю пехотную дивизию Коновницына, которая отличилась в мае 1812 года в Вильне на Высочайшем смотре полков дивизии Коновницына, с ним защищал Молоховские ворота в битве за Смоленск 5 августа 1812 года, с ним бился под Лубином, и во главе своего Ревельского полка и Муромского 26 августа был послан братом Николаем на помощь князю Багратиону к деревне Семеновской, где впереди всего Ревельского полка со знаменем в руках, перед дрогнувшими от ураганного огня солдатами, был разорван на части ядрами и снарядами, обрушившимися на него со всех сторон и в один момент.
Но это все было потом, а пока Александр только вступил в новое звание и осматривал вверенный ему полк.
Необходимо отметить, что благодаря своим прекрасным душевным качествам он был с любовью принят солдатами.
В 1807 году Александр Тучков со своим полком участвовал в Фридландском сражении и сумел продержаться в течение трех часов против неприятеля, превосходящего силы русских.
В 1808 году генерал-майор Тучков со своим полком попал в корпус Барклая-де-Толли и воевал в Финляндии, где участвовал в кровопролитном бою при Иденсальми. А в кампании 1809 года был назначен дежурным генералом при Барклае-де-Толли. За особые отличия в этих кампаниях на тридцать втором году жизни он был произведен в генерал-майоры.
В 1811 году 33-летний Александр Алексеевич неожиданно просит императора об отставке, ссылаясь на состояние здоровья. На самом деле безграничная любовь к Маргарите Нарышкиной, в 1806 году ставшей его женой, и только что родившемуся сыну Николаю занимает все его мысли. А поскольку Тучковы умеют жить, целиком посвятив себя чему-нибудь, то Александр считает честным уйти теперь с военной службы и посвятить свою жизнь семье, поселившись в небольшом любимом им поместье в Тульской области. К тому же он жалел жену, которая изводила себя тревогами за его жизнь теперь более, чем когда-либо, потому что из-за рождения мальчика не могла уже следовать за мужем повсюду. Ее постоянная нервность и грусть передавались ребенку. Он рос слишком восприимчивым и слабым. Все это тревожило Александра, и страх, которого он стыдился и старался скрыть, страх потерять сына и оставить несчастной Маргариту, страх за них и страх за себя, свою жизнь, впервые показавшуюся ему ценной, из-за того, что ее так ценила Марго, заставил его принять решение об отставке и просить ее у Александра I.
Но император отклонил просьбу Тучкова, и к 1812 году Александр Алексеевич получил 1-ю бригаду 3-й пехотной дивизии Коновницына. Новые, ответственные обязанности отвлекли его от тревожных мыслей, и только по дороге в Смоленск, куда он шел вместе с армией Барклая-де-Толли для соединения, ночной страх жены, ее сон, бледность и слезы вернули его к прежним мыслям. Но он постарался прогнать их. Это было необходимо, чтобы успокоить Маргариту, придать силы для того, чтоб она смогла добраться до Москвы. Поэтому только раз коснулся его сердца холодок при слове «Бородино», коснулся и по приказу исчез, и всю душу наполнили мысли о любви, счастливой жизни под Тулой, о воспитании единственного сына. Успокоился Александр, успокоилась Маргарита, и на следующий день, прощаясь с ним перед отъездом, она улыбалась и крестила его на дорогу.
Во время движения соединившейся армии к Поречью, Александр Тучков находился в отряде брата Павла Алексеевича и, как уже известно читателю, участвовал в битве под Лубином, во время которой Павел Алексеевич был захвачен в плен. Братья знали от адъютанта Орлова, что Павлу сохранена жизнь, и надеялись, что после победы он сможет вернуться в Россию.
26 августа 1812 года Бородинская битва началась с массированного удара по левому флангу князя Багратиона. Не прошло и часа, как Багратион прислал Николаю Тучкову адъютанта с приказом о подкреплении у деревни Семеновской. Ни минуты не раздумывая о том, что можно не выполнить приказ командующего другой армией, Николай отправляет на помощь того, в ком более всех уверен – 3-ю пехотную дивизию Коновницына и с ней того, кем более всех дорожил, – младшего брата Александра.
Неприятель сумел завладеть Семеновскими флешами, когда подоспела дивизия Коновницына, и штыками выбила французов с занятой позиции.
Разъяренный неудачной атакой неприятель обрушил на сражающихся ураган ядер и картечи. Сотни солдат повалились на землю замертво. Ревельский полк дрогнул и стал беспорядочно отступать.
Стоны, крики не замолкали вокруг ни на минуту. Но Александру вдруг почудился женский крик, далекий и страшный. «Марго», – пронеслось в голове, но солдаты продолжали отступать, и Александр бросился вперед, чтобы их остановить.
– Да что же вы, ребята, неужто трусите? – прокричал он, но новое свинцовое облако картечи накрыло полк, и с перекошенными от ужаса лицами солдаты бросились уже врассыпную, не слушая своего командира.
– Ах, так! – хватая бегущих за мундиры, снова закричал генерал, и ярость исказила его лицо. – Боитесь, так я один пойду! Смотрите!
И с этими словами, не думая больше ни о чем, только «остановить!», он схватил дымящееся, брошенное на землю знамя своего полка и ринулся вперед.
«Картечь расшибла ему грудь… Множество ядер и бомб каким-то шипящим облаком обрушилось на то место, где лежал убиенный, взрыло, взбуровило землю и выброшенными глыбами погребло тело генерала».
– Ваше благородие, ведь убьют! – крикнул ему вслед какой-то остановившийся немолодой солдат, но в следующую минуту зажмурился от того, что увидел. – Ребята, да что же это, ура! – надрывно закричал он и со штыком наперевес побежал к месту, на котором только что находился его командир. – У-р-а! – закричали остальные, избегая глядеть друг другу в глаза, и все, кто остался в живых, побежали за старым солдатом…
Тучкову было в это время 34 года.
Вот словесный портрет Александра Алексеевича, который рисует нам поэт-ветеран Ф. Н. Глинка, участник Бородинской битвы, в «Очерках Бородинского сражения».
«Видали ль вы портрет генерала молодого, со станом Аполлона, с чертами лица чрезвычайно привлекательными? В этих чертах есть ум. В этих чертах, особливо на устах и в глазах, есть душа! По этим чертам можно догадаться, что человек, которому они принадлежат, имеет сердце, имеет воображение…»
Видно, что он «умеет задумываться и мечтать», но в пылу боя Александр Тучков – «чистый русский солдат».
Вот что в 1807 году после Фридландского сражения писал Александр своему любимому брату Николаю:
«Невзирая на ядра, картечи и пули, я совершенно здоров… Счастье вывело меня [невредимым] из боя. (Год назад Александр женился, и Маргарита сопровождала его в этом походе. – М. К.) …Я оставил поле сражения в 11 часов вечера, когда неприятельский огонь умолк. Я отступил после всех».
* * *
Читая исторические книги, мы часто видим, что мнение и оценка событий давно минувших более всего зависят от мнений и настроений автора, который их нам описывает.
Эпоха царствования Александра I была контрастна и выпукла своими противоречиями. С одной стороны, из документов следует, «что никогда в России дела еще не были так плохи, как во время правления Александра», – с другой – именно «незаметность» честных, умных людей, таких, как Тучковы, свидетельствует о том, что их было много.
Тучковы принадлежат к тем людям, которые в любых условиях, при любых обстоятельствах, не задаваясь головокружительными целями, честно делали свое дело, вкладывали в него ум, мужество, душу, жизнь.
1812 год проявил все лучшее в русской нации, в народе, в дворянстве. Так, под рукой реставратора на старой темной иконе проявляются древние, прекрасные черты.
В «Войне и мире» Л. Н. Толстой подробно и откровенно показал «александровское» дворянство. Так мечтателя нам представляет Пьер Безухов, корыстолюбцев и прожигателей жизни – Борис Друбецкой и Анатоль Курагин, а честных, верных и ответственных людей – семьи Болконских, Ростовых, Василий Денисов, Дохтуров. Есть удивительные совпадения в судьбе князя Андрея и двух братьев Тучковых, Николая и Александра, погибших под Бородином. В Аустерлицком сражении князь Андрей на высочайшем подъеме своих жизненных сил, во время паники в войске хватает знамя, бежит с ним вперед, увлекая за собой солдат и падает раненный. Так погиб в Бородинском сражении самый младший из семьи Тучковых Александр.
В Бородинской же битве князь Андрей стоял в резерве и, ничего не успев сделать для Отечества, очень скоро был смертельно ранен осколком гранаты, отправлен в Ярославль, где спустя три недели скончался от ран.
Точно так заканчивает свою жизнь Николай Алексеевич Тучков, бессмысленно, из-за ошибки (или интриг) Беннигсена, выведенный из назначенной Кутузовым засады и поставленный на Утицкой высоте прямо перед неприятелем. Может, это и простое совпадение, но известно, что Толстой разобрал огромное количество документов и архивов тех лет, и многие его герои – доподлинные исторические лица, а многие появились как собирательные. Теперь уже никто этого не узнает, да и важно ли это. Факты, факты и факты, без вымысла, настолько выразительные сами по себе, что из них и составлялся характер, потому что в конечном итоге именно поступок определяет человека. Вот задача в описании жизни Тучковых, о которых мало известно. Но неизвестность эта – лучшее доказательство их достоинств.
Маргарита
Любовь – вот мое упование
…Слова императора вывели женщину из задумчивости. «Кланяюсь вам, Ваше превосходительство, разделяю скорбь Вашу, – сказал Николай I, спешившись, и подал ей руку. – Но день славный!»
Эта женщина, опередившая императора, по его собственным словам, в увековечении памяти русских героев, была инокиня Спасо-Бородинского монастыря Мелания, в миру Маргарита Михайловна Тучкова.
Замечательная женщина своего времени, жена и почитательница самого младшего из братьев, Александра Алексеевича, сделавшая для своего Отечества и мужа не меньше, чем прославленные жены декабристов.
Маргарита по праву носила фамилию Тучковых. Она была Тучковой по своей природе, образу мыслей и жизни. Она была не только женой Александра, она была сестрой всем его братьям.
Эта женщина превратила прошлое в свое настоящее. Она берегла и хранила его. И в этом заключался ее нравственный подвиг, потому что без прошлого нет и не может быть настоящего и будущего.
Маргарита Михайловна Тучкова, дочь подполковника Михаила Петровича Нарышкина и княжны Варвары Алексеевны Волконской, родилась 2 января 1781 года.
С детства она отличалась нервным, восприимчивым характером, была вспыльчива по мелочам, но никогда и ни на кого не держала в сердце злобы. Быстро раскаивалась в своей дерзости и не находила себе места, пока обиженный ею человек, будь то подруга или горничная, не прощал ее. Любимым ее занятием было чтение и музыка, глубокий голос ее, когда она пела на праздниках, находили прекрасным.
Она была высокого роста, стройна, лицо же ее было некрасиво. Правда, стоило человеку заговорить с ней, как он попадал во власть ее живых зеленых глаз и был окончательно покорен живостью ее ума и манер. В шестнадцать лет ее выдали за Павла Михайловича Ласунского, который женился из-за приданого и не мог оценить достоинств жены, кроме единственного, что женился на юной девушке. Продолжая вести холостяцкий образ жизни, отдалив от себя жену, он по-своему «позаботился» о ней – окружил молодыми людьми из числа своих знакомых.
Так впервые увидела в своей гостиной Маргарита Михайловна Александра Алексеевича Тучкова и была поражена его красотой, молодостью и мечтательной задумчивостью. Она полюбила и встретила полную взаимность. Но что оставалось ей, жене Ласунского, воспитанной в строгости и добродетели, с детства не склонной к компромиссам с совестью? Только плакать ночами от несбыточности мечты и молиться. Ее мать узнала о несчастливом замужестве, а так как репутация Ласунского была везде хорошо известна, то развод был получен легко, и Маргарита Михайловна возвратилась в отчий дом.
Вскоре после этого Тучков приехал просить у Варвары Алексеевны руки ее дочери и… получил отказ:
– Я благодарна за честь, милостивый государь. Не скрою, это родство было бы нам приятно. Но дочь моя теперь в таком состоянии, что мысль о брачных узах ей неприлична.
Отказ произвел такое глубокое впечатление на обоих влюбленных, что с Маргаритой Михайловной сделалась нервная горячка, а Александр Алексеевич в тот же день начал сборы, и неделю спустя в солнечный декабрьский день 1802 года отбыл за границу. Прежде в Германию, затем в Париж, под предлогом, что хочет совершенствовать свои знания в науках.
…Вещи были упакованы и устроены в дорожной карете, кучер уже сидел на козлах и ждал распоряжений. Уже перекрестила Александра на дорогу мать Елена Яковлевна, надавала наставлений, просила беречь себя, возвращаться поскорее, можно было ехать, но Александр Алексеевич медлил. Потом, все же решившись, подозвал к себе мальчика, на вид самого смышленого из тех, что собрались поглядеть на отъезд барина.
– Сбегай к Нарышкиным, барышне передай, она к обедне сейчас выйдет, – быстро проговорил Тучков и вдруг вспыхнул.
Мальчик зажал в руке вчетверо сложенный листок и, ничего не отвечая на вопросы детей, припустился со двора.
Александр еще раз оглянулся вокруг, подышал в ладони, потеребил перчатки, поправил воротник. Еще раз поцеловал руки матери, улыбнулся старшему брату Николаю, который, уже простившись с ним, смотрел из окна кабинета, и сел в карету.
– Но, милые, – в ту же секунду крикнул замотанный в тулуп кучер, и две вороные, весело хрустя на морозе упряжью, тронулись.
А Маргарита Михайловна Нарышкина с этого дня стала обладательницей письма, в котором было стихотворение, написанное по-французски, и каждая строфа оканчивалась стихами:
Оно поддерживало ее в годы разлуки и береглось ею как святыня до самой смерти.
Прошло время, но их любовь не остыла. Через четыре года Александр Алексеевич обратился с предложением к Нарышкиным второй раз. Они дали согласие, и в 1806 году влюбленные соединились навсегда. Маргарите Михайловне было 25 лет, Александру Тучкову 29.
Когда начался шведский поход, Маргарита Михайловна настояла на том, что поедет с мужем, переодевшись в мужское платье, в должности его денщика. Ей говорили о трудностях военного житья, лишениях, опасностях, отговаривали, но не уговорили.
– Расстаться с мужем мне еще страшней, – был непоколебимый ответ, и все отступили.
У Тучковых и Нарышкиных была одна общая родовая черта. Выбрав какое-нибудь дело или человека по душе, они посвящали ему всего себя без остатка, и иначе быть не могло. Это было в родителях, это передавалось детям и вселяло в старших волнение и гордость за них.
Солдаты полюбили жену своего начальника за простоту обращения, веселость, полное отсутствие жеманства и капризов. Она была добрым товарищем, и они изо всех сил старались скрасить ей тяжести военного похода.
Вот как описывает писательница Т. Толычева состояние Маргариты Михайловны во время какого-нибудь сражения: «То она молилась, то прислушивалась к пушечным выстрелам… Но все было забыто, когда прекращалась пальба, барабанный бой возвещал о возвращении наших войск, и она выбегала на дорогу и узнавала издали всадника, скачущего впереди полка».
Перед Отечественной войной 1812 года полки Тучкова стояли в Минской губернии. У Маргариты Михайловны родился сын, названный Николаем, в честь старшего брата, которого особенно любил Александр Алексеевич. По желанию Александра молодая мать сама кормила мальчика, несмотря на противодействие родных и докторов, считающих это совершенно неприличным и вредным. Маргарита любила своего сына с той страстностью, которую вносила во все свои привязанности.
Узнав, что мужу приказано следовать в Смоленск, она настояла на том, чтобы проводить его. Полки двинулись.
Дороги были скверные, шли медленно и под Смоленском остановились в маленькой деревеньке, чтобы переночевать. В избе было душно, грязно, спать приходилось на соломе, разбросанной по полу. Маргарита Михайловна ничего не замечала. Она не отходила от мужа, отвечала невпопад, мешала всем своей бездеятельностью и под конец дня расплакалась безо всякой причины. Александр подумал, что виновата дорога, устроил ее поудобнее на своих плащах и долго сидел, вглядываясь при тусклом свете свечи, как засыпает жена, как разглаживаются скорбные морщинки у ее губ, носа.
«Скорей бы уже конец! – подумал он и тоже закрыл глаза. – Уж после этого Он меня отпустит непременно». И перед внутренним взором его замелькали радостные, летние картины: Николенька, Марго, тульское имение, голуби, малинник, охота.
В 1810 году Александр Алексеевич Тучков уже подавал рапорт об отставке. Военная служба больше не занимала всех его мыслей. Хотелось уехать в тульское имение и заняться воспитанием сына. Император оставил его на службе со словами: «Ты еще понадобишься, скоро для таких, как ты, много дела будет».
«Вот и дело, – подумал Александр, засыпая, – сделаем, и все. Скорей бы!»
Маргарита Михайловна спала в ту ночь беспокойно. Сон не принес ей облегчения. Она видела себя, идущей по незнакомому городу. Прежде город был ей интересен, и она с любопытством разглядывала улицы, дома, торговые лавки. Но потом какая-то однообразность, навязчивость вывесок на всех домах стала раздражать ее. Она решила внимательнее прочесть то, что там было написано. «Твоя участь решится в Бородине» – значилось на дверях, окнах, стенах. И вдруг тоска от этой надписи, ощущение, что ничему никогда уже не суждено сбыться. Бессмысленность и этого незнакомого города, и всей ее жизни. В страхе она проснулась. Разбудила мужа и спросила:








