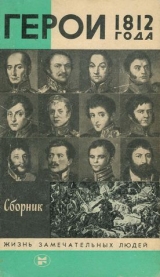
Текст книги "Герои 1812 года"
Автор книги: Вольдемар Балязин
Соавторы: Владимир Левченко,Валерий Дуров,Владимир Тикыч,Вячеслав Корда,Лидия Ивченко,Борис Костин,Борис Чубар,Александр Валькович,Виктор Кречетов,Марина Кретова
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 43 страниц)
За сражение под Островно впоследствии Петр Петрович получил алмазные знаки ордена Александра Невского 1-й степени.
Под Смоленском войска наконец соединились. Начался самый тяжелый этап войны. Здесь поколебалась уверенность корсиканского самозванца в своей непобедимости, как поколебался и миф о его гениальности. Если многие еще в это верили и, быть может, трепетали, то серьезно подумывали и о том случае, когда пятнадцать тысяч отборной конницы Мюрата, поддержанные корпусом Нея, не смогли разбить недавно сформированной дивизии генерала Д. П. Неверовского. Несмотря на несоразмерность сил и беспрерывные атаки, пехотные каре, защищаемое растущими по краям дороги деревьями, дошли до посланного им на помощь корпуса Раевского… Планы Наполеона обойти русскую армию с тыла и ударить на нее своей хваленой конницей были сорваны. Горсть русских целый день пятого августа удерживала в своих руках город от нападения всей французской армии, результатом чего были огромные потери с обеих сторон, но нападавшие, надо думать, потеряли в два раза больше. По документам, захваченным у французов, потери их простирались до четырнадцати тысяч. Наши потери исчислялись в шесть тысяч, но эти данные, как говорил сам Коновницын, несколько преуменьшены, в то время, как наши писатели потери неприятеля в тот день полагают в двадцать тысяч человек.
Город был оставлен. Наполеону, который, как принято считать, хотел закончить кампанию этого года Смоленском, ввиду таких потерь не оставалось ничего иного, как продолжать искать генерального сражения, победа в котором одна могла перекрыть огромные потери под крепостью, а заодно угрозой Москве вынудить Александра на подписание мира. Тогда вряд ли кому могло прийти в голову, что ничто, никакой мир, кроме полного поражения, не могло остановить его на этом, оказавшемся гибельным для него, пути. Смоленск, а затем Лубино только усугубили его решимость.
Защищая Смоленск, разрушаемый вражеской артиллерией, русские люди непреложно должны были задуматься о том, что же вызвало поход на Россию? Чем виноваты были эти дома, лавки, башни и храмы, эти ни в чем не повинные жители, помогавшие кто чем может воинам, заведенным так далеко от границы Отечества несметной вражьей силой? Утверждение того, что войны Наполеона затеивались для слома экономической мощи Англии, его первейшего врага, и что поэтому-де и вторглись в пределы Отечества полмиллиона иноземцев, было и позднее для русского слуха «сказкой», выдуманной писателями, не говоря уже о том грозном времени. Русскому мужику, да и не мужику вовсе, вряд ли кто мог втолковать, что война началась из-за того, что Россия не выполнила навязанных ей требований континентальной блокады английских товаров. Так ли это было на самом деле и блокада ли Англии послужила истинной причиной вторжения?
В Варшаве, перед самым своим нашествием, Бонапарт сказал французскому дипломату Прадту: «Через пять лет я буду господином мира: остается одна Россия, но я раздавлю ее!» Эта фраза может многое объяснить. Мечты о мировом господстве уживаются в ней рядом с существованием Англии, которая, похоже, была не таким уж и «первейшим врагом», как о том говорили. Может быть, каким-то определенным силам, преследующим свои цели, было удобным много лет подряд держать в страхе Англию, пугая ее вторжением со стороны Франции, в то же время мобилизуя последнюю на новые и новые завоевания, чтобы таким образом завершить революцию возведением на престол своего человека? Не поэтому ли адмирал Нельсон «прозевал»-таки в тумане направлявшегося с экспедиционным корпусом в Египет Бонапарта, и не потому ли, потопив французскую эскадру при Трафальгаре, он и посмертно не получил тех почестей, на которые рассчитывал, хотя в полном смысле избавил Англию от вторжения? Ведь только в 1867 году, уже после того, как российский император добавил своих денег на сооружение памятника национальному герою Англии, удалось закончить работы и открыть его!
Но, как бы там ни было, к тому времени, как Франция потеряла свой флот, она уже превратилась в монархию, «самовластительный злодей» Наполеон объявил себя императором, узурпировав власть, революция тем самым получила свое завершение и нужда в подстрекательстве к войне с Англией упала, стала не столь важной: распутная девка Франция породила достойное себе дитя – чудовище Наполеона и его империю – плоть от плоти тех сил, которые заворачивали делами и в другой своей вотчине – Англии. Предлог для завоеваний – экономическая борьба с последней – остался реалией лишь для непосвященных и утратил свой смысл. Являясь по-прежнему политическими противниками, Англия и Франция с того времени вступили как бы в состояние нейтралитета. Стало быть, выдвигая претензии относительно экономической блокады, Наполеон лгал. Учитывая природу его появления на политической арене, можно твердо сказать, что цель его походов была не экономической. Это же заложено и в его словах, обращенных к Прадту, в их внутреннем противоречии: Россию он надеялся захватить в один прием, победив ее в генеральном сражении, в то время как, мечтая о мировом господстве, полагал, что добьется его только через пять лет. Только после того он надеялся (или мог осмелиться) «раздавить» Россию, уже «захваченную» им вместе с другими странами, но почему-то в известном только ему ряду остававшуюся «одной», то есть единственной, за что ее и надо было раздавить. Почему она оставалась одна, в каком смысле? Тут должно насторожить слово «раздавить», исходившее явно не из его лексикона. Даже в запальчивости он вряд ли стал бы швыряться им по той простой причине, что какой бы он ни был, большой или маленький «наполеон», но он был тем, кем назывался, поэтому всегдашняя его цель была победить, но не раздавить. Последнего желали явно другие. К тому времени из европейских государств только Россия, одна-единственная, не поддавалась проникновению в нее щупальцев гигантского банкирского спрута Ротшильдов, уже опутавших и закабаливших Европу, а с нею и Америку. Страна, тысячелетие стоявшая на своем, свойственном только ей укладе, на своих коренных нравственных основах и жившая своим натуральным хозяйством, не зависела от космополитического банковского капитала, и это-то и не устраивало, именно из-за этого ее нужно было ввергнуть в губительную для нее войну, чтобы, покорив, поставить ее хозяйство на буржуазный капиталистический лад, а древний уклад «раздавить», то есть уничтожить в народе национальное начало и привить ему космополитическое и безродное. Задача была не из простых, поскольку представители этого банкирского дома явно не пользовались доверием ни народа, ни российского правительства. В связи с этим и был организован международный заговор против России. В этом свете ясным представляется чуждость Англии интересам Наполеона, которому не было до нее никакого дела; в недрах ее еще издавна свил гнездо и пустил надежные корни банковский капитал. Первая страна, пошедшая по капиталистическому пути развития, могла ли она быть искренней союзницей России, даже если бы не была связана тесными узами с банкирской Францией и тем самым с Наполеоном – безродным выскочкой, поднявшимся на вершины власти, но бывшим, вместе с тем, всего лишь исполнителем чужой воли? Увы, будучи плоть от плоти с Францией, она могла только вредить России теми или иными способами и по той же причине, по которой это делала Франция. Она всеми доступными мерами торопила Россию в военных действиях, а сама в то же время старательно тормозила с доставкой в Россию недостающих русской армии ружей, едва согласившись поставить тридцать тысяч штук, заломив за них тройную цену, и это тогда, когда Россия была один на один в схватке с почти всею Европой, истекала кровью и не имела в казне достаточных денег. Голландия, кредитами которой издавна пользовалась Россия, была оккупирована Наполеоном. Как всегда, выручил русский народ, пожертвовавший на ведение войны суммы, сходные с суммами, расходованными правительством.
Традиционный уклад жизни народа, его нравственность, духовность препятствовали проникновению новых отношений в Россию более, чем что-либо другое, поэтому его и нужно было сломить, а для этого врагу нужно было поразить Россию в самое ее сердце.
Сердцем страны, из которого произрастали корни духа народного, была Москва со своими старинными церквами, с росписями, с иконостасным богатством; со старинными библиотеками с манускриптами, летописями, книгами; со своей живописью и произведениями декоративного и прикладного искусства; со своими легендами, сказаниями, преданиями, молвой, духом; со своим материальным богатством; со своим старинным ансамблем, со своими названиями и признаками и со всем прочим, чего нельзя было измерить ни гирями, ни аршинами, ни золотниками, ни штуками, но что составляло и составляет душу и сердце всякого русского и что так до слез было и есть дорого ему, и не только ему, но и не так давно обрусевшему инородцу. Недаром Петр I в борьбе с боярской оппозицией, да и с народом, чтобы оторвать страну от традиций, перенес столицу в болото, в пустыню, на ровное голое место, в чухонию. Этот акт был свидетельством беспримерной проницательности царя, зревшего в самый корень проблемы. Как говорил историк Иван Егорович Забелин, занимавшийся историей Москвы, она втянула в себя все самое выдающееся, самое прекрасное, что создали разные края России в области культуры. Все народы России видели в ней свою святыню, символ своей Родины, свою матушку. И с тем большей легкостью пошли народы Европы на международный заговор против России, чем больше он отвечал интересам их буржуазии, а точнее – того самого ротшильдовского спрута, которого она олицетворяла и который был ее фактическим хозяином. Наполеону гораздо важнее и удобнее было бы взять Петербург и навязать на выгодных для себя условиях кабальный для России мир, но этим не достигалась бы тайная цель похода, вот почему он вопреки всякой логике, о которой говорило большинство писателей, не ограничился ни Витебском, ни Смоленском, а как бы вынужденно пошел дальше, на Москву, взятие которой не сулило ему никаких особенных выгод, но которую он должен был уничтожить, а Кремль взорвать, чтобы не осталось и памяти об утверждении русской государственности, символом которой и был Кремль, как не осталось бы и свидетеля бесчисленных поражений международного зла, пытавшегося «раздавить» Русь во все времена, проламывая ее рубежи то с Востока, то с Запада, то аварами, то печенегами, то монголами, то поляками, то шведами, а то французами с «двадцатью при них нациями». Проникая за его стены, все эти набродные толпы, сброд, или, как часто тогда говорили, «сволочь», неизменно убирались восвояси, если их не вышвыривали железной рукой народного гнева.
Хотя полностью взорвать Кремль ему не удалось благодаря стараниям неизвестных русских патриотов, потушивших фитили фугасов, черное дело свое он частично-таки сделал, где сокрушив российские святыни, а где надругавшись над ними, как это произошло с соборами Кремля. а где и в полном смысле подрезав корни национальной культуры, уничтожив в огне пожаров нашествия ее ценности, в частности, подлинник «Слова о полку Игореве». Тайная цель похода народов Европы на Россию не была достигнута. Сомнительные идеи, с которыми к нам обращен был Запад, не нашли достаточного отклика в сознании большинства русских людей. Но тогда, сразу после сожжения Москвы, врагам России показалось, что цели они достигли и поход, невзирая на полное свое поражение, оказался, по их мнению, победным, поскольку вместе с Москвой должно было многое сгореть из памяти народной. Наполеоны и всякие другие «граждане мира» об этом только и мечтают, полагая, что, вытравив из народа живую память прошлого, они прекратят его существование как нации. Но они всегда забывали о том, что сокровенная память народа сокрыта совсем не в зданиях, которые можно разрушить, а в тысячелетней его истории…
Пожар Москвы был не последней бедой. Как писал в своей книге «Россия в 1839 году» маркиз Астольф де Кюстин: «…Перманентный заговор против России ведет свое начало от эпохи Наполеона… С той эпохи и зародились тайные общества, сильно возросшие после того, как русская армия побывала во Франции и участились сношения русских с Европою. Россия пожинает плоды глубоких политических замыслов противника, которого она как будто сокрушила». Речь здесь идет о масонских ложах. Маркиз де Кюстин ошибается, считая, что тайные общества появились в России во времена Наполеона. Они были в ней издавна и тянулись из неприметной маленькой Шотландии, которой, казалось бы, не по силам оказать заметное влияние на такого колосса, каким была Россия. И вместе с тем не будем забывать о том, что Шотландия – это все та же Англия, поглотившая в своем чреве массы гонимых с материка эмигрантов всех времен и народов. Масонство, как политическая сила, вышло на поверхность в начале XVIII века именно в Англии с появлением так называемых конституций Андерсена. Из Франции масоны пришли в Россию действительно несколько позже, проникнув в Петербург в начале девятнадцатого столетия, то есть в эпоху Наполеона. Франкмасонская ложа «Звезда Востока» объявилась на Руси, когда между Наполеоном и Павлом I установились дружественные отношения, остров Мальта был отдан России, ее император сделался великим магистром мальтийского ордена, а казаки Платова начали свой знаменитый рейд «в Индию». Тут-то и хлынули в Россию широким потоком комиссары «вольных каменщиков», вновь поступающим членам и правительству проповедовавшие и любовь к простому народу, и сострадание к нему, и необходимость его просвещения, в то время как на более высших этажах посвящения идеи эти трансформировались в идеи разрушения древнего уклада, о котором уже говорилось. Их разрушительная деятельность на время приутихла, когда между Россией и Францией наметился разрыв в отношениях, закончившийся войной 1805 и 1807 годов. После Тильзитского перемирия масоны опять обосновались вокруг французского посланника при русском дворе, общество окончательно офранцузилось, так что и говорить-то по-русски разучились. Война 1812 года, казалось бы, развеяла иллюзии некоторых западников, разговоры стали вестись только на русском, одежда выбиралась только русская, но… после того, как армия побывала в Париже, масоны наводнили Россию: почти каждый полк привез с собою из-за границы эту заразу, в свое время взрастившую Наполеона и поставившую его на самую высокую для язычника ступень посвящения. Над ним были уже только те, кто масонство «кормил», все те же Ротшильды…
Вот почему, невзирая на ужасные испытания, на которые Бонапарт обрек все народы Европы, он прослыл гением, о нем писались книги, картины многих художников мира отражали его деяния, а копии бюстов с характерной треуголкой стояли чуть ли не в каждом дворянском доме как Западной, так и Восточной Европы, включая и Россию, частным образом тоже желавшую воздать должное величию того, кто ее жег, грабил, губил, насильничал и ею же был ниспровергнут. На самом деле для всех для них он был только вождь, начальник, которому все они обязаны были, пускай не всегда сознательно, беспрекословно подчиняться по своим законам. Таковы превратности истории, когда в нее вмешиваются силы зла, способные, как видно из сказанного, все поставить с ног на голову: мрак назвать светом, а выскочку, безродного и безнравственного проходимца, без финансовых заправил ничего собою не представляющего, назвать гением и, главное, воспитать на этом губительном для нравственности взгляде поколения, представители которых всегда повторяли, ничего не понимая в главном, зады масонских трудов наполеоновских панегиристов.
К счастью, русская духовность не была разрушена и даже как-то затронута ни вторжением, ни его последствиями, чего не понял маркиз де Кюстин. Русские люди сразу распознали демоническую природу завоевателя, недаром же Петр Петрович Коновницын со всеми россиянами по мудрой народной простоте называл его врагом мира. Выражение это в те времена толковалось однозначно, и, что главное, в этом, видимо, не было неправды: Наполеон в какой-то степени именно так и воспринимался и был-таки истинным врагом мира!
Россия устояла, хотя «семя тли» и было посеяно. Мировое зло, посягнувшее на свет, который неизбежно, при любых обстоятельствах, несет миру Россия, было остановлено не только на материальном, но и на духовном уровне, недоступном никакому проникновению. Кирасирами Андриановыми [4]4
Увидев, что Багратион ранен, кирасир Андрианов, находившийся при Багратионе, подбежал к нему и со словами: «Ваше сиятельство, вас везут лечить, во мне уже вам нет надобности», – и в виду тысяч, пустился, как стрела, мгновенно врезался в ряды неприятелей и, поразив многих, пал мертвым.
[Закрыть]полна российская история от древности до последних дней. Их героизм вряд ли понять расчетливому уму, как не понять и происходящего в нашей истории. Весь ее ход утверждает: каким бы испытаниям российскую землю ни подвергали, чем бы русский народ ни обольщали – глубинная, сокровенная, заповедная Россия почти не меняется и живет себе своей заповеданной жизнью, чему есть немало примеров. После трехсот лет владычества ордынцев они сгинули «яко обры», и клочка от Орды не осталось, а их самих перемолола и поглотила славянская кровь, в то время как Россия расцвела могущественнейшим централизованным государством со своей высокой духовной культурой. В нашествии Наполеона повторилась судьба всех захватчиков: необъятная империя его исчезла, растаяла как дым, Россия же опять вопреки всему возвысилась. Тотальное проникновение в нее растлевающего зла, основанного на несвойственном русскому народу чувстве личной наживы и вседозволенности, оказалось отодвинутым. Приходящее в ее пределы, оно, зло, всякий раз невидимым образом обращается ей во благо, поднимая национальное самосознание народа на небывалую высоту. И как тут не вспомнить с благодарностью великих русских писателей, будивших это самосознание и свято веривших в промыслительную роль России в мировой истории.
Когда французов остановили крепостные стены Смоленска, Наполеон приказал штурмовать Молоховские ворота, прикрываемые 3-й пехотной дивизией Коновницына. В распоряжении Даву было пять пехотных дивизий. Три из них и пошли на штурм густыми колоннами, пользуясь тем, что не могли поражаться фланговым огнем наших тяжелых орудий с того берега, где стояла армия Барклая. Их встретили выстрелами в упор установленные в воротах пушки и стрелки, которыми были унизаны зубцы старой крепости. Батареи неприятеля перенесли сюда весь свой огонь. Град снарядов осыпал воинов Коновницына, принявших весь удар на себя.
Защищали ворота с невероятной стойкостью. Только немногие из окружавших Коновницына в этот день уцелели и остались невредимы. Сам он, раненный в руку, даже не позволил сделать себе перевязки, чтобы ни на миг не ослаблять ряды своим отсутствием; обернув руку платком, он во весь день оставался в строю, носясь перед ними на своем белом коне и распоряжаясь всем ходом сражения, которое закончилось только ночью. Огонь был настолько силен, что несколько раз пришлось переменять поставленные в воротах четыре орудия с прислугой. Причем не только люди и лошади, но и пушки полностью выходили из строя. В самый критический момент, когда французы все же ворвались в ворота и «жестокая сеча» закипела внутри ограды, на помощь подоспел с 4-й дивизией принц Евгений Вюртембергский, подкрепивший частью своих полков Дохтурова, отбивавшегося от наседавших Понятовского и Нея, а с остальными вместе с Коновницыным ударил в штыки, и французы были выбиты из крепости. Отбились и на других участках. Несмотря на огромный перевес в силах, враги не смогли сломить упорство мужественных защитников. В семь часов вечера была их общая атака на крепость, но и она не принесла им успеха. Тогда артиллерия, усиленная сотней тяжелых орудий, обрушила весь свой удар на город, подвергая его полному разрушению.
Ночью с 5-го на 6-е русские войска оставили Смоленск. Арьергардом командовал Коновницын и вышел из города последним. Рано утром армия остановилась на позиции на правой стороне Днепра. Мост горел. От него загорелось предместье, стрелки, прикрывавшие берег, не находили себе места от огня, стали прятаться в садах, где жар испекал яблоки на деревьях, поэтому и там они не могли в достаточной мере уберечься от пожара. Этим воспользовались французы. Переправившись выше города вброд, они чуть ли не вплотную подобрались к нашим батареям. Барклай был вынужден снова обратиться к Коновницыну. На виду у всей армии Петр Петрович с первыми подвернувшимися войсками ударил с горы от кладбища в штыки. Многие французы пали на месте, а остальные были обращены в паническое бегство, сброшены в Днепр и почти все были утоплены в нем, причем в плен было взято 8 штаб-офицеров. Это было третье сражение с французами, в котором участвовал Петр Петрович. В результате его русские стрелки целый день удерживали французов на той стороне реки.
На следующий день произошло сражение при Лубине, явившееся естественным продолжением Смоленской битвы. По наведенному выше города мосту, французы переправились через реку с намерением отрезать пути отступления русской армии, чтобы навязать ей генеральное сражение, так желаемое Наполеоном. Трехтысячный отряд Павла Тучкова, идя в авангарде, вышел у Лубина с проселочной дороги на Московскую столбовую и двинулся от перекрестка к Смоленску с намерением прикрыть армию со стороны города. Это было сделано необыкновенно кстати. Ему тут же повстречался корпус Нея. Завязалось сражение, ставшее в результате чуть ли не генеральным. В самый критический момент Коновницын со своей дивизией поддержал Тучкова, по своему обыкновению ударив в штыки, и восстановил прерванную было неприятелем линию. Французы бешено атаковали, но не продвинулись ни на шаг. У Заболотья он оттеснил неприятеля на всех пунктах, невзирая на жесточайший огонь, а на правом фланге отбросил французов на большое расстояние и удержал за собою место сражения. Особенно жарким было дело к вечеру, когда в лесных местах колонны должны были сойтись в рукопашную. Неприятель был опрокинут и назвал это сражение «aux boix des innocents» – битвой в девственных лесах.
Тем временем русская армия вышла к Московской дороге и в полном порядке отступила. В грамоте о награждении графским титулом об этом сражении сказано так: «7-го при Любовичах, где командовал многим числом войск и удержал место…» Награда за дела при Смоленске нашла его уже в Пруссии. Это был орден Владимира 2-й степени.
Русская армия с тяжелыми арьергардными боями отступала по столбовой Смоленской дороге. Вечером 16 августа, после оставления Вязьмы, Коновницын был назначен командовать арьергардом обеих армий, который усилили его дивизией и регулярной кавалерией. С рассветом неприятель занял город и крупными силами рвался раздавить арьергард. По малочисленности артиллерии Петру Петровичу пришлось перебросить часть войск под командованием барона Крейца со своего левого фланга к центру, предупредив Дорохова, которого тот прикрывал по Бельской дороге, чтобы он выставил свое боевое охранение.
Сражение шло до поздней ночи, но как французы ни рвались, конница Мюрата все же не смогла обойти центральный арьергард: левый фланг его был надежно прикрыт Крейцем, который отошел к Бельской дороге только глубокой ночью. Этот день показал, что Коновницын наилучшим образом справился с поставленной задачей. Умело управляя разного рода войсками, маневрируя всеми наличными средствами арьергарда, он давал возможность армии спокойно отступать. Все это напоминало арьергардные бои прославленного Багратиона у Шенграбена. Недаром связь с армией Коновницын держал через него.
Многие авторы замечают, что, задержи русские на две, даже на одну неделю французов, то взяли бы те Москву или нет – неизвестно. Замечание не без смысла. В связи с ним внятнее представляется значение арьергардных боев Петра Петровича Коновницына, каждое арьергардное дело которого, по словам современников, по количеству участвовавших с обеих сторон войск и вооружений, равнялось генеральным битвам восемнадцатого столетия.
Арьергард твердо держал французов на почтительном расстоянии от армии, позволяя ей со всеми тяжестями, обозами, ранеными, отсталыми, беженцами и скотом беспрепятственно и в полном порядке двигаться к своей цели, как оказалось – Бородинской позиции. Разрывы между армией и арьергардом порой составляли до сорока верст, что ставило сам арьергард в величайшую опасность, которая могла последовать от нападения на него всей французской армии. В селениях не было ни души. «Бессмертный» Коновницын бодрствовал «с твердостью и успехом», удивлявшими самих французов. Немудрено, что было не до писем. Только одно коротенькое письмо сохранилось от того времени: «Я с 17-го числа командую двух армий авангардами, всякий день от утра и до ночи в деле, слава Богу и не ранен, только лошадь соловая, кою купил у доктора, ранена в ногу черепом от бомбы… Почты не ходят, что же нам, душа моя, делать, так сказать: да будет с нами милость Божия? А 4 дни ни одного письма не писал, ибо и вправду некогда. Детей милых благословляю, крещу, цалую и тебя, моего истинного друга, коим тебе по смерть пребудет. П. К.».
Командуя арьергардом, генерал Коновницын в полной мере доказал, что может сделать «храбрость, соединенная с благоразумием». На ровных местах кавалерия выстраивалась в шахматном порядке, а там, где встречалась удобная позиция для орудий – высота, прикрытая реками, болотами или узкими проходами, то батареи ставили с таким расчетом, чтобы они могли действовать перекрестным огнем, а в удобных местах организовывали оборону в несколько эшелонов; в лесах делали засеки и пехотные засады.
Схватки были жесточайшие, поэтому недаром Петр Петрович в письме назвал арьергард авангардом, стоя ежедневно и ежечасно лицом к лицу с неприятелем, он не мог иначе представить свои действия, нежели чем авангардными. Твердо пообещав Кутузову не позволить перешагнуть через арьергард, «не проглотив его», Коновницын сдержал слово. До самого Бородина он был в беспрерывном огне, сдерживая упорные нападения всей кавалерии Мюрата. Иногда гремело с обеих сторон более ста орудий одновременно. Ни разу не удалось Мюрату оттеснить его прежде назначенного к отступлению времени, не было потеряно ни одной повозки, ни одной пушки. Он заботился не только о спокойном отходе армии, но и о том, чтобы окрестные жители успевали вывезти свои пожитки.
Внешне отступление наших последних войск представляло собою «величественное» и вместе с тем «трогательное» зрелище: арьергард двигался среди пожаров сел, хлебов, стогов сена, устроенных самими мужиками, среди этих самых мужиков и самого разного народа, стекавшегося из окрестностей на крестьянских подводах и господских экипажах, пешком и верхами. Изо всех сил старались не отставать раненые. «Духовенство с иконами и хоругвями, окруженное молящимся народом, с непокрытыми и поникшими головами, шло посреди полков Коновницына, стройных, но безмолвных и печальных». Могли ли воины и беженцы безучастно взирать при этом на оставляемые дома, поля, леса и храмы Отечества, на пожары, их объявшие? «Вера отцов была поругана, Россия казалась безсильною, – говорил современник. – И прекрасен был в то скорбное время Коновницын! Давая в течение дня отчаянный отпор Мюрату, по окончании боя являлся он ангелом-утешителем среди бесчисленного множества смольян и других беглецов, толпившихся вокруг его лагеря». Солдаты его делились с беглецами своей последней коркой, слыша при этом искреннюю благодарность из уст своего командира.
В рапорте Багратиону за 20 августа он докладывал: «…с 7 часов утра неприятель с большим числом кавалерии и пехоты и с орудиями самого большого калибра преследовал ариергард. Несколько раз удерживали мы место и всегда были принуждены уступить оное… К вечеру он с 40-ка ескадронами атаковал мой правой фланг под протекциею двух батарей. В 9-м часу дело прекратилось…»
Тринадцать часов длился этот бой! Атаки следовали одна за другой. На расстоянии шестнадцати верст восемь раз меняли позицию, и все это без отдыха и без пищи. Под Гжатском нужно было последовательно проскочить лес, город и мост через Гжать: все это были узкие места, понуждавшие вытягиваться в длинную колонну, движение при этом значительно замедлялось, арьергард основательно отставал от основных сил. Французы не замедлили воспользоваться нашими затруднениями и стремительно и настойчиво атаковали, но и в этом сложнейшем положении войска арьергарда остались себе верны, отбили все атаки и в полном порядке преодолели все препятствия. С отменной быстротою, неустрашимо и мужественно, под жесточайшим огнем противника саперы наши зажгли мост, «через что и остановили неприятеля, а ретировавшиеся наши войска довольно имели времени к выстраиванию».
С приближением к бородинской позиции боевые действия арьергарда уплотняются, поскольку неприятель подтягивает крупные силы, которые с марша может пускать в бой. Арьергардная война велась «неслыханным» для французов способом. Тактика ее отработалась в ходе арьергардных боев. Ночью войска отводились на заранее выбранную Коновницыным позицию. Центр ее, как правило, удерживала пехота, а фланги, если они не были достаточно прикрыты каким-либо естественным препятствием, защищала регулярная кавалерия с казаками. Французы с утра бросались в атаку на тот рубеж, который не могли взять вчера, и, не найдя там никого, конница Мюрата отрывалась от своих и стремительно пускалась в погоню, пока не нарывалась на картечный залп замаскированной на дороге конной артиллерии. Завязывалась жаркая схватка. Отбитые французы откатывались, поджидая подкреплений. Подходила самая мобильная часть их войск. Снова гремела конная артиллерия, половина которой тут же уходила назад, на выбранную позицию, где быстро окапывалась и маскировалась, улучшая естественные прикрытия. Затем, когда неприятель в очередной раз откатывался, снималась и другая часть артиллерии. Пока к французам подходили подкрепления, шло так драгоценное для нас время. Наконец завязывался ожесточенный бой. Передовые части арьергарда, по невозможности держаться, отходили ко второму эшелону, а то и к третьему, если был, пока не начинали отступать, преследуемые оторвавшейся от своих французской кавалерией, и так повторялось несколько раз, пока ближе к вечеру арьергард не останавливался накрепко, давая французам понять, что на сегодня все, отступления больше не будет. Наступала ночь и прерывала разгоревшееся сражение. Между тем армия наша, не теряя ни одной телеги, спокойно уходила.
21 августа главнокомандующий предписал Коновницыну удержаться при селе Полянинове хотя бы четыре часа. В рапорте Багратиону за этот день читаем: «Часть ариергарда с пехотою заняла позицию, хотя не довольно выгодную, при селе Полянинове, но будет держаться сколько можно. Другая часть отойдет за 3 или 4 версты и займет там другую позицию. Ежели с 1-й позиции буду сбит, перейду на вторую и стану там держаться до самой крайности…»








